Текст книги "Введение в эстетику"
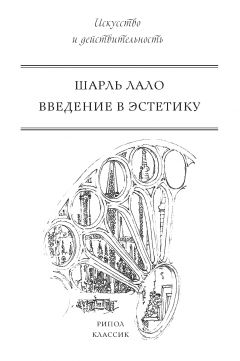
Автор книги: Шарль Лало
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Должен ли быть эстетический метод метафизическим или позитивным? Эта проблема и ее решение тесно связаны с предыдущей, так как дедукция становится возможной лишь после того, как индукция дала ей предпосылки, и дедукции остается лишь анализировать вывод из них; решающее значение имеют, следовательно, именно посылки, от которых дедукция вполне зависит в своем значении, за исключением разве того случая, когда эти предпосылки даны α priori, предшествуют опыту, т. е. носят метафизический характер. Это – единственное возможное исключение из всеобъемлющего экспериментального метода. Из этого следует, что истинно дедуктивная эстетика была бы неизбежно эстетикой метафизической. Большою посылкой служит при этом утверждение, что существует абсолютная красота, красота в себе, Идея Прекрасного, сверхчувственная и непознаваемая. А излюбленные заключения… Впрочем, они лишены всякого значения. Допустим, что могут быть какие угодно заключения, и мы будем лишь снисходительны. Можно сказать, что все великие эстетические системы, начиная с Платона и кончая Шопенгауэром, были лишь частными применениями систем общей метафизики к проблеме прекрасного. Сущность фехнеровской реформы заключается именно в том, что она возбудила оппозицию не столько против дедуктивного метода, сколько против метафизики.
Это ясно на очень простом примере. Известно «золотое сечение», числовое отношение, выражаемое иррациональной дробью 1: 1,6180…, или приблизительно 5/8. Опыт показывает, что если, например, большая и малая стороны четырехугольника пропорциональны этим числам, то такой четырехугольник гораздо более нравится глазу, чем всякие другие, равные по площади, но с иным отношением сторон. Но Цейзинг, впервые открывший эстетическую ценность этого математического отношения, почерпнул ее отнюдь не из опыта. Он a priori определил красоту по ее всецело метафизическому признаку – способности примирять конечное и бесконечное в чувственно воспринимаемом. Затем, при помощи не менее метафизических рассуждений, спорность которых нетрудно заметить, он установил, что это числовое отношение примиряет в себе конечное и бесконечное, ибо оно являет собою беспрерывную дробь, которую можно продолжить в бесконечность, выводя последующие члены из предыдущих, так как 1: 1,6180… = 1,6180…: 1 + 1,6180… и т. д. Проще говоря, одно измерение относится к другому, как это другое к сумме обоих, или иначе: «золотое сечение» выражает такое целое, меньшая часть которого относится к большей так, как большая к сумме обеих, т. е. одно и то же отношение объединяет сначала отдельные члены между собою, а затем с их суммой; эта сумма может послужить исходной точкой для дальнейшей подобной же пропорции и т. д. Может показаться, что такая пропорция выражает собою грезившееся метафизикам примирение между конечным и бесконечным, между познаваемым и непознаваемым, действительностью и идеалом, – разве все метафизики не определяли прекрасное как нечто приближающееся к идеалу? Итак, Цейзинг заключает, что это «золотое сечение» должно быть прекрасным. На самом же деле он долго проверял это следствие на фактах, и далеко еще не известно, что именно в действительности внушило ему этот вывод, тем не менее в принципе этот вывод выдается за чисто априорный.
Фехнер, наоборот, исходя из тех же данных, но уже экспериментальным путем, ограничивался тем, что показывал большое число четырехугольников с различным отношением сторон очень большому количеству экспериментируемых лиц; и действительно, при помощи статистического эксперимента он констатировал, что число нравящихся нам четырехугольников правильно возрастает по мере того, как отношения сторон его приближается к золотому сечению, и наоборот. Точное числовое отношение, его математические свойства и метафизические преимущества не имеют никакого значения для метода: с «экспериментальной эстетикой» мы не выходим за пределы фактов и постоянных между ними отношений, т. е. их законов. Математическая форма, в которую можно облечь эти законы, – форма, всегда остающаяся, между прочим, лишь грубым приближением, – не способна вводить нас в заблуждение относительно их происхождения и чисто эмпирического значения[7]7
Подробности этих экспериментов и их обсуждение см. С. Lalo, L'Esthetique experimentale contemporaine, 1908, стр. 32, 41, 153 и сл.
[Закрыть].
С Фехнером мы, таким образом, строго говоря, идем «снизу вверх»; и даже вверх не поднимаемся особенно высоко: не намного выше того, куда ведут статистика и ее законы, или общий средний вывод. Но и здесь Фехнер еще в достаточной степени сохранил правильную меру: известно, что он был в одинаковой мере отважным метафизиком, когда он за собственный страх пускался в умозрение о непознаваемом, и осторожным экспериментатором, когда он наблюдал факты. В эстетике уместно и то и другое, и все дело заключается в отчетливом различении этих двух моментов мысли. Ибо софизм состоит не в одновременном признании их, а в их смешении.
Но эстетики метафизического направления претендуют более, чем на долю: они требуют привилегий, почти монополии. Что же представляет собою на самом деле этот пресловутый метафизический элемент, который будто бы дан как факт, и даже как наиболее существенный факт, в художественных произведениях?
Если не останавливаться на словесных обобщениях и обратиться к практическому применению, то нетрудно будет заметить, что сторонники «эстетики сверху» усматривают метафизическое начало во всех произведениях искусства именно в той мере, в какой они ничего не выражают. Озадаченные тем, что они не могут открыть источника художественных красот в непосредственно данной природе – так как красоты эти отнюдь не являются точным изображением ее, – они ищут этот источник всецело вне природы. В этом кроется причина стольких умозрений о непознаваемом, стремящихся объяснить неисповедимое; метафизическая эстетика оказывается простым дополнением теории подражания.
«Музыка – самое метафизическое из искусств», – говорит Шопенгауэр, мысль которого в общем удерживает и Багкер. Мы знаем, что музыка отнюдь не выражает собою какого-нибудь определенного состояния вещей, поэтому нужно, чтобы она выражала сущности их. Раз постулатом искусства является необходимость выражения чего-нибудь, то музыка, не подражающая ничему в этом естественном видимом мире, должна выражать нечто сверхъестественное. И вот, чистая музыка, оркестровая симфония принимается за самую непосредственную эманацию «воли в себе», как ни странно покажется это на первый взгляд. «Музыка, – говорит Бетховен, – откровение, стоящее выше всякой мудрости и всякой философии».
Архитектура, в которой элемент подражания так же незначителен, как и в музыке, выражает, когда она лишена определенных пропорций, бесконечность: начиная с эпохи романтизма все отметили метафизическое стремление к небу, выражающееся в готических соборах. Наоборот, когда здание отличается рациональными и вполне определенными пропорциями, как греческие храмы, архитектура выражает, согласно Цейзингу, гармоническое сочетание конечного с бесконечным. С какой бы стороны ни подошли мы к этому учению, оно всецело метафизично.
Изобразительные искусства наделали больше хлопот: если они отражают чувственно воспринимаемый мир и отнюдь не могут отдалиться от него, не погрешая против красоты, то чего ради стали бы мы выходить за пределы чувственно постигаемого?
Тем не менее поэзия метафизична в той мере, в какой, ничего не описывая, она, при помощи ритма, образов и их сочетаний, внушает нечто иное, чем идеи и факты, эмоциональные переживания, заключающие в себе нечто неизреченное, сверхчувственное, таинственное, следовательно, a fortiori метафизическое, ибо не надо быть очень строгим к эстетическому определению этого слова.
Что касается живописи, то она остается более земным искусством: по самому своему назначению она представляется искусством реалистическим, исходящим из опыта. Основным достоинством портрета, например, служит сходство. Но в нем есть некоторое другое свойство, не столь легко поддающееся определению: какое же, если не «метафизическое»? Портрет хорош в той мере, в какой – в противоположность фотографии – он выражает не столько чувственно воспринимаемую внешность, сколько «метафизическую сущность» своей модели, модели, какой «она была бы в своей метафизический миг», по образному выражения Христиансена[8]8
Есть русский перевода: Христиансен. Философия искусства. СПб., 1911. Изд. «Шиповник». – Примеч. ред.
[Закрыть].
Собственно говоря, в этой претензии на сверхчувственное кроется лишь другое название двух совершенно противоположных элементов, не подводимых под понятие подражания реальному; эти элементы – идеализация, вышедшая из моды со времен торжества реализма и натурализма, и формальные элементы, свойственные всякому искусству: например, линии, ритмы или звуковые отношения с их специфическими законами. Из почтения к священным нравам чувства, которое – по крайней мере, в своих благородных формах – кажется двигателем двух других элементов, не решаются назвать их этими грубыми именами; но более положительный анализ укажет нам именно на них как на главное содержание всех этих метафизических притязаний; таковы технические элементы, не сводимые ни к чему другому, но не сводимые только в том смысле, что они всегда остаются техническими; однако в них нет ничего сверхчувственного, нет даже – принципиально – ничего недоступного науке. Конечно, «выражение непознаваемого через чувственное» является более значимым ярлыком. Но это лишь слова; их притягательная сила кроется в непрестанных метафорах или, вернее, в двусмысленности, которой нельзя поставить в заслугу даже убедительности, потому что один из членов метафоры по самому определению своему не подлежит наглядному представлению: только что как будто представишь нечто – и уже выпадаешь в заблуждение: понятие непознаваемого подменяется другим.
Огюст Конт определил метафизику как объяснение фактов с помощью субстанций, т. е. абстракций, возведенных в реальность. Конечно, такое определение относится не ко всякой метафизике, а лишь к «дурной метафизике» схоластиков, представляющей собой чисто словесную комбинацию произвольно образованных понятий. Но именно такая метафизика и процветает в эстетике: «идеал», «жизнь», «гений», «чувствование (Einfühlung)», – таковы понятия, напоминающие старинные «волю в природе», «боязнь пустоты», благодаря которым современные эстетики слишком часто в точности воскрешают пред нами образ старинной схоластики. Вполне понятной становится законная реакция, направленная против такого понимания эстетики экспериментальной школой Фехнера; из всех наших положительных наук традиционная эстетика осталась, быть может, последней, еще не перешагнувшей за порог Средневековья!
Каковы же действительные отношения, существующие между метафизикой и эстетикой? Это те же отношения, какие существует между метафизикой и любым из других возможных познаний. Всякое познание опирается на три рода данных, о которых мы говорили, на двоякого рода факты – из которых одни внушают известное предположение, другие служат для его проверки – и на гипотезы, лежащие между обоими рядами фактов. Если придерживаться этих трех элементов, неизбежных для всякого мышления, то науку можно будет определить как своего рода склад проверенных гипотез; философия в широком смысле слова будет обнимать гипотезы, в принципе допускающие проверку, но еще не проверенные научно; наконец, метафизика будет заключать в себе не поддающиеся проверке гипотезы.
Таким образом, физик, экономист, социолог, моралист или эстетик, открывая факты, наводящие его на известное предположение, и приводя их в связь с помощью гипотез, совершают научную работу, если гипотезы подтверждаются путем проверки; они мыслят философски, если их предвосхищения (антиципации) преждевременны; наконец, они мыслят метафизически, если внушенные фактами руководящие идеи совсем не подлежат проверке, поскольку мы можем при этом допустить реальность абсолютного начала, хотя бы в такой отрицательной форме. Ничто не мешает умам известного склада надстраивать гипотезы о непознаваемом над всем тем, что они знают научно, но никто равным образом не может предписать нам следовать этим гипотезам: они совершенно произвольны, подобно вере ускользая от всякого контроля.
В этом отношении эстетик находится в одинаковом положении, что и моралист или даже физик. Что скорее и легче приведет вас к умозрению, к метафизическим грезам о сущности вещей, о «вещи в себе» – идеи ли прекрасного, возвышенного, комического или идеи атомов, притяжения на расстоянии, организма? Что даст нам более верный образ для символического изображения непознаваемого возникновения всякого бытия, сущности жизни, самопроизвольной силы мысли и материи и бесконечности вселенной – гармония ли художественных творений человека, гармония красот природы или химические сродства элементов, физиологические иммунитеты и астрономические и механические уравнения? Многие будут колебаться в ответе: выбор между столь различными внушениями зависит главным образом от индивидуального темперамента или от интеллектуального воспитания.
Ясно, однако, что с какой бы стороны ни подойти к метафизическому умозрению, оно не должно предшествовать ни эстетическим фактам, ни каким-либо другим: оно должно следовать за фактами. Кант уже давно показал, что обоснование морали на метафизике сопряжено с одинаковыми опасностями для той и другой; наоборот, моральный долг как факт – «факт разума» – может законным образом обосновывать постулаты, т. е. верования метафизического свойства. Равным образом метафизика может законно основываться на эстетике – как на всяком другом познании, внушенном фактами, – но не может обосновывать эстетику.
В буквальном смысле слова нелепо желание вывести непосредственно воспринимаемую красоту из так называемой «красоты в себе», служащей будто бы ее принципом и существующей вне всякого мыслящего существа. Ибо красота есть ценность. Но что такое ценность вне сознания, которое ее оценивает? «Вещей в себе» не существует, тем более не существует «ценностей в себе». Платоновский реализм утратил всякий смысл как в относительном или абсолютном, эмпирическом или рационалистическом идеализме последователей Юма, Канта или Гегеля, так и в современном позитивизме или прагматизме.
Итак, как в эстетике, так и в любой другой области не может быть речи о полном отрицании метафизического умозрения; нужно лишь указать ему надлежащее его место: выше опыта, т. е. после опыта и согласно опыту. Таким образом, вопрос о методе, со всеми вытекающими из него проблемами, не имеет ничего общего с поставленной в заголовке ложной проблемой: должна ли эстетика быть метафизической или позитивной?
III. Должна ли эстетика быть общей или частной?Могут ли и должны ли общие заключения относительно прекрасного и относительно искусства быть выведены из отдельных видов искусства, принятых за тип, или из известных отделов этих искусств, или из известных специальных точек зрения на искусство?
Стала ли теперь специализация в известном искусстве неизбежной для эстетика? Другими словами, должна ли эстетика быть общей или частной?
Может показаться, что это вопрос чисто практический. Так как область эстетики бесконечна и одинаково хорошее знакомство с различными областями ее невозможно, равно как невозможно и сразу изучить ее целиком, то необходимо начинать с одного какого-нибудь отдела эстетики, ограничиваясь на первых порах лишь предварительными заключениями, принимаемыми или отвергаемыми на основании дальнейших исследований; такова судьба всякой гипотезы, внушенной одним рядом фактов и подлежащей проверке на основании другого их ряда.
Тем не менее важно отметить, что этот детальный вопрос практического характера неизбежно отражается на теории. Для того чтобы иметь возможность судить самостоятельно, небезразлично знать, что Рёскин, весьма чуткий в вопросах пластических искусств, почти ничего не понимал в музыке; что, наоборот, значительное число немецких эстетиков понимало музыку или даже практически занимались ею; что если они сами не занимались музыкою, как Кант, Фехнер, Липпс или Фолькельт, зато, по крайней мере, жили, так сказать, в музыкальной атмосфере; что французские эстетики, наоборот, получили прежде всего литературное образование, даже и те из них, которые занимаются главным образом пластикой, начиная с аббатов Андре и Дюбо[9]9
Andre. Y. M. (1675–1764), ученик Мальбранша. Oeuvres. 1766. 1843 Du Bos, Jean Baptiste, (1660–1742). – Reflexions critiques sur la poesie, la peintue et la musique. 1719.
[Закрыть], художника Лебрена или «salonnier» Дидро и кончая Тэном.
Нельзя отрицать, что всякая чрезмерная специализация в эстетике, как во всем другом, сопряжена с известными неудобствами; теоретик музыки будет иметь другие идеи о художественной ценности подражания, о прекрасном в природе или о роли интеллекта в искусстве, чем поэт или живописец, для которых обычным объектом являются мышление, выраженное в словах, и природа. Эти различия в духовном складе невольно поведут по разным дорогам.
Тем не менее этот, так сказать, фрагментированный метод имеет свои выгодные стороны. Лучше отчетливо изучить одну группу специальных явлений, чем иметь смутные понятия о наскоро сделанных обобщениях, едва считающихся с фактами. Компетентность обычно предполагает специализацию, поэтому лучше такая неизбежная узость, которая, по крайней мере, сознательна, чем расплывчатые рассуждения, игнорирующие технику во имя «вкуса», «инстинкта», «здравого смысла» или «интуиции», иначе говоря, индивидуального каприза, возведенного в непогрешимый догмат, – двойная и устрашающая опасность!
Из эстетики, этой аристократической республики по своему назначению, более, чем из всякой другой области, необходимо изгнать «культ некомпетентности». В эстетике он порождает лишь крайне несносный деспотизм дилетанта над художником и «анэстетических» чувствований над «эстетическим сознанием» в собственном смысле слова.
С другой стороны, культ компетентности не означает еще, что художники – непогрешимые судьи в искусстве и единственные хорошие его теоретики. Практика требует иных способностей, чем теория. Короче говоря, для того чтобы хорошо знать технику, творчески одаренному художнику обыкновенно достаточно бывает знать технику своего искусства, которой он лично располагает. Критик же, наоборот, должен быть способным высказать свое суждение и показать свои познания, в случае необходимости, в самых различных областях. Сравнительная история искусства и искусств, необходимая для эстетики, может вредно повлиять на художника: близкое знакомство со всякими стилями, в случае безразличного их применения при создании художественного произведения, приводит к отсутствию стиля, к бесплодной и бесхарактерной посредственности. Можно сказать, не впадая в парадокс, что оригинальность является достоинством у художника, который всецело погружен в свой внутренний мир и должен быть в него погружен, и недостатком у ценителя искусства, так как для него, зависимого в своем мышлении от художника, величайшая истина заключается в умении мыслить возможно большее количество отношений между чрезвычайным богатством самых разнообразных явлений.
Словом, идеальным судьей будет тот, кто в достаточной мере понимает техническую сторону различных искусств и находится, таким образом, на одинаковом расстоянии от дилетанта, не владеющего техникою ни одного искусства, и от художника, владеющего техникой лишь одного искусства.
Но существует ли идеальный судья? С точки зрения правильно понятой относительной эстетики, его существование отнюдь не является необходимым или даже желательным: если действие меняется в зависимости от условий, то возможно и даже должно допустить существование различных эстетик – эстетики любителя, эстетики художника, историка и компетентного критика. В конце концов, необходимо, чтобы каждый из нас имел свою эстетику: самый непримиримый догматизм и тот признает, что наши эстетические убеждения сознаются нами как в высшей степени индивидуальные, как бы велика ни была их общность, которая – по крайней мере, по нашему личному мнению – лишь привходит к ним, и то, так сказать, a posteriori.
Итак, для того чтобы быть компетентной, эстетика может и должна быть частного; вместе с тем она должна и выдавать себя именно за такую, т. е. за незаконченную и временную стадию развития науки. Нисколько не желая умалить чрезвычайно важной роли грандиозных руководящих гипотез, мы убеждены, однако, в том, что для эстетики – подобно большинству моральных и общественных наук – наиболее жгучей необходимостью является в данный момент создание монографий, хотя и на разрозненные темы, но солидно и методически обоснованных.
Подобного рода монографии были предприняты с четырех основных точек зрения.
Многие эстетики ограничиваются изучением лишь одного искусства. «Философия искусства» Тэна[10]10
Есть русский перевод: Тэн. Лекции об искусстве. Книгоиздательство «Польза». Москва. – Примеч. ред.
[Закрыть] единственным предметом своим имеет пластические искусства. Имя «критиков искусства» часто сохраняется за писателями, которые только ими и занимаются. Это преувеличение стало предрассудком. Очень распространено мнение, что «искусство» не включает в себя ни музыки, ни литературы. Немало энциклопедий, озаглавленных «История искусства», совершенно их не касаются, несмотря на широкий объем заглавия, а «Ecoles des Beaux-Arts» им не обучают. В этих покушениях на лихоимство, очевидно, есть значительная доля злоупотребления, никому, впрочем, не наносящего ущерба.
Другие теоретики в данном искусстве изучают лишь его абстрактные элементы или его предварительные условия. Еще теперь школа Вронского[11]11
Hoene-Wronski. Josef-Maria, 1778-1853, польский философ, находившийся под влиянием Канта. С помощью математики хотел возвести философию на степень точной науки. – Примеч. ред.
[Закрыть], например, охотно превращает, подобно древним пифагорейцам, теорию эстетических элементов в прикладную математику. Грэнт Аллен[12]12
Grant Allen, Physiological Ästhetics, London, 1877. – Примеч. ред.
[Закрыть] написал «Физиологическую эстетику», Гирт – «Физиологию искусства»[13]13
G. Hirth. Aufgaben der Kunstphysiologie. 1891. – Примеч. ред.
[Закрыть]. Большинство теоретиков поднимает эстетику до уровня индивидуальной психологии, пренебрегая социологией или просто отбрасывая ее, несмотря на то что многие из современных писателей начинают пользоваться ею. Но почему бы не привлечь последовательно все остальные науки на помощь к изучению эстетических явлений, которые настолько сложны, что даже самые многочисленные и с различных точек зрения произведенные исследования никогда не исчерпают их до конца?
С другой стороны, часть современной школы претендует на то, чтобы касаться лишь объективных фактов, какими являются: состояние органов тела, различного рода проявления, доступные наблюдению или даже регистрационным аппаратам, условия среды, – и менее всего обращают внимание на внутреннее состояние человека; например, Верон[14]14
Veron, Eugene, род. 1825 въ Париж-Ь. Главное соч. L'Esthetique, изд. 1890. – Примеч. ред.
[Закрыть] среди позитивистов или Кон[15]15
Jonas Cohn, Allgemein Ästhetik. Leips., 1901. – Примеч. ред.
[Закрыть] из представителей экспериментальной школы. В противоположность этому спиритуалисты, как Бергсон, признают интроспекцию единственным законным методом эстетики. Впрочем, эта точка зрения восходит по меньшей мере к Канту, для которого основной проблемой эстетики является уже не прежняя формула «что такое прекрасное в себе?» или «какие предметы прекрасны?», но «как возможны эстетические суждения?», «какие функции мыслящего субъекта пробуждают они к жизни?». Таким образом, прекрасное не рассматривается более как свойство вещей, но как свойственный человеку способ представлять себе вещи, а это во всякой области является критическим par excellence направлением ума.
Но большинство современных эстетиков являют собою синтез этих двух точек зрения; начиная с Фехнера, важнейшие экспериментаторы все более и более уделяют внимание показаниям экспериментируемых лиц, а столь любезная сердцу Липпса теория вчувствования, почти безраздельно господствующая ныне в Германии, включая в себе и «объективизацию я» и «субъективизацию вещей», в принципе предполагает сразу оба элемента, хотя фактически комбинирует их с перевесом в сторону первого[16]16
Это ко всему применяемое слово стало до того неясным, что один противник теории вчуствования называет «объективным» метод «внутреннего» анализа, приводящий, у Гартмана, к идеалистическому различению между «реальными» и «кажущимися» чувствами. Michal Sobeski. Обоснование объективного метода в эстетике. (По-польски.) Краков, 1910.
[Закрыть].
Наконец, наибольшее число эстетиков, отказываясь от претензии на абсолютную всеобщность, свойственную старой эстетике, в общем склоняются к тому, что открыто исповедует Фолькельт[17]17
На русский язык: Современные проблемы эстетики. СПб., 1899. – Примеч. ред.
[Закрыть]: они дают психологию образованного любителя искусства или художника, стоящих на обычном уровне нашей современной культуры. Но некоторые другие, как Гроссе[18]18
Есть русский перевод: Зачатки искусства. М. 1899. – Примеч. ред.
[Закрыть], Гирн[19]19
Yrjö Hirn. The origins of art. London 1902 или перевод Der Ursprungder Kunst, Leipzig. 1904. – Примеч. ред.
[Закрыть] или Валашек[20]20
Wallaschek, R. Aufgängeder Tonkunst, 1903. – Примеч. ред.
[Закрыть], склоняются к тому, чтобы искать истинную природу искусства в его зачатках и в его низших или даже патологических формах: в психологии ребенка, первобытных народов, ненормальных людей; более развитые и сложившиеся формы кажутся им, как слишком сложные, менее доступными для анализа и менее поучительными. Стоит ли говорить, что одно исследование не исключает другого? Изучать надо не обособленно первобытное или развитое состояние, но синтез обоих этих состояний; важно исследовать всю эволюцию со всеми ее формами, нормальными и ненормальными, здоровыми и уродливыми, болезненными, зрелыми и давно обветшалыми.
Задается ли эстетика целью методически быть частного? Надлежит ли ей исследовать монографии специалистов или же общие принципы и выводы, более или менее абстрактные элементы и условия или же конкретные произведения и формы во всей их сложности, объективные или субъективные факты, индивидуальный и социальный генезис искусства или же современное, данное или даже идеальное состояние в эволюции его?
Отвергать a priori какой-либо из этих источников было бы несомненным произволом. A priori нельзя ни при каком исследовании запретить ни одного из видов предположения, внушенного фактами, проверки их или гипотезы. Эти различные методы должны скорее дополнять друг друга, чем исключать: каждый из них составляет необходимый момент общей эстетики; такая эстетика существует, конечно, лишь в идеале, но идеал этот мы должны хранить в душе своей, чтобы освещать им наш путь.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































