Текст книги "Кровное родство. Книга первая"
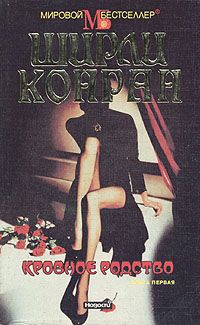
Автор книги: Ширли Конран
Жанр: Зарубежные любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
– Это только начало, – сказал он. – А теперь дайка посмотреть на тебя. – Он склонился над ее животом, и его пальцы вновь скользнули между ее бедер. – Раздвинь ноги, – прошептал он.
Элинор застыла от неожиданности – настолько противоречила эта просьба полученному ею строгому воспитанию.
– Пожалуйста, – настойчиво повторил Билли.
Ей не оставалось ничего другого, как подчиниться, сняв с себя всю моральную ответственность. В конце концов, разве Билли не муж ей и разве не давала она обещания любить, почитать и слушаться его во всем?
Робко, медленно, с ощущением собственной вины и тяжелым сердцем, чувствуя себя невыносимо беззащитной, Элинор раздвинула ноги.
Интерес Билли к изучаемому предмету со стороны выглядел странно-объективным, когда, прищурив глаза, он разглядывал – так же, как знаток разглядывает редкостную тепличную орхидею, – другой экзотический цветок, окруженный бледно-розовыми лепестками плоти и золотистым пушком, похожим на уютное птичье гнездо.
Осторожно раздвинув эти лепестки, он продолжил свое исследование, после чего, наклонив голову, принялся ласкать их языком и делал это до тех пор, пока тело Элинор не освободилось вновь от власти мозга и наслаждение не возобладало над стыдом.
Подняв голову, Билли взглянул на нее:
– Это не так уж плохо, не правда ли? – А руна его уже снова лежала между ее бедер.
К моменту, когда она достигла своей цели, Элинор опять дрожала от страха. Пальцы Билли, погрузившись в ее теплую, влажную плоть, осторожно ощупывали ее, пока средний палец не обнаружил маленького отверстия и не начал бережно, стараясь не причинять боли, расширять его, продвигаясь вперед. Когда он дошел до конца, Элинор слабо вскрикнула.
Когда Билли вошел в нее, вначале ее охватила паника. Но Билли, лежа неподвижно, стал успокаивать ее нежными поцелуями, и в конце концов она расслабилась.
– Вот так, – прошептал он, и его руки, слегка сжав ее бедра, начали плавно вращать их.
Мало-помалу ее тело подчинилось этому вращению.
В полном молчании Билли направлял каждое их движение, каждый извив их тел, сплетенных в медленном горизонтальном танце. В течение ночи они не раз перемещались с одного края постели на другой, то лежа почти неподвижно, то торопливо дыша, не в силах насытиться друг другом, и если взаимное желание их ненадолго угасало, то лишь для того, чтобы вспыхнуть с новой силой.
Временами он был сверху, наклоняясь над ней, как огромный торжествующий зверь над распростертой перед ним добычей.
Весь окружающий мир виделся ей теперь неясным и размытым, словно бы двухмерным. Объемными и реальными, как в фокусе, были лишь гнездо из смятых подушек и простыней и сильное мужское тело, проникающее в ее тело. Она не воспринимала ничего другого, кроме этого слияния плоти на этой слабо освещенной постели, пропитанной запахом их тел.
Временами он был снизу, и ее груди лежали в его ладонях или вздрагивали у его губ, когда она задыхалась от наслаждения, а его руки крепко сжимали ее бедра, вращая их. Он контролировал каждое ее движение, заставляя двигаться не так, как хотелось ей, а тан, как хотел он.
Поначалу она стыдливо пыталась прикрыть грудь скрещенными руками, но потом забыла обо всем, и ее руки взметывались вверх, когда она подпрыгивала, как дельфин на волнах, пока не склонялась в полном изнеможении на влажную от пота грудь Билли.
Наутро кое-где на ее теле были синяки, как пятна на переспелой груше, и эти отметины говорили о ее принадлежности Билли столь же ясно, как хозяйское клеймо на теле животного.
Она была одурманена, очарована, влюблена без памяти. Билли, подобно вспышке молнии, одновременно возбуждал, пугал и притягивал ее.
Проснувшись утром и не поняв в первый момент, где находится, Элинор сонно подняла голову с подушки, но тут же, припомнив минувшую ночь, снова зарылась лицом в простыни, чувствуя, как начинают гореть ее щеки при одной мысли о том, что делал с ней Билли и каким безвольным, словно бескостным, становилось ее тело под его ласками.
Внезапно она поняла, что лежит одна в обволакивающе-уютном тепле перины.
Она резко села в постели.
Билли – ее муж – стоял возле окна и, высунувшись, разглядывал что-то внизу. Он был совершенно обнажен. На мгновение, сквозь полуопущенные ресницы, Элинор охватила взглядом всего его: с восхищением смотрела она на его пышные белокурые волосы, крепкую шею, сильную спину, на его длинные стройные ноги (левая ступня была еще в бинтах), на его мускулистые ягодицы – все такое отличное от ее собственного, нежного и податливого, тела. Таким она и запомнила Билли. Это видение, четкое, как фотография, всегда вставало перед мысленным взором Элинор, заставляя ее таять и прощать Билли все.
Первые недели замужества были для Элинор постепенным, но невыразимо прекрасным открытием мира чувственности.
Что с самого начала привлекало Билли в Элинор, помимо ее красоты и кипучей, бьющей через край энергии, – это ее чистота, которую она столь ревностно оберегала и которой Билли противопоставил классическое мужское оружие: натиск.
Уничтожив эту чистоту, Билли теперь стремился воссоздать ее искусственно – ради удовольствия вновь разрушить ее. Вначале Элинор отказывалась разыгрывать невинность, уступающую натиску, – так, как это произошло в их первую ночь.
– Почему бы нам не раздеваться, как все, – до того, как лечь в постель? Не понимаю, зачем тебе нужно, чтобы я притворялась, – протестовала она. Однако мало-помалу это маленькое лицедейство начало доставлять удовольствие и ей.
Быстро и умело Билли полностью подчинил молодую жену прихотям своего собственного эротизма. Она не была более способна думать ни о чем другом. В глубине души она по-прежнему оставалась неопытной деревенской девчонкой, и в постели Билли сознательно поощрял ее природную чувственность, ее смущение, неловкость и невинное бесстыдство. Для юной, неискушенной жены Билли физическая страсть, которую она поначалу считала не более чем доказательством ее любви и преданности мужу, стала неожиданным и поразительным открытием. В объятиях Билли Элинор дрожала, задыхалась и стонала, пока накатывающая волна экстаза не подхватывала ее, чтобы, схлынув, оставить ее распростертой в блаженном беспамятстве, оглушенной, изнеможенной.
Всякий раз, как Билли прикасался к ней, у нее начинала кружиться голова, и она чувствовала, что стремительно проваливается в какую-то бездонную пустоту. Когда он открывал глаза и их яркий голубовато-зеленый свет ослеплял Элинор, у нее перехватывало дыхание. Когда, предваряя ласки, Билли заговаривал с ней, тембр его голоса становился глубоким, бархатистым, в нем слышались обещание и… угроза. Один лишь звук этого голоса был способен заставить Элинор трепетать. А когда голос, сладкий, словно темный мед, произносил ее имя, ей казалось, что губы Билли прикасаются к ее телу, и такое ощущение было настолько отчетливо, что она удивлялась, как другие стоящие рядом люди ничего не замечают. Особенно странным ей показалось это, когда Билли привез ее в свой дом, чтобы познакомить с семьей.
Элинор знала (хотя никто и не говорил ей об этом), что для нее секс сам по себе – это еще далеко не все. Помимо плотской страсти, ей необходимы были страсть сердца и абсолютная преданность души. Для нее такая полная и безграничная любовь была возможна лишь с одним мужчиной – с Билли. Он один знал, каким и когда он должен быть с ней. Ему одному она могла доверить свое тело. Интуиция говорила ей, что для нее никогда не будет никакого другого мужчины.
Когда горничная провела их в непривычно просторную спальню и вышла, оставив одних, Элинор обернулась к мужу и спросила с улыбкой:
– Почему ты ничего не говорил мне?
Билли обнял жену и, приподняв ее лицо за подбородок, нежно поцеловал.
– Не хотел, чтобы ты переживала попусту. Лучше, если ты сама посмотришь на мою семью.
– Но почему ты не сказал, что твои родные так богаты? – настаивала Элинор.
– Да потому, что они вовсе не богаты, – рассмеялся Билли. – Взгляни на этот вытертый ковер, на эти потрепанные занавески. А когда мы ляжем спать, ты почувствуешь и штопку на простынях. А уж когда ты попробуешь наш шерри…
– Почему же тогда они живут как богачи? А серебро? А прислуга?
– Мой отец потерял большую часть своего наследства, потому что вкладывал деньги не туда, куда надо; серебро осталось только столовое, а прислуги теперь намного меньше, чем было когда-то. Да и оставшейся платят совсем немного, а питаются они в основном тем, что выращивают здесь же, в имении.
Элинор покачала головой. Она действительно находилась в совсем иной стране, чем ее собственная. То, что она видела, противоречило всякой логике: разорившаяся семья жила в доме, полном прислуги, где на стол подавались изысканные блюда и на всех женщинах были жемчужные ожерелья. И тем не менее, по словам Билли, в доме не было даже почтовых марок – ничего, за что пришлось бы платить наличными.
– А почему тот человек в черном называет твою мать „миледи"? – спросила Элинор.
– Потому, что мой отец баронет.
– То есть лорд?
– Да нет, это совсем другое – намного меньше, чем лорд. Когда-нибудь, когда у меня будет время и силы, я объясню тебе нашу английскую табель о рангах. Но поверь, на самом деле для нас с тобой это вовсе не важно. Так что пока забудем об этом. А кроме того, мы не должны опаздывать на ужин. Этого моя мать никогда не простит.
В этот вечер, после ужина, донельзя смущенной Элинор пришлось позволить горничной помочь ей раздеться. Лежа на кровати с колонками по углам, пологом и занавесками из голубой парчи, она вглядывалась в гипнотическое мерцание огонька свечи, стоявшей рядом на столике, и в ожидании Билли перебирала в памяти события этого долгого дня.
Волнуясь, как всякая невестка перед первой встречей со свекровью, Элинор пребывала в напряжении все время, пока экипаж, запряженный пони, который встретил ее и Билли на станции, вез их и багаж по холмистой коричнево-зеленой местности. Внезапно в просвете между деревьями парка их глазам открылось нечто вроде греческого храма, сложенного из серого камня, и Билли сказал как-то совсем буднично:
– Это Ларквуд.
Еле живая от страха, Элинор вошла, вслед за дворецким, в слабо освещенную гостиную, в дальнем конце которой, вокруг камина, сидело несколько человек в твидовых костюмах. Все они смотрели на нее, и даже на расстоянии Элинор поняла, что ей предстоит нечто вроде экзамена. От волнения ей тогда так и не удалось как следует запомнить имена и степень родства, за исключением свекрови – увядшей копии Билли, которая, знакомясь с невесткой, едва коснулась губами ее щеки.
Позже, за ужином, было очень много разговоров на политические темы, в которых Элинор ничего не поняла. Сидя рядом с отцом Билли, она старательно следила за тем, какие из окружавших тарелку многочисленных серебряных предметов он выбирает для каждого блюда, и делала то же самое. Впервые в жизни ей довелось есть грушу при помощи вилки и ножа.
Теперь, лежа в постели, Элинор очень хотела, чтобы Билли поскорее пришел и утешил ее, подтвердил ей свою любовь, потому что его семья явно не испытывала к ней ничего подобного.
Где же он?
Выскользнув из постели и тихонько приоткрыв дверь, Элинор застыла, услышав свое имя.
Снаружи, от лестницы, до нее донесся раздраженный голос матери Билли – та говорила о своей новой невестке, и каждое ее слово больно ранило Элинор.
– Вполне, понятно, дорогой, почему ты женился на ней. Она весьма красивая девушка, и, к счастью, этот ее американский акцент довольно мил. Но, полагаю, тебе следовало бы сказать ей – по возможности тактично, разумеется, – что у нас не принято сидеть за столом и молчать: ей необходимо научиться поддерживать разговор, слушать, общаться.
– Она достаточно общительна, когда чувствует себя свободно, – возразил Билли. – Думаю, все вы могли бы проявить по отношению к ней немножко больше терпения и великодушия. Устраивает вас или нет, Элинор теперь является частью этой семьи.
– А, вот теперь-то я все поняла! Это нечто вроде наказания для меня, не так ли? Одному Богу известно, чем я заслужила это, – разве только тем, что не родила тебя первым. Тебе не кажется, Билли, что с твоей стороны было не совсем хорошо жениться на девушке, не принадлежащей к твоему классу?
– У меня нет ни денег, ни перспектив, мама; на фронте меня покалечило, и я вряд ли смогу найти работу. К какому же классу в итоге я принадлежу?
– Ты знаешь, что вы всегда можете жить здесь.
– Чтобы Марджори считала каждый проглоченный нами кусок и говорила, что мы проедаем наследство ее мужа? Нет уж, премного благодарен!
С этими словами Билли круто повернулся и направился в свою спальню. Войдя, он застал Элинор перед высоким, на ножках, зеркалом, разглядывающей свое отражение полными слез глазами.
– Мне так грустно, Билли… Я так мечтала понравиться твоей семье!
– Ну что ты, глупышка! Они все в восторге от тебя. Он подошел к ней сзади, притянул к себе, обнял и принялся поглаживать ее грудь сквозь тонкую ткань ночной рубашки.
Несмотря на слова Билли, Элинор знала, что она правильно поняла то, что невольно подслушала. Она чувствовала себя униженной, чужой и ненужной среди этих людей, которые без малейшего усилия со своей стороны давали понять ей их превосходство. Впервые за долгое время она ощутила, как же далеко ее родной дом.
Билли тихонько спустил с ее плеч ночную рубашку, но на этот раз Элинор не сразу ответила на его ласки: слишком уж сильно было ее возмущение. Она была американкой, она только что вернулась живой с войны, – она честно заработала свое место под солнцем. И не собиралась позволять этим надменным, словно живущим в ином столетии британцам, которые кичатся знатностью и положением, доставшимися им даром, так унижать ее. Они смотрят на нее сверху вниз только потому, что она вышла из простой, скромной семьи, зарабатывавшей на жизнь собственными руками. Ну, тан она им покажет!
Но она не подозревала, насколько глубокий след оставили в ней годы, проведенные рядом с отцом, и какое роковое влияние окажет все это на ее будущее и на ее способность „показать им".
Даже после того как они достаточно уютно устроились в собственной квартире, Билли продолжал навещать Ларквуд так часто, как только мог. Родные стены придавали ему уверенности в себе, служили убежищем от мира, предъявлявшего требования, с которыми он не был еще готов встретиться лицом к лицу. Дома он явно ощущал себя равным среди равных, и Элинор оставалось только мечтать о том, чтобы чувствовать себя так же свободно и уверенно при встречах с семьей О'Дэйр.
– Я ощущаю, что я другая, не такая, как они, – как-то призналась она Билли в очередной их приезд в Ларквуд, когда они уже были в постели. – Иногда мне начинает казаться, что они хотят, чтобы я чувствовала себя так.
– Да нет, что ты, детка, – успокоил ее Билли, гладя ее тело, словно приободряя. – Просто ты еще не привыкла к нашим английским манерам.
– Но я всегда чувствую себя с ними так, – растерянно сказала Элинор. – А вот в училище все совсем наоборот – там мне хорошо и спокойно. Там я такая, как все.
Элинор посещала теперь вечерние занятия в политехникуме, надеясь, что образование позволит ей хоть немного сократить дистанцию между собою и высокомерными родственниками Билли.
– Такая ты и есть, – прошептал Билли, лаская ее.
– Нет, ты не понимаешь, – вздохнула Элинор. – Ты-то умеешь быть самим собой где угодно.
Однако она ошибалась. Конечно, Билли был настоящим джентльменом с безукоризненными манерами и воспитанием; он был красив, в нем была чувственность и грация молодого, сильного животного. Он уже успел постичь всю полноту жизни и не собирался отказываться от этого и дальше, трезво оценивая свои природные и благоприобретенные качества. Единственным, чего он не сознавал или, во всяком случае, предпочитал не признавать, была его собственная страшная лень.
В самом деле, он выглядел человеком весьма искушенным, для которого в мире не осталось (или почти не осталось) тайн. Еще до войны он успел получить в лондонских гостиных и бальных салонах репутацию обаятельного молодого человека и блестящего собеседника.
Однако в мужском мире лондонских клубов Билли котировался совсем по-другому. Там считалось, что каждый из полов имеет свое собственное, четко отграниченное предназначение. Для мужчин это – спорт, опасность, игра, беседа и взаимная поддержка. Женщины же – источник плотских наслаждений, создательницы домашнего уюта и производительницы детей. В этих клубах к Билли относились иначе, чем к его отцу или старшему брату, которых там все тан уважали; его же считали человеком не очень надежным и не слишком разборчивым, едва ли не неджентльменом, но зато чересчур уж сведущим во всем, что касалось прекрасного пола. Особо ревнивые величали его „дамским угодником".
Билли, казалось, не придавал значения подобным отзывам. Он, по-видимому, почитал своим долгом и обязанностью очаровывать всех женщин, какие только встречались на его пути, – от совсем юных, лишь начинавших выезжать, до почтенных замужних дам. Его самоуверенность выглядела поистине несокрушимой.
В обитых плюшем борделях предвоенного Лондона беспечная щедрость Билли, его желание доставить удовольствие и своей партнерше, далеко не всегда встречающееся в мужчинах, его подвиги в постели, а также его склонность к изучению человеческой плоти, которая проявлялась порою деликатно, а порой и грубо, сделали его любимцем шикарных проституток. Для Билли сексуальное наслаждение состояло не только из вожделения, но также и из недозволенных игр и извращенного любопытства. Он был настолько же изобретателен, насколько нещепетилен, и настолько же безрассуден, насколько безнравствен. В постели он был практически неотразим.
Однако послевоенный Лондон был уже не тот, что прежде, особенно для женатого мужчины без единого пенни в кармане.
Поначалу будущее не слишком беспокоило Билли. Он увлеченно строил планы быстрого обогащения, один великолепнее другого, и говорил о них Элинор так уверенно, что она тоже уверовала в них – на некоторое время. Но мало-помалу она стала понимать, что ее живой и подвижный как ртуть Билли – человек опрометчивый, непрактичный, незрелый и в общем-то беспомощный, и сделан он совсем не из того теста, из которого делаются преуспевающие бизнесмены. В конце концов он начал искать работу, но безуспешно.
Тем не менее им все-таки нужно было как-то устраиваться, и Билли нашел на Эрлз-Корт-сквер дешевую, обшарпанную двухкомнатную квартирку с одной общей ванной. „Ладно, – сказал он, – на несколько недель сойдет". И Элинор со всем энтузиазмом молодой жены и хозяйки старалась превратить это безрадостное жилище в уютное семейное гнездо. Однако, несмотря на все ее усилия и поддержку, Билли все больше падал духом, и его былая уверенность в себе таяла на глазах.
Однажды утром, через полгода после окончания войны, Элинор, еще в постели, украдкой наблюдала за бреющимся Билли. Ей еще не исполнилось двадцати, а она уже готовилась стать матерью, и ей было страшно и мучительно видеть, как некогда бесстрашный, бесшабашный и напористый молодой летчик, за которого она выходила замуж, с каждым днем становится все мрачнее, все больше замыкается в себе, в собственном озлоблении и апатии. Ей так хотелось помочь мужу выбраться из этой трясины отчаяния, успокоить его, заставить снова поверить в себя… Но ей не хватало смелости.
– Ты можешь обойтись без этих укоризненных взоров? – буркнул Билли, встретив взгляд Элинор в зеркальце для бритья.
– Милый, я просто немного беспокоюсь. Ты выглядишь таким усталым… – она уже научилась не говорить лишнего.
На самом деле ей хотелось сказать ему другое: „Мы выбрались живыми из этой мясорубки, и над нами уже не висит угроза в любой момент быть разорванными на куски. И мы не умрем с голоду, пока в Ларквуде есть чем кормить прислугу!" А главное – они вместе, и им хорошо вдвоем, они сумеют поддержать и ободрить друг друга в трудную минуту жизни. В конце концов, разве не для этого женятся люди? Поддерживать и оберегать свою половину любовью, вместе прорываться сквозь жизненные бури – это ведь гораздо важнее, чем быть рядом в безоблачные дни.
Элинор еще не успела понять, что Билли – некогда блестящий плейбой, потом боевой летчик, дерзкий и неустрашимый в воздушных схватках, – просто-напросто не подготовлен к реальной жизни, к ее негромкой повседневной борьбе. На поле этой битвы он не был сильным бойцом, чей дух лишь закаляют неудачи, и каждое новое поражение повергало его во все большее уныние.
Билли вгляделся – глаза в глаза – в свое отражение в зеркальце для бритья – том самом, где день за днем, год за годом видел себя, отмечая, как в некогда юношески свежем лице красивого парня все более проступают черты зрелого, уверенного в себе мужчины. Однако постепенно – уже после окончания войны, после его женитьбы на Элинор – это выражение надменной самоуверенности сменилось выражением тревоги, а вскоре и отчаяния, по мере того как Билли безуспешно пытался найти свое место в послевоенном мире. Неудача наполняла его душу стыдом, лишала самоуважения, мужской силы. Что, где, в какой момент разладилось в его жизни? Когда-то действительно блестящий представитель „золотой молодежи", он до сих пор не мог поверить, что боги отвернулись от него. Ведь они были так добры и снисходительны к нему, дав ему высокое происхождение, прекрасную внешность, сильное тело. Кто, если не они, охраняли его в воздухе? И ведь он не просто вернулся живым с войны – его называли героем.
Однако теперь боги, казалось, потеряли к нему всякий интерес и предоставили ему барахтаться самому в послевоенном чистилище, где герои шли по пенни за пару и где не было работы.
Сначала Билли пытался найти службу, связанную с авиацией, но то же самое делали и все остальные бывшие летчики, многие из которых обладали, в сравнении с ним, тем преимуществом, что не имели ранений. А рабочих мест было так мало, и это – ирония судьбы! – именно в авиации, отрасли, которая, по глубокому убеждению Билли, должна развиваться особенно быстро благодаря перспективам перевозки почты и, возможно, даже пассажиров.
Как бы то ни было, подходящей работы для Билли не находилось, и он чувствовал себя униженным. Ведь его лишали возможности выполнять основную обязанность мужчины – заботиться о своей жене и семье!
Глядя на угрюмое лицо Билли, с которого теперь не сходило выражение разочарования, Элинор подумала: как хорошо, что она знает, по крайней мере, один безотказный способ поддержать уверенность мужа в себе.
Эту уверенность Билли обретал только в постели. Лишь там – пусть ненадолго – он чувствовал себя сильным, способным противостоять всему свету и решать все проблемы: ощущение, которое он уже давно перестал испытывать в обычной жизни. Любовь делала его всемогущим, давала ему власть – то, к чему он так стремился.
Когда Билли, закончив править бритву, оглянулся, Элинор по-прежнему лежала, томно раскинувшись в постели. Она улыбнулась мужу:
– Все-таки я никогда не видела других таких глаз, как твои: они у тебя цвета морской воды над светлым песчаным дном, и в них полно тайн. Потому-то все наши сестры милосердия и были влюблены в тебя без памяти. Но повезло только мне.
Поймав в зеркальце взгляд Элинор, Билли усмехнулся. Он понял ее приглашение. Он стер со щек мыльную пену, повернулся и направился к постели.
С каждым новым месяцем беременности Элинор Билли становился все более раздражительным. Она, разумеется, считала виноватой себя, поскольку теперь не могла доставлять мужу столь же полное удовлетворение в постели, как раньше. Однако на самом деле она никогда не могла дать ему того, в чем он действительно нуждался: самоуважения.
Если первое время Билли просто ходил мрачный, то чем дальше, тем чаще у него стали возникать резкие смены настроения; он срывался сам и срывал зло на Элинор, вполне сознательно стараясь задеть ее как своим тоном, так и словами. А Элинор от этого все больше терялась, и голова у нее шла кругом. Что стало с этим человеком, который сумел сделать для нее любовь такой реальной, почти осязаемой? А теперь, казалось, он вовсе не любил ее, и это настолько мучило и угнетало Элинор, что ей стоило огромного труда заставлять себя делать какую-то работу. Еще год назад она ни за что и никому не позволила бы обращаться с собой подобным образом, но теперь ей и в голову не приходило взбунтоваться – Билли и беременность заполнили собой все, не оставляя места даже мысли о сопротивлении. И понемногу былая живость и энергия Элинор исчезали, уступая место отчаянию.
Билли, поглощенный – почти по-детски – исключительно собой и собственными делами, стал для Элинор хозяином и господином. Если он хотел, чтобы она сделала что-либо, она знала, что должна немедленно бросить все, чем бы ни была занята в тот момент, и кинуться выполнять желание Билли; в противном случае он становился злым и угрюмым. Кроме того, Билли, мучимый неуверенностью в себе, все время должен был самоутверждаться и делал это, напоминая жене о том, что он, мужчина, обладает жизненным опытом и знаниями, которых она, женщина, не имеет. Он издевался над ее скромным происхождением и однажды, знакомя Элинор с каким-то своим другом, сказал: „А это моя американская деревенщина". Билли прямо-таки наслаждался ее беззащитностью и неспособностью сразиться с ним его же оружием – метким, легким, рассчитанно жестоким словом.
Элинор только и оставалось, что терпеливо, молча наблюдать, как сражается Билли со своими демонами, все чаще находя утешение в выпивке. Напившись, бывший неотразимый плейбой становился плаксивым и агрессивным, принимался оскорблять жену – по счастью, только словесно. Однако на другой день с по-детски искренним раскаянием молил ее о прощении – и всегда выглядел удивленным и обиженным, если Элинор не прощала его сразу.
Сокрушенный вид мужа трогал Элинор, а его мальчишеские ухватки смешили; и вот этими двумя средствами Билли всегда добивался от жены того, чего хотел. Когда же (что случалось весьма редко) они не срабатывали, Билли напускал на себя угрюмость, и Элинор тут же буквально съеживалась под его суровым взглядом. Иногда ее робость раздражала Билли, иногда возбуждала, но в любом случае подобные эпизоды заканчивались одинаково – в постели. Там Билли всегда получал прощение.
Однако, несмотря ни на что, не было средства, способного заставить его перестать чувствовать себя неудачником и вновь поверить в свои силы.
За пределами дома Билли ощущал себя никчемным и беспомощным и компенсировал это, становясь диктатором в его стенах. Подобно тому как, когда начальник кричит на секретаршу, а секретарша срывает зло на мальчишке-рассыльном, тот, не имея других жертв, дает пинка ни в чем не повинной кошке, Билли изливал свою злость и отчаяние на единственного человека, готового сносить его выходки, – на свою жену. И презирал ее за то, что она позволяет ему это.
Элинор же еще от матери, безропотно переносившей тиранию мужа, усвоила, что мужчина наделен властью изначально – просто в силу своей мужской природы, и поняла, хотя и не вполне отчетливо, что если бородатый Бог – это высшая вселенская власть, перед которой склоняется все и вся, то в масштабе дома такой властью является муж. От матери усвоила Элинор и то, что каждой женщине нужен мужчина и что лучше иметь рядом деспота и хама, чем не иметь никого. В конце концов, утешала она себя, Билли никогда не поднимал на нее руку, как делал в свое время ее отец; во всяком случае, теперь жизнь ее гораздо менее ужасна, чем в детстве и ранней юности.
Однажды Билли опоздал к воскресному обеду – главному семейному событию за неделю – и пришел уже под вечер, когда закрылись все пивные. Элинор, вынув из духовки баранью ногу, пересушившуюся от долгого ожидания, подала ее на стол.
– Это я есть не собираюсь, – проговорил Билли, делая упор на слове „это". Он подхватил баранью ногу и швырнул ее об стену.
Молча, широко раскрытыми глазами смотрела Элинор на жирные темные пятна на обоях и на струйки соуса, стекающие по стене. И вдруг она вспомнила, что такое уже случалось в ее жизни.
Был День благодарения, и одиннадцатилетняя Нелл помогала матери готовить праздничный обед. Заметив, что младший братишка собирается сунуть палец в миску с клюквенным соусом, она шлепнула его по руке, и Пол заорал так, что прибежал из амбара отец.
Увидев ревущего сына, Мариус бросился к Нелл и залепил ей пару пощечин. Когда он повернулся к Полу, чтобы успокоить его, Нелл хотела незаметно выбраться из кухни, но Мариус рванул ее за плечо.
– Куда это ты собралась?! – рявкнул он. Сняв свой кожаный ремень, он сел, бросил Нелл к себе на колено и грубо содрал с нее панталоны.
– Она не виновата! – закричала мать. – Не надо! Сегодня ведь День благодарения!
Однако отец, не обратив никакого внимания на ее слова, вытянул Нелл ремнем. Девочка вскрикнула от боли – отец всегда порол ее основательно. Мать, расплакавшись, выбежала из кухни.
– Смотри, дрянь, что ты наделала! – крикнул Мариус дочери. – Ты испортила нам весь День благодарения! – И, схватив со стола блюдо с индейкой, швырнул его об шкаф. Дрожа от страха, смотрела Нелл, как жир и соус, медленно стекая, образуют лужицу на полу…
И вот теперь тот же страх сотрясал тело Элинор, когда она смотрела, как струйками стекает по стене соус. Она услышала, как за Билли хлопнула входная дверь. Она все еще отказывалась поверить, что, как и мать, связала свою жизнь с деспотом и хамом, но выходки Билли повергали ее в такой же ужас и ту же безнадежность, что и – в свое время – выходки отца. Она панически боялась неодобрения Билли, его всевозрастающей холодности и презрительного отношения, его жестоко ранящего сарказма. И чем больше был ее страх, тем более, казалось, чувствовал Билли свое превосходство над ней.
В общем, Элинор пришлось заново учиться быть стоиком. Как когда-то в детстве, в особенно тяжелые для нее минуты она старалась стать как можно более незаметной, буквально сжимаясь в комок, чтобы лишний раз не привлечь к себе внимание мужа, силясь не принимать близко к сердцу его издевательства, как много лет назад издевательства отца. Это привычное боязливое непротивление делало ее легкой жертвой.
Так постепенно былая робость и забитость, дремавшие в глубине души Элинор все годы войны, которая потребовала от нее совсем иных качеств – мужества и решительности, – снова выплыли на поверхность.
Все детство и юность Элинор прошли под знаком грубой, жестокой и абсолютной власти отца. Теперь все повторялось чего бы ни потребовал от нее Билли, она почти всегда беспрекословно выполняла его волю.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































