Читать книгу "Кровное родство. Книга первая"
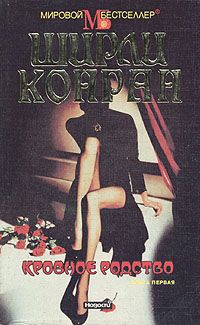
Автор книги: Ширли Конран
Жанр: Зарубежные любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Ширли Конран
Кровное родство
Книга первая
Моей дорогой подруге Дженнифер д 'Або
В этой жизни женщины стремятся к любви, мужчины – к власти. Мужчины жаждут власти так же страстно, как женщины мечтают о любви, полагая, что ничего не понимают во власти. Однако на самом деле женщины уже в стенах детской познают, что такое власть, только там она называется иначе – стремлением поступать по-своему.
Элинор Дав, "Пылающее сердце"
Часть первая
Глава 1
Понедельник, 5 июля 1965 года
В главной спальне Сарасанского замка кремовые шторы были спущены, но даже сквозь них проникал ослепительный блеск июльского солнца, отраженный Средиземным морем, что раскинулось внизу. Этот блеск ощутила высокая, сухопарая сиделка, которая, шурша белым одеянием, вышла из ванной комнаты с небольшим подносом в руках. Ее лицо было болезненно желто, вокруг запавших глаз темные круги – признак больных почек.
Когда церковные куранты пробили полдень, сиделка сверила свои наручные часики и, неловко переступая тощими, как шпажки для сандвичей, ногами, осторожно приблизилась к кровати. Это великолепное, восьми футов[1]1
1 фут (12 дюймов) равен 0,348 м. – Прим. ред.
[Закрыть] шириной, ложе принадлежало некогда одной из испанских принцесс; его высокий балдахин, опиравшийся на четыре столпа, венчали страусовые перья из чеканного серебра, тяжелые драпировки были из жесткой кремовой парчи, сплошь расшитой изнутри золотыми лилиями. Эта изукрашенная серебром громада не выглядела вульгарной лишь благодаря простоте остальных, весьма немногочисленных, вещей, находившихся в комнате.
„А завтра, наверное, они все переругаются возле этой кровати", – подумала сиделка. Хотя вполне возможно, что старуха протянет еще несколько дней. До сих пор все три ее внучки были с ней так заботливы и предупредительны, но как только они поймут, что недолго ей осталось, – вот тут-то и начнется потеха! Так всегда бывает, когда приближается конец. Вначале схлестываются бурные встречные потоки эмоций, в какой-то момент их ненадолго парализует шок от происшедшего, затем – вначале шепотом – закипают страсти и обвинения, потом наступает время мелких интриг, наконец, дело доходит до громких перебранок, вплоть до настоящей большой свары.
„Да, – подумала сиделка, – когда речь идет о деньгах, кровопролитие неизбежно". Она по опыту знала, что каждая семья – это котел, где бурлят неистовые страсти, яростно булькает варево из надежд и желаний, разочарований и подозрений, заметания следов, алчности и страха. И зачастую именно у смертного одра это опасное варево доходит до точки кипения и выплескивается через край.
А такая большая куча денег, какой (по всему видно) владела эта старуха, легко выявит непрочность родственных связей и запросто разрушит их.
Сиделка осторожно поставила поднос на тумбочку возле кровати и взяла шприц. Она вновь и вновь задавалась вопросом: интересно, на что способен пойти человек ради денег – ради больших денег? На все – при условии, конечно, что ему удастся спрятать концы в воду, решила она, выпуская воздух из шприца, перед тем как вонзить иглу в исхудалую дряблую руку, покоившуюся на простынях.
Сиделка немного знала английский, но, когда эти иностранцы говорили между собой, переставала понимать их. Да, впрочем, в этом и не было нужды – она и так прекрасно знала, что привело их сюда: запах денег. Впервые оказавшись здесь, на юге Франции, они обязательно приедут еще. Ибо тот, кто однажды услышал зов этой земли, навсегда сохранит его в душе – влекущий, как пение сирен, манящий вернуться к ее чувственной природе, словно бы забывшей о времени, к ее солнцу, к ее пронзительному, возбуждающе яркому свету, к ее морю, к ее воздуху, напоенному ароматом сосен, к ее изумительной кухне, к ее изысканным винам.
К счастью, в июле – августе иностранные туристы обычно посещали только широко рекламируемые курорты, лишь изредка открывая для себя какую-нибудь из крошечных, тихих, насквозь пропитанных солнцем деревушек, разбросанных вдоль прибрежной полосы, название которой – Лазурный берег. Сарасан как раз одно из таких мест: холм, на котором он расположен, своей южной стороной выдавался в море на три сотни футов, а на его усеченной вершине тяжело и прочно стоял замок, построенный еще в XI веке, возвышаясь над рыжей черепицей средневековых крыш.
Сиделка взяла поднос и вновь отнесла его в ванную комнату. Она ненадолго задержалась у окна, любуясь видом, открывавшимся из него. По обе стороны от Сарасана прямо к аквамариновой глади моря спускались холмы, поросшие кедрами и соснами. А если бы она высунулась из окна, то смогла бы увидеть простиравшиеся к северу от деревни леса, под чьей вечнозеленой сенью до сих пор водились дикие кабаны, кролики и птицы.
Внизу, у подножия замка, дрожали в горячем воздухе каменные арки и узкие улочки; листья бессильно свисали с платанов, под которыми изнемогали от жары собаки. Все окна были зашторены от яростного, обжигающего полуденного солнца, иссушавшего, казалось, энергию самого дня и всего живого. До четырех часов ни один из жителей деревни не высунет и носа на улицу. Роскошный зной летней Ривьеры хорош лишь тем, кому не приходится в нем работать, поэтому – по традиции – никто и не работал.
Сиделка зевнула и подумала, что и ей надо бы отдохнуть. Она знала, что все эти долгие, сонные послеполуденные часы большинство обитателей Сарасана проведут дома, за спущенными шторами, дремля, занимаясь любовью или просто нежась в тени, отринув на некоторое время все дела и. заботы. Приятно, ничего не скажешь. Позже, когда часы пробьют четыре, жители начнут потихоньку поднимать шторы, потягиваться, перекликаться, приветствуя друг друга со своих чугунных балконов, украшенных коваными завитушками. В это время Сарасан напоминал Спящую красавицу, которая только что очнулась от столетнего сна.
Сиделка снова зевнула. К сожалению, ей-то понежиться не придется. Ей платят за то, что возится со старухой. И она направилась к роскошной кровати, на которой лежало недвижное тело.
Вдруг сиделка испуганно остановилась на полпути: ее подопечная слегка шевельнулась и застонала.
Распростертая на своем серебряном ложе, Элинор О'Дэйр то выплывала из глубин беспамятства, то вновь погружалась в него.
В течение долгого – оно казалось ей очень долгим – времени единственной реальностью для Элинор была черная бездна боли и страха. Она перестала понимать, где она, что с ней, и совершенно перестала ориентироваться в пространстве. Она ощущала дурноту и головокружение, как от морской болезни, словно ее завертела и долго тащила за собой какая-то чудовищная волна. Элинор почувствовала, что при малейшем движении боль, которая, словно стальной обруч, сковала ее голову, сделается невыносимой.
Давным-давно, в Первую мировую, Элинор пришлось ухаживать за умирающими – поначалу ее приводили в ужас стоны, вой и крики, доносившиеся с окровавленных носилок и коек, пропитанных потом. Она до сих пор помнила сладковатый гнилостный запах смерти, помнила и страх, витавший над теми палатами; а теперь она сама испытывала его, чувствуя, как боль бесформенным черным облаком окутывает все тело.
Конец? Эта мысль легко, как осенний лист, колыхалась на поверхности сознания. Слабо, смутно Элинор соображала: если это конец, боль исчезла бы. Все остальное не имело значения. Мало-помалу тем не менее волны боли начали ослабевать, терять свою прежнюю ярость. Она ощутила приближение покоя. Смеет ли она надеяться, что боль действительно отступает, или за подобную дерзость боги тьмы покарают ее новыми пытками? Нет, сомнений не было. Боль медленно, но верно уходила из ее тела.
И наступил миг, когда Элинор испытала почти забытую роскошь ощущения себя без боли. Понемногу ее тело расслабилось, но она все еще не смела пошевелиться, боясь вновь спровоцировать жгучие, пронзительные страдания агонии. Элинор ощущала себя так, как если бы она в течение нескольких часов не имела возможности дышать, а вот теперь попыталась вздохнуть полной грудью.
Немедленно тысячи игл вонзились ей под ребра. Она хотела вскрикнуть, но не смогла выдавить из себя ни звука. И вдруг ощутила, что нечто твердое и гладкое лежит у нее на лице и сдавливает голову, мешая видеть.
Хотя Элинор еще не пробовала пошевелиться, она могла слышать и обонять. Она сделала усилие, чтобы сосредоточиться, и ей удалось выделить из других звуков слабое, ритмичное пошлепывание моря о скалы под ее окном; интуитивно она почувствовала солнечное тепло и дыхание прованского лета.
И вдруг она поняла, где находится!
Она в Сарасане, в своей постели, посреди теплого летнего дня. Она ощущала дуновение легкого бриза, несшего к морю ароматы розмарина и чабреца и горячий запах нагретых солнцем гор.
Продолжая лежать, Элинор решила, что, наверное, ей привиделся страшный сон – один из тех ужасных кошмаров, которые бывают настолько явственными, что, даже проснувшись, не сразу удается стряхнуть их с себя. Она подумала, что теперь лучше открыть глаза и позвонить, чтобы принесли завтрак – большую чашку кофе с молоком, сдобные булочки и фрукты, а еще утренние газеты и почту. Все это сразу приведет ее в порядок.
Поднять отяжелевшие веки оказалось непросто, но мало-помалу, с большим усилием Элинор все-таки приоткрыла глаза и начала ощущать золото нежного солнечного света, пробивающегося сквозь шторы.
Да. Все как обычно. Прямо перед ней, над камином, висела большая картина в изящной раме, написанная восемь лет назад, в 1957 году. Это был выполненный в натуральную величину групповой портрет трех девушек в белых бальных платьях, сидящих на диване голубоватой парчи в неярко освещенной гостиной. Безо всяких объяснений можно догадаться, что они – сестры: в облике девушек существовал некий знак соучастия в их общем счастье, и, несмотря на разницу в цвете волос и оттенке ножи, у каждой из них был один и тот же небольшой, точеный носик и одни и те же большие, чуть раскосые аквамариновые глаза.
Первая слева, восемнадцатилетняя Клер, хрупкая и темноволосая, наклонилась вперед и с серьезным выражением лица протягивает розу рыжеватой блондинке Аннабел – бесспорно, самой красивой из всех. Миранда (шестнадцатилетняя худышка, еще школьница) присела, как птичка, на спинку дивана; ее личико бледно, свои светлые волосы она тогда еще не красила, придавая им этот странный оттенок – цвет апельсинового джема.
Она сидела с несколько отсутствующим видом, однако ей присуще то же очарование, что и старшим сестрам, та же готовность, не задумываясь, ринуться навстречу жизни.
Только Аннабел можно назвать по-настоящему красивой, поскольку в лице Клер проглядывала излишняя напряженность, а черты Миранды чуть резковаты. При этом все три девушки были отмечены печатью богатства и хорошего воспитания. И – что самое главное для Элинор – все три напоминали ей ее дорогого Билли.
Этот портрет всегда приводил Элинор в хорошее расположение духа. Глядя на него, приятно вспоминать, как, когда девочки были еще маленькими, она устраивала себе свободный день и вела их куда-нибудь – выпить чаю или просто по магазинам. Все три, такие чистенькие, аккуратные (носочки хорошо натянуты, бантики крепко завязаны), чуть ли не дрожали от нетерпения, предвкушая предстоящее удовольствие.
Такие минуты полного счастья выпадали на долю Элинор редко и всегда неожиданно, расцветая, однако, удивительно пышным цветом. Она уже давно решила для себя, что если человек не в состоянии планировать счастье, то может планировать пути его достижения, и для себя, надо думать, спланировала неплохо, потому что сумела добиться в жизни такого успеха, о каком даже и не мечтала. Несмотря на то что поначалу ей довелось испытать и предательства, и разочарования, и временно отступать, сворачивая с намеченного пути, и тяжко трудиться, успех все же пришел к ней – и какой успех! Она была автором двадцати двух романов, изданных почти в четырех десятках стран, еженедельно получала мешки писем от читателей и пользовалась всеобщим уважением. Легендарная Элинор О'Дэйр была знаменита, удачлива и очень, очень богата.
Легендарная Элинор О'Дэйр содрогнулась. Жгучая боль возвратилась, однако теперь она разлилась внутри ее тела. Неподвижно простертая в жаркой полутьме спальни, она обнаружила, что не может двинуть ни рукой, ни ногой, которые словно потеряли всю свою силу. Напряжением воли Элинор попыталась заставить свои руки подняться, но они не повиновались. Она была парализована. Это был не сон. Она не могла двигаться!
Элинор сделала попытку что-то сказать, потом закричать – это не получилось. Она не сумела даже открыть рот. В голове все мешалось, путалось. Медленно, медленно складывалась мысль: с ней, должно быть, случился удар. „Нет! Не может быть! Я не хочу! Я еще не прожила свое!"
Усилие измученного мозга еще больше утомило ее. Веки Элинор опустились, и она стала медленно погружаться во мрак забытья. Ей захотелось полностью отключиться, чтобы не думать о страшном, но помешал звук, проникший вдруг откуда-то извне в сузившийся до минимума, замкнутый, изолированный мирок ее нынешнего сознания. То было хорошо знакомое шуршание крахмального передника медсестры. Да и пахло, как в больнице, – эфиром и лекарствами.
– Я умираю? – прошептала по-французски Элинор, заставляя наконец кое-как двигаться застывшие губы.
– Нет. Не волнуйтесь, – спокойно и равнодушно прозвучал в ответ голос сиделки. Элинор знала, что это ложь, и первой ее реакцией было негодование. Она привыкла сама распоряжаться своей жизнью, сама сочинять ее фабулу – так же, как сочиняла сюжеты своих бестселлеров. Но сейчас, беспомощная, прикованная к кровати, она полностью зависела от этой сиделки с нудным голосом. Невидимое, неумолимое перо выводило „Конец", хотя Элинор еще не дописала свою историю, и на сей раз хэппи-энда не предвиделось.
Долгие годы Элинор удавалось избегать мыслей о смерти. Подобно многим энергичным, преуспевающим людям, ей не хотелось серьезно задумываться о том, что в один прекрасный день ее не станет. Она не позаботилась о завещании, поскольку это дело потребовало бы принятия тягостных для нее решений, связанных с собственной будущей смертью. Отложив его на потом, несмотря на мягкие, но настойчивые уговоры своего адвоката, она предпочитала попросту игнорировать эту тему и чувствовать себя вечной и непобедимой.
Но сегодня, лежа в этой слабо освещенной спальне, она поняла, что ее непобедимость столкнулась с неизбежностью. Она могла лишь надеяться, что у нее все-таки есть время, чтобы успеть уладить свои дела. И решать надо как можно быстрее, иначе она рискует упустить последнюю возможность сделать это.
Элинор ощутила, как с лица ее наконец сползает давившая на него тяжесть. Она не в силах двигаться, думать или стонать, она абсолютно беспомощна, она целиком зависит от этой чужой, безликой женщины. По всему видно было, что смерть – дело унизительное, и Элинор поняла, что ее беспомощность – это только начало.
Сиделка хлопотала вокруг постели. Ее размеренные шаги внезапно вызвали в памяти Элинор мимолетное воспоминание… Тогда, в далеком теперь 1917 году, покинув маленькую ферму близ Эксельсиора, штат Миннесота, где жила ее семья, она уехала учиться на сестру милосердия. Молоденькая семнадцатилетняя девушка, она еще была настолько начинена идеализмом и романтикой, что воображала себя добрым ангелом, который несет страдающему ближнему спокойствие и поддержку. В то время немало девушек и молодых женщин, движимых стремлением быть полезными на фронтах Первой мировой, добровольно уходили на войну и работали в разного рода вспомогательных службах. Многие из них впервые шагнули за родной порог. Для большинства вместе с домом оставалась позади и пора наивности.
Элинор помнила, какие чувства испытала сама в день прибытия на эвакуационный пункт на севере Франции, куда ее направили. Она думала, что ее ждет там та тишина и порядок, к которым привыкла в больнице, где проходила свою сестринскую практику, и менее всего была готова к тому звуковому кошмару, что обрушился на нее в палате С. То была жуткая смесь рыданий, всхлипываний, бреда, звериного воя, предсмертных стонов, воплей, вырывающихся из широко раскрытых ртов… а над всем этим ужасом специально установленный фонограф наигрывал мелодию „Бинг бойз" – дабы утешить тех, чьи дни уже сочтены.
Теперь, почти полвека спустя, поняв, как мало времени остается ей самой, Элинор потеряла терпение так же быстро, как тогда наивность. Лежа в своей постели, обернувшейся теперь западней, она вдруг с удивлением обнаружила, что боится вовсе не самой смерти как физического акта и уж отнюдь не мысли о том, что придется оставить все, чего она с таким трудом добилась. Главное – ее девочки еще нуждаются в ней: в ее силе, в ее советах, в ее моральной и эмоциональной поддержке. Хотя две из них были уже замужними дамами, а третья весьма успешно занималась бизнесом, Элинор была убеждена, что девочки пока еще не могут обойтись без нее. Безусловно, ее состояние обеспечит им безбедную жизнь и престиж в обществе, но кто же поможет им советом, кто защитит от жизненных невзгод?
Элинор сумела дать внучкам то, чего была лишена сама и чего не смогла дать Эдварду, своему единственному сыну, – жизнь, полностью свободную от каких бы то ни было забот, жизнь, которую целиком можно посвятить лишь поискам своего счастья, а найдя, просто наслаждаться им; жизнь, не отягощенную нуждой – постоянной спутницей самой Элинор на протяжении первых сорока пяти лет ее жизни. Она отступила, лишь когда Элинор – благодаря своему дорогому Билли – сумела добиться успеха и тех благ, что сопутствуют ему.
При воспоминании о Билли веки Элинор медленно приподнялись. В тусклом свете спальни ей удалось разглядеть несколько фотографий в серебряных рамках, стоявших на ночном столике возле постели. И снова ее взор встретился со смеющимся, уверенным взглядом светловолосого парня, которого она так любила. Потрепанная форма, летные очки подняты наверх, руки в брюки; а позади, за его спиной, примитивное сооружение из парусины и реек – его боевая машина.
Билли О'Дэйр был одним из тех немногих, кто умудрился выбраться живым из палаты С. Его штурман сумел вытащить его, потерявшего сознание, из подстреленного и рухнувшего на землю самолета, прежде чем тот загорелся. У Билли было сотрясение мозга, разбита голова, а в левой ноге застряла пуля, перебившая пяточную кость.
Почти пять десятков лет спустя Элинор все с тем же ощущением счастья вспомнила тот вечер, когда она влюбилась в Билли О'Дэйра. В палате было относительно тихо, когда, вскоре после полуночи, с койки № 17 вдруг донеслись душераздирающие рыдания. Схватив фонарик, Элинор поспешила туда. Она осторожно трясла раненого за плечи, пока он не проснулся, – это оказался всего лишь дурной сон. Однако пилот О'Дэйр продолжал всхлипывать, прижавшись к руке Элинор. На его голове был целый тюрбан из бинтов, закрывавших и часть лица, но свет фонарика отражался в глазах молодого человека, превращая зрачки в крошечные, как булавочный укол, черные точки на фоне какого-то необыкновенного, ярко-аквамаринового цвета. Элинор подумала, что в жизни не видела ничего более прекрасного.
– Простите, – наконец пробормотал он. – Раскис, как последний идиот…
– Ничего, ничего. У многих раненых бывают кошмары, – успокаивала его Элинор, осторожно пытаясь высвободить свою руку. Сквозь смешанную вонь одеяла грубой шерсти и антисептиков, пропитавших бинты, она ощущала сильный, такой мужской запах его тела. Он больше не всхлипывал, и Элинор знала, что ей пора уходить, но никак не могла отвести взгляд от его глаз.
Раненый № 17 приблизил руку Элинор к своим губам, и его светлые усики укололи пальцы. На мгновение ей показалось, что он хочет поцеловать руку, однако вместо этого он повернул ее ладонью к себе и прижал к губам. Его теплое дыхание словно ласкало Элинор… и тут Билли О'Дэйр нежно лизнул ее ладонь. Она почувствовала, как его язык медленно скользит по ее коже, и снова подумала, что ей надо бы уйти; но ее ноги как будто приросли к плиткам пола. Она лишь чувствовала, что жар стыда и смущения поднимается откуда-то изнутри, заливая краской лицо, она почти перестала дышать; а Билли продолжал ласкать ее руку своим теплым, как у кошки, языком. Из этого состояния, похожего на транс, Элинор вывел только вскрик, донесшийся с другой койки.
К утру сестра Элинор Дав уже знала наизусть историю болезни раненого № 17. И знала также, что Уильяму Монморенси О'Дэйру, пилоту Королевских военно-воздушных сил Великобритании, двадцать пять лет.
Каким-то странным образом всей палате немедленно стало известно, что сестра Дав влюбилась в О'Дэйра. Виноградно-зеленые глаза Элинор прямо-таки искрились под белой, похожей на монашескую, косынкой, и без того румяные щеки просто цвели розами, походка стала летящей, и старшей сестре даже пришлось сделать Элинор внушение за то, что за работой она тихонько напевала про себя.
Джо Грант, бывший штурман Билли, при первом же посещении палаты С понял, что к чему. Он сказал Билли, что тому чертовски повезло, потому что сестра Дав – это нечто особенное, совсем не то, что другие. Когда Билли передал это замечание Элинор, она презрительно фыркнула:
– Вы, мужчины, говорите это всем девушкам. Что это во мне такого особенного?
Билли задумчиво посмотрел на нее, а потом ответил:
– Рядом с вами наши английские девушки выглядят словно бы и вовсе не живыми – так, какие-то бледные фотографии. А в вас столько жизни! Вы прямо-таки излучаете энергию и заражаете ею других. – Он помолчал, подбирая точные слова. – Это, похоже, вообще свойственно американцам. Ваши солдаты – они такие же, я сам видел; в них есть что-то такое, чего нет в наших или французских ребятах. Но, как бы то ни было, вы – действительно явление неординарное.
Глядя снизу вверх со своей подушки, Билли приподнял правое плечо и, чуть склонив к нему обмотанную бинтами голову, нежно улыбнулся сестре Дав. С этого момента и навсегда Элинор была покорена окончательно и бесповоротно. Даже годы спустя, когда они уже были давно женаты и Элинор слишком хорошо знала истинную цену любви, эта улыбка Билли, в которой искрился весь его беззаботный ирландский шарм – сложная смесь наивности и лукавства, – мгновенно гасила ее гнев.
В течение двух лет, прошедших со дня их встречи, Элинор помнила эту неотразимую улыбку; именно таким она любила представлять себе Билли. Фактически только таким она и позволяла себе помнить его – улыбающимся, бесстрашным молодым героем, ставшим ее романтической любовью. Последовавшие за этим менее приятные воспоминания она упрятала в какой-то очень дальний угол ее памяти.
„Жаль, что в те времена еще не существовало цветной фотографии", – подумала Элинор, глядя на порыжевший снимок в серебряной рамке. Все три внучки унаследовали от Билли его аквамариновые глаза, хотя у одной лишь Миранды была та же лукавая улыбка. От Элинор же им досталось в наследство…
Внезапно Элинор снова вспомнила, что таи и не составила завещания. Ее наследство – да, она должна этим заняться. Глаза ее закрылись, но усилием воли Элинор заставила себя вновь открыть их. Не сразу, постепенно, но все же очертания окружавших ее предметов приобрели четкость.
Сиделка склонилась над больной:
– Вы можете открыть рот, мадам?.. Вот так… еще немножко…
Из носика чашки-поильничка она влила в рот Элинор несколько капель воды, затем осторожно и аккуратно смазала смягчающей мазью ее пересохшие губы.
С трудом и болью Элинор выговорила:
– Где… мои… внучки?
Она не чувствовала половины лица, не могла управлять ею, поэтому произносила слова медленно и нечетко, смазывая звуки, как пьяная. Ей удалось пошевелить пальцами правой руки и ноги, но левые не слушались: казалось, их не было вовсе.
Чувствуя, что еще немного – и панический ужас овладеет всем ее существом, Элинор вспомнила, как еще девочкой, просыпаясь ночью, она первым делом хваталась за свои четки, чтобы отогнать силы зла; так и теперь она ухватилась за то единственное, что могло успокоить и приободрить ее. Каркающим голосом, но настойчиво она повторила:
– Где мои внучки?
– Я думаю, молодые леди на террасе. Сейчас позову.
Сиделка подошла к окну и подняла шторы. Да, сестры действительно были на террасе, не обращая внимания на послеполуденную жару. Сиделка высунулась и окликнула их.
Элинор со своей постели услышала взволнованные голоса и тут же быстрый легкий скрежет металлических стульев о кирпичные плитки пола. Она слабо улыбнулась, стараясь не слишком жмуриться от внезапно нахлынувшего света.
Несколько минут спустя дверь спальни распахнулась. Прежде всего Элинор увидела бледное, но оживленное лицо Клер в обрамлении длинных, прямых, темных волос.
– Дорогая, мы так беспокоились!
Голос у Клер был высокий и нежный. Она подбежала к кровати, опустилась на колени и поцеловала бабушку, потом прижалась губами к ее худым, в голубоватых венах, рукам.
– Не перевозбуждайте ее, – предупредила сиделка.
– Теперь моя очередь! – потребовала от двери Аннабел. Ее длинные волосы цвета меда были еще влажны и расчесаны после купания. В течение последних семи лет прекрасное лицо Аннабел улыбалось миру со всех без исключения реклам косметики знаменитой фирмы „Аванти". При виде Аннабел Элинор всегда вспоминались белые персидские котята, пуховые перины и бледно-розовые пионы – такая в ней была разлита мягкость, чувственность и женственность. Аннабел нежно погладила бабушкины длинные, светлые, седые у корней волосы, которые веером лежали на подушке. Она поцеловала Элинор в запавшую щеку и прошептала:
– Ох, Ба, мы уже думали, что потеряли тебя.
С любовью глядя на бабушку, обе сестры чувствовали, как к глазам подступают слезы. Только Клер, старшая, хоть немного помнила отца и мать (погибших в 1941 году при налете германских бомбардировщиков на Лондон), так что Элинор всегда была центром их мира. Они не могли представить своей жизни без нее. Казалось, в ней слились воедино Айседора Дункан и Элинор Глин, ибо в ней была та же отвага, драматизм и бессмертие.
– Где Миранда? – прошептала Элинор.
– Ей пришлось на денек вернуться в Лондон – какое-то заседание, – мягко проговорила Клер. – Мы все здесь уже две недели. Аннабел примчалась из Нью-Йорка сразу, как только мы узнали, что ты больна, а вот у меня в Лос-Анджелесе вышла небольшая задержка. Миранда вернется сегодня же вечером – вертолетом.
– А где Шушу?
Это была давняя подруга Элинор, теперь ее секретарь.
– Поехала в Ниццу за твоими лекарствами. А потом заедет в аэропорт узнать, не нашелся ли наконец багаж Аннабел. Шушу никогда не теряет надежды!
– Нам лучше не переутомлять мадам, прежде чем ее осмотрит доктор. – Сиделка непреклонно распахнула дверь спальни и так и стояла, держа ее открытой. – Вам придется сейчас выйти, а я позову его.
Аннабел надменно обернулась к сиделке, явно не намереваясь подчиняться приказу.
Однако Клер – как всегда, заботливая и ответственная, как и подобало старшей сестре, – тут же вмешалась:
– Не надо, Лягушонок, – это было детское прозвище, которому Аннабел была обязана своим крупным, чувственным ртом. – Мы снова придем, как только нам позволят.
Клер легонько подтолкнула сестру к двери спальни. Элинор перевела на сиделку умоляющий взгляд, говоривший без слов: „Пожалуйста, шевелитесь же побыстрее. У меня слишком много дел". Неукротимый дух Элинор вновь возвращался к ней.
Клер, в белом бикини, лежала на пляжном матраце на краю бассейна. Невысокая, худенькая и хрупкая, она обладала тем своеобразным очарованием, какое бывает в увядающих цветах, – грустноватым и неуловимым. Она, казалось, может просто проскользнуть между пальцев с быстротой потоков горных стремнин.
Аннабел лежала на соседнем матраце, облаченная в бордовый шелковый халат своего мужа. Отправляясь в поездки, она всегда возила с собой сумку, проходившую по категории ручной клади, где был этот халат плюс комплект нижнего белья, поскольку весь остальной ее багаж неизменно отставал от нее или вообще обнаруживался совсем в других местах. Нынешняя поездка не явилась исключением.
Когда зазвонил телефон, стоящий у края бассейна, трубку из слоновой кости схватила Аннабел:
– Может быть, это насчет моего багажа. Если он пропал, авиакомпании придется заплатить за все мои новые платья. – Она посмотрела на кнопки телефона, служившего также и селектором, и нахмурилась: – Я никогда не научусь обращаться с этой штукой, – и нажала одну из кнопок – линия отключилась. – Черт побери, я ничего не понимаю в технике! – Только теперь Аннабел заметила беспокойство на лице сестры. – Прости, Клер. Ты ждешь звонка?
– Да нет. Впрочем, может быть… Я подумала, что… – Клер откинула со лба темные пряди – и вдруг разрыдалась, закрыв лицо руками.
Аннабел вскочила со своего матраца, бросилась к сестре, обняла, прижала к себе.
– Что с тобой, родная? Я так и знала, что у тебя что-то не так. Иначе ты не притащила бы за собой из Калифорнии Джоша с няней. Ну, говори, в чем дело. Почему он не позвонил?
Мало-помалу рыдания Клер утихли. В ее обычно спокойном голосе звенели гнев и негодование, когда она рассказывала Аннабел о том, что случилось. Клер отправилась на пляж вместе с Джошем и его няней, где намеревалась провести целый день, однако у нее свело ногу, и, оставив их на берегу, она вернулась домой пораньше. Войдя в спальню, Клер увидела на кровати, рядом со своим мужем, худенькую смуглую обнаженную женщину. Произошла тяжелая сцена. Она бросилась в свою комнату и стала собирать вещи. Потом услышала, как за окном заскрежетал гравий – это резко рванула с места машина мужа… Клер долго рыдала, стоя на коленях перед раскрытым чемоданом, пока не услышала, что подъехала другая машина и Джош с няней, смеясь и переговариваясь, вошли в дом. В тот самый момент раздался телефонный звонок. Это звонила из Нью-Йорка Аннабел.
– Тогда-то ты и сказала мне, что у Ба удар, – шмыгая носом, закончила Клер.
– Бедная моя, – прошептала Аннабел, гладя длинные темные волосы сестры.
– Он так здорово умеет переворачивать все с ног на голову. Он делает так, что я выгляжу просто дурой с растрепанными эмоциями, тогда как всю кашу заваривает как раз он. – Тыльной стороной ладони Клер вытерла слезы. Она всегда убеждала себя, что, несмотря на все свои случайные и беспорядочные связи, муж по-своему любит ее и никогда не пожертвует той настоящей любовью, какая была у них, не поставит под угрозу счастье их сына. Она успокаивала себя, что с этими женщинами он лишь самоутверждается в своей мужской доблести, что никогда, ни к одной из них он не будет относиться всерьез. Но в тот день Клер вдруг почувствовала, что не может более выносить этого унижения. Поэтому она ушла от мужа.









































