Текст книги "Дзержинский. Любовь и революция"
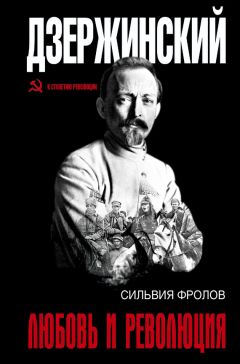
Автор книги: Сильвия Фролов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
В феврале 1900 года Феликс вновь арестован по доносу одного из членов ППС. Впервые он сидит в X павильоне Варшавской цитадели, но в апреле его перевозят в Седльцы, где в тюрьме он ждет приговора. Он уже не является тюремным девственником. Ритм жизни за решеткой становится его ритмом. Михаил Островский, сидевший в Седльцах за участие в первомайской демонстрации 1901 года, вспоминал:
Едва я успел расположиться в камере, как в дверном окошке показалось улыбающееся лицо Феликса Дзержинского (которого я знал по идеологическим диспутам в Варшаве). Феликс сердечно приветствовал меня словами: «Как дела, папаша! Попался?». Дал мне пакет черешни и сказал, что через час встретимся на прогулке.
Вспоминает Юзеф Ретке, член ППС:
Шла непрерывная дискуссия между Дзержинским, представителем СДКПиЛ, и Парадовским и Гемборком из ППС; она проходила чаще всего при помощи переписки и касалась программных принципов ППС и СДКПиЛ. Дзержинский и мне прислал письма в форме лекций по социализму. Но в тюремной жизни он был очень отзывчивый, заботился о других заключенных. Он сидел в одной камере с Антоном Росолом, на II этаже. Росол совсем не мог ходить. Дзержинский выхлопотал для него более длительное пребывание на свежем воздухе и два раза в день – утром и после обеда – сносил и опять вносил Антона на руках. Во дворе он сажал его, как ребенка, под деревом, кормил молоком и белым хлебом за свой счет, так как Росол был совсем без денег138.
Антек, сын Яна Росола болел туберкулезом костей и легких. Дзержинский организовал протест заключенных и, как утверждает Михаил Островский, вынудил администрацию перевести юношу под опеку матери.
Конечно, каждая отсидка – это вынужденное замедление темпа жизни. Снова можно подумать, повспоминать, вспомнить о родных. 25 апреля 1901 года Феликс пишет братьям: «Абсолютно не знаю, что слышно о нашей семье. Напишите мне о себе». 14 июня он пишет Альдоне:
Недавно я в ответ написал тебе письмо, но забыл попросить, чтобы ты написала Владиславу, что если у него есть желание и будет возможность, то пусть он навестит меня. По крайней мере, побывает в Варшаве, и спустя долгое время и перед еще более долгим расставанием увидимся на несколько минут.
И подпись: «Ваш Неисправимый». А в июле 1901 года описывает сестре, как он выглядит:
За эти несколько лет я изменился так, что некоторые давали мне лет 26, хотя бороды и усов у меня нет; выражение лица у меня обычно довольно хмурое и просветляется только когда я начинаю рассуждать и разглагольствовать; черты лица огрубели, я подурнел, на лбу уже три морщины, хожу, как и раньше, наклонившись, губы сжаты и к тому же я чрезвычайно нервный. Вообще-то думаю, что облик старой девы и мой очень похожи друг на друга.
В октябре в очередном письме Феликс раскрывается более философски:
Однако, я часто думаю о том, как нас жизнь разделила, как прямо противоположно сформировала наши души. (…) Хоть я значительно моложе тебя, но думаю, что за свою короткую жизнь мне пришлось впитать в себя столько самых разных впечатлений, что не всякий старец мог бы этим похвалиться. И действительно, кто живет так, как я, долго жить не может; я не умею наполовину ненавидеть или любить, я не умею отдавать только половину души, я могу отдать либо всю её, либо не дать ничего (…), и если кто-то готов мне сказать: посмотри на свои морщины, на свой истощенный организм, на свою нынешнюю жизнь! Посмотри и пойми, что жизнь тебя сломала – я ему отвечу: не жизнь меня, а я жизнь сломал, не она меня износила, а я ее использовал полной грудью и всей душой своей139.
VII. Я – христианин. Неизвестное письмо
Думаете, я снова стал католиком? Нет! Я не католик!
Я только христианин, я верю только в учение Христа, в Его Евангелие, в любовь Его неизмеримую к несчастным людям. Я верю, что для нашего избавления Он оставил нам свое учение, в завершение скрепленное печатью такой позорной смерти, верю, что Он живет только в наших сердцах, в сердцах тех, кто исполняет Его заветы, но не в зданиях, картинах, в железе, в дереве, верю, что Он живой для добрых и мертвый для злых, что хвалить Его можно только в делах, в правде и в духе, что сегодня исповедующим Его может быть только преследуемый за любовь к ближнему и готовый отдать за них и за себя свою душу и тело; я верю, что Бог Иисус Христос – это любовь. Иного Бога, кроме Него, у меня нет140.
Это писал Феликс Дзержинский в октябре 1901 года в длинном письме сестре Альдоне и ее мужу Гедымину Булгак. Находясь в тюрьме в Седльцах, он благодарил за Евангелие, которое получил от них – но и негодовал по поводу того, что его считали «возвратившейся заблудшей овечкой». Это письмо никогда не было опубликовано полностью141. В 1951 году под предлогом организации выставки и издания семейной переписки революционера партия получила от Альдоны рукописное письмо, которое немедленно было сокрыто в архивах ЦК ПОРП. Ничего удивительного: во времена сталинского апогея в Польше оно стало бы огромной сенсацией и немалой головной болью – такого Дзержинского мы не знаем.
Не тот христианин, кто имеет имя Учителя своего на устах, но тот, кто исполняет волю и заветы Его! – писал он далее в письме. – А поэтому, каким я раньше был, таким остаюсь и теперь, что раньше меня мучило, то и теперь мучает, что я раньше любил, то и теперь люблю, что раньше меня радовало, то и теперь радует, что я раньше делал, то и теперь делаю, о чем раньше думал, о том и теперь думаю, как раньше не миновала меня милость, что страдаю, так и теперь и никогда не минует; какими раньше были мои пути, такими и теперь будут, как раньше жил во мне Христос, хоть я и не знал этого, так и теперь живет, и я знаю об этом; как раньше я ненавидел зло, так и теперь его ненавижу, как сатану; как раньше я стремился к тому, чтобы не было несправедливости, преступлений, пьянства, распутства, излишеств, роскоши, утех дьявольских, публичных домов, где люди продают либо свое тело, либо свою душу, либо то и другое вместе, угнетения, борьбы, братоубийственных войн, племенной ненависти, так и теперь стремлюсь к этому всей силой своей души, и сейчас ношу то же имя, что и раньше, только добавив к нему имя христианина, и понял я и помню слова «Отче наш» – той единственной молитвы, которую Христос наказал произносить устам нашим в одиночестве, закрывшись от людей: «Да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя как в небе [так] и на земле». Теперь я понял и слова Его: «И будет одно стадо и один Пастырь – Иисус, Любовь» (от Иоанна, гл.10). Да! Я – христианин, я страшно хочу им быть и лишь немного смог им быть! Я хотел бы все человечество объять своей любовью, обогреть его и отмыть от грязи; я хотел бы так любить его, как Христос возлюбил, и нести этот тяжкий крест, который Он нес, и пить из кубка, из которого Он пил, и чувствовать в сердце своем, что нет в нем ничего, кроме Любви, той божественной, и ненависти к царству дьявольскому142.
Давайте не будем поддаваться видимости: это не письмо несостоявшегося священника. Это слова достойного сына социализма. Потому что социалисты корнем своих убеждений считали учение Христа, а образ жизни первых христианских коммун, где действовал наказ делиться всем – считали своим и насквозь демократическим. Они очень хорошо знали слова из Деяний апостолов: «Все же верующие были вместе и имели всё общее. И продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого»143. В свою очередь, сильную неприязнь социалистов к Церкви вызывала ее связь с властью, или союз тиары с троном. Во всех европейских государствах во время церемонии коронации, совершаемой высшими представителями Церкви, короля или царя объявляли помазанником Божиим. В России со времен Ивана Грозного эта церемония миропомазания приобрела вид прямо-таки таинства крещения. Конечно, этот ритуал совершал патриарх Русской Церкви, что порождало уверенность, будто институт самодержавия был установлен самим Богом. Сама же Церковь от союза с троном получала огромные преимущества, автоматически совершая предательство малых мира сего, то есть становясь отрицанием учения Христа.
Насколько Христос был для социалистов квинтэссенцией любви, справедливости и революции144, настолько власть Бога над миром они считали чистейшей формой феодализма. Бакунин заявлял, что если Бог существует, то человек является рабом, значит, требуя отмены рабства, мы должны отказаться и от самой идеи Бога. Но природа человека не терпит пустоты, она ищет причины и логику мироустройства, поэтому социалисты с таким энтузиазмом приняли теорию Дарвина и охотно изучали естественные науки. В учении Дарвина они видели идейное доказательство тезиса, что в самой природе глубоко укоренилась потребность личности жертвовать собой ради общего блага. А анархист князь Потемкин доказательство правильности тезиса о связи законов природы с социализмом нашел в далекой Сибири, где сделал открытие, что фундаментальным жизненным принципом является не соперничество, а сотрудничество.
По всей видимости, в одном из более ранних писем, которое не сохранилось, Феликс что-то говорил о Христе и о своей болезни легких, проводя между ними какую-то параллель, а сестра и ее муж интерпретировали его слова как возвращение блудного брата. Поэтому в октябре, отвечая на их письмо, Феликс путано и с возмущением пишет:
Зачем вы мне говорите о смене пути, зачем пишете мне о милости в связи с болезнью моего тела?! (…)
Я хочу вас любить, потому что люблю, а вы не хотите понять духа моего и искушаете меня, чтобы я сошел со своего пути! Так что же вам теперь нравится во мне больше, чем прежде? Почему вы стали более сердечно относиться ко мне? Неужели только потому, что я упомянул имя Христово, что вы услышали от меня это слово? О, нет! Не хочу, чтобы так было. Не хочу думать, что слово Христос, слово, состоящее из 7 букв: Христос, для вас дороже, чем сам живой и замученный Христос, его учение, заветы, любовь! И далее: Вы радуетесь, что я познал Христа, и сожалеете, что иду Его путем! Как же так? Неужели Его можно признавать только губами? (…) О, я ничтожный, во мне нет еще такой сильной любви, какую Он завещал, я еще слишком сильно люблю себя самого, я не исполняю в полной мере всех заветов Его! Но я хочу и буду более сильным, только не искушайте меня!
(…) Сегодня я признаю только Евангелие Христово, потому что Он проповедовал простым людям, а не «мудрым», которых Он всегда порицал и бичевал, а, значит, оно не требует никаких посредников, потому что Христос был замучен за каждого из нас в отдельности и за всех вместе, и учил: «Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них» (Мат. 18).
Вся эта теологическая тирада Дзержинского, временами переходящая чуть ли не в крик, должна была показать Альдоне и ее мужу, насколько далеко они расходятся в подходе к учению Иисуса.
Итак, я считаю, – продолжает Феликс, – что единственным заветом Его является любовь, любовь и еще раз любовь, проявляющаяся в делах, и учил Он, что любовь к Нему может быть исполнена только через любовь к ближнему своему. (…) Итак, я считаю, что вера без поступков мертва, лицемерна, что поступками этими не может быть грошовая милостыня, а только изменение сердца своего и всей жизни своей и жертвование собой ради ближних своих, ибо «пастырь добрый полагает жизнь свою за овец своих» (Иоанн 10), что поступки эти заключаются не во внешних знаках и словах – о них в Евангелии не говорится ничего, кроме порицания – но в совершении любви и исполнении заветов Его. Я считаю, что любой, кто исполняет заветы Христа, даже евреи (…), является христианином – ибо «кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат и сестра и матерь» (Мат. 12). Итак, я считаю, что ближним моим является любой человек: поляк, литовец, русский, еврей, немец, француз, турок, татарин, негр, индеец, китаец, папуас и т. д.»145.
Сегодня трудно оценить, как на это письмо отреагировала сестра. Несомненно одно: она его бережно хранила и показывала доверенным людям в качестве доказательства, что брат никогда не был непреклонным атеистом. Конфликт теологической природы между ней и Феликсом не закончился с его смертью. Он продолжался долго, вплоть до смерти самой Альдоны в 1966 году, о чем шли разговоры в кругах варшавского духовенства. Архиепископ Юзеф Жычинский вспоминает:
Ксендз Бронек Бозовский, который в свое время был капелланом в монастыре сестер визиток на Краковском Предместье, говорил мне, что среди вверенных его заботе верующих некоторое время была Альдона Дзержинская, сестра Феликса. Иногда она приходила в ризницу, чтобы заказать святую мессу за брата. Объясняла это так: – Батюшка, Феликс был отъявленным негодяем. Но может Господь Бог в своем милосердии не отослал его в пекло, а все еще держит в чистилище. Может я смогу ему помочь этой святой мессой? Отслужите, пожалуйста, батюшка.
И ксендз служил, даже несмотря на то, что просьба звучала странно: отслужить мессу за упокой души Феликса Дзержинского, в то время как память о нем ассоциировалась с профессией палача, и руки создателя ВЧК на только что установленном памятнике были сразу окрашены в красный цвет146.
В письме от 1901 года содержится следующая информация: Феликс признается: Евангелие он прочитал, уже будучи социалистом – что является проблемой чрезвычайно важной и симптоматичной для польского католицизма.
Я раньше не знал настоящего Христа, мне никто на Него не указал, – пишет молодой Дзержинский, – и только теперь я познал Его из собственного Его учения, потому что впервые прочитал Евангелие, слова, которые так просты, каким простым был и сам Учитель, наш единственный, и я полюбил Его всей силой своей души, так как, еще не зная Его, я исполнял его заветы Любви147.
Самой большой опасностью, которая вышла из недр социализма, оказалась диктатура пролетариата. Очень скоро она стала просто диктатурой. (Не будем, однако, забывать, что и Церковь прошла свой этап инквизиторского безумия). В воображении Ивана Карамазова севильский инквизитор говорит самому Иисусу: «завтра же я осужу и сожгу тебя на костре, как злейшего из еретиков, и тот самый народ, который сегодня целовал твои ноги, завтра же по одному моему мановению бросится подгребать к твоему костру угли»148 – ибо мастер Достоевский отлично знал, что идеология – это дитя идеи, вырастающее в ее смертельного врага.
В 1901 году Феликс был молодым социалистом, который жаждал объять человечество своей любовью, обогреть его и отмыть от грязи, словно Христос – и трудно не верить в чистоту его намерений. С назначением на должность председателя ВЧК чувства Дзержинского к человечеству никак не изменились – только это уже была любовь Марата. Слепое следование долгу осчастливить при помощи огня и меча. А смог бы он вместе с севильским инквизитором развести огонь под костром Христа? У меня не хватает смелости ответить на этот вопрос.
VIII. Тот, которого ловят и вяжут. Беглец
Пять лет ссылки в восточную Сибирь – таков его второй приговор. Не только за нелегальную деятельность, но и за побег из первой ссылки. Пять лет – это много, но Феликс не падает духом. Приговор вынесен в ноябре 1901 года, а вскоре он заявляет Альдоне: «Якутские морозы не так страшны, как холод эгоистических душ» – поэтому, как он пишет, лучше Сибирь, чем неволя души.
Еду уже через 3 недели, не делай глупости и не приезжай ни сюда, ни в Минск. Что после этих нескольких минут свидания, потом нам будет еще тоскливее. (…) Что же касается полушубка и валенок, не будет ли это затруднительно для вас? Если захотите мне прислать, то пришлите сюда, в Седльце149.
Ему предстоит ехать через Минск и Москву далеко на северо-восток – в Вилюйск, старое место ссылки в Якутии. «Меня высылают, наверное, через два дня, – пишет он в январе 1902 года. – Радует меня и то, что через два месяца буду свободен [то есть в ссылке], потому что тюремные стены так действуют мне на нервы, что уже не могу хладнокровно смотреть на сторожей, стены, решетки и т. п.»150. Тогда он уже отсидел двадцать три месяца.
18 марта 1902 года из пересыльной тюрьмы в Александровске Иркутской губернии:
Дорога из Седлец, продолжавшаяся два месяца, порядком меня утомила. Из Самары ехали без отдыха 10 суток, и теперь надо немного поправить здоровье, потому что не очень хорошо себя чувствую. И еще: у нас есть книги, немного читаем, но больше разговариваем и проказничаем, заменяя настоящую жизнь – пародией, забавой151.
Но желание жить «настоящей жизнью» было, видимо, очень велико, потому что 19 мая в Александровской тюрьме вспыхнул бунт. Заключенным запретили выходить с охранниками за ворота тюрьмы, чтобы купить продовольствие, а камеры стали запирать на час раньше. В ответ политические провели собрание и потребовали отменить эти ограничения. Когда администрация отказалась, то на очередном собрании заключенные приняли – вспоминает социалист Андрей Сергеев – «далеко идущее и самое революционное предложение тов. Дзержинского, а именно: выбросить из тюрьмы всю охрану (было не более 10 охранников), закрыть ворота и не впускать тюремную администрацию, пока все требования не будут выполнены»152. Так и сделали: ворота забаррикадировали, над ними вывесили флаг с надписью «Свобода», а весь этап провозгласили самостоятельной республикой, не признающей власть и законы российского государства. Вице-губернатора, приехавшего на следующий день для переговоров, внутрь тюрьмы не впустили. Переговоры проходили через дыру в ограждении. В конце концов, царский чиновник уступил: он вернул прежние привилегии и не применил к бунтовщикам никаких репрессий.
В конце мая Дзержинский отплыл в полуторамесячный путь с транспортом заключенных. Ему предстояло преодолеть четыре тысячи верст по реке Лена – но до Вилюйска он так и не добрался. Он задержался в Верхоленске, где познакомился с Львом Троцким, который позже напишет, что летом 1902 года там началась настоящая эпидемия побегов. Дзержинский тоже мечтал об очередном побеге. Хенрик Валецкий из ППС153, опытный ссыльный, подсказал Феликсу, чтобы тот еще в Верхоленске симулировал болезнь, потому что из Вилюйска бежать уже не удастся, так как он расположен очень глубоко в тайге. Феликс притворился, что у него аппендицит, а подкупленный фельдшер подтвердил диагноз и оставил его в больнице. В дальнейший путь Дзержинский должен был отправиться со следующим транспортом ссыльных, но уже через несколько дней он нашел себе товарища по побегу – Михаила Стадкопевцева, русского эсера. Ночью 12 июня они вместе поплыли на лодке по Лене.
Колокол на церкви пробил полночь; два беглеца потушили свет в своей избе и через окно украдкой, чтобы не разбудить хозяев, вылезли наружу, во двор. (…) Как разбойники, они прокрадывались мимо хат, внимательно всматриваясь в темноту, нет ли кого, не поджидает ли кто их. Было тихо, село спало. Только ночные сторожа время от времени стучали в свои колотушки, подавая знаки друг другу.
Наконец, на Лене они отыскали
лодку и сели в нее тихо-тихо, чувствуя в себе силу и веру, что им удастся бежать отсюда. (…) Дыхание перехватило, сердце радостно сжалось – они плывут, село быстро удалялось, пока не исчезло в темноте. И тогда радостный вскрик вырвался из их души, измученной более чем двухлетним пребыванием в тюрьме.
– вспоминал Дзержинский. Историю этого побега он красочно изложил в первом номере «Красного Знамени». Описанный там образ жизни и ментальность сибирских крестьян напоминает прозу Салтыкова-Щедрина или Гоголя.
Мы живо принялись за работу. До 9 утра надо было преодолеть пятнадцать миль, – продолжал он. – Гребли по очереди. Течение было быстрое, поэтому лодка как птица летела по глади реки, окаймленной высокими берегами, лугами и лесами. Ночью при луне все это выглядело фантастически и таинственно. Кое-где по берегам горели костры, отражаясь в воде. Они избегали таких мест, старались плыть в тени (…). Но переполнявшая беглецов радость и чувство спокойствия вскоре ушли: впереди они услышали какой-то шум, как от водопада (…). Шум все нарастал и, наконец, перешел в грохот; уже можно было понять, что это столкнулись две стихии. Впереди показался огромный остров, на его левой стороне над водой нависли скалы, и это с ними так оглушительно боролись волны.
Беглецы обошли это опасное место, направив лодку вправо, вздохнули с облегчением. Но остров заканчивается и снова грохот; течение хочет сбросить лодку между скалами вниз. Здесь стояла мельница. Река между островом и берегом была перегорожена плотиной, и вода с шумом устремлялась через плотину вниз. Они вовремя остановились, причалив к берегу. Что делать? Перед ними была мельница, плотина и пропасть, слева огромный остров с покатым берегом, за ним скалы. На мельнице, видимо, спали, собак, к счастью, не было, только кони заржали беспокойно и галопом умчались от берега. Один из беглецов пошел на разведку: может, удастся потихоньку протащить лодку по берегу мимо мельницы. Второй остался в лодке. Разведка ничего не дала. Надо было возвращаться против течения назад, среди скал наверняка был проход (…). Но ночью, при таком бешеном течении поиск прохода был связан с огромным риском. Тем более, что луна уже скрылась, светало и туман начал подниматься выше над рекой. С огромным трудом им, наконец, удалось перетащить лодку на другую сторону острова. Двадцать раз они ухватывались за лодку, напрягали все свои силы, чтобы продвинуть ее на расстояние двух-трех шагов. Наконец, обессиленные, они столкнули лодку в воду на другой стороне острова, упали в нее и так плыли некоторое время, отдыхая.
Холод стал донимать утром, надели зимние пальто (…). Молчали, усиленно работая веслами. Их окутывал туман – серый, густой, темный. Вокруг ничего уже не было видно, (…) они плыли в безбрежном пространстве, замерзшие, несмотря на работу веслами, даже не ощущая, как быстро плывет их лодка, не видно ни берегов, ни неба, ни реки (…). Уже шесть, а туман все не рассеивается, вдруг – о, боже! случилось что-то страшное: треск, крик и все… Погибли! (…) Это был еще один остров, и дерево развесило над водой свои толстые ветви: беглецы его не заметили, и лодка врезалась в дерево со всей силой. Сидевший на веслах не успел даже вскрикнуть – и был уже в воде. Инстинктивно он ухватился за ветку, точащую над водой, и вынырнул, но ватное пальто, пропитанное водой, тянуло его вниз, а ветка стала ломаться; он ухватился за другую, но и та была слабая. Выбраться самостоятельно он не мог, так как лодки уже не было. Однако второму удалось забраться на ствол дерева, и он помог товарищу выбраться из воды».
Они оказались на совершенно пустынном острове, лишившись всего.
Что тут делать? Там, за рекой, проходит дорога, и люди ездят, слышны их голоса и громыхание повозок, скоро их можно будет даже рассмотреть. (…)
Они договорились, как будут объяснять свое появление здесь, и один из них, не промокший, стал высматривать, не проедет ли кто мимо, а второй, искупавшийся в реке, разжег костер, разделся и давай плясать вокруг костра, чтобы согреться и обсохнуть. Наконец, он обсушился, а тут и крестьяне из ближайшей деревни подъехали на лодке. Их было несколько. На груди одного из них видна была бляха с царским знаком. Они перевезли потерпевших кораблекрушение с острова на берег, а те дали им 5 рублей. Уважения к беглецам, понуро смотревшим на реку, сразу же прибавилось. «Здесь утонули наши вещи и наши деньги, осталась только мелочь, 60 рублей, а остальные, несколько сот рублей, там на дне лежат! Как мы пойдем дальше? Что делать, что делать!». «Успокойтесь, как-нибудь обойдется, – успокаивали их крестьяне и уже без всякой подозрительности стали спрашивать, откуда и куда они едут, и в их голосах было слышно сочувствие и готовность помочь. Беглецы ответили не сразу, угрюмо ходили туда-сюда.
«Лошади скоро будут?»
«А прямо сейчас!»
«Я сын купца из города Ν., – наконец, сказал один из них, – а это наш приказчик. Мы ехали в Жигалово, чтобы там сесть на пароход и ехать в Якутск за костью мамонта, а тут…”
“Не убивайтесь вы так сильно, – снова стали успокаивать их крестьяне, – хорошо, что Господь Бог вас сохранил!” (здесь “купцы”, наверное, перекрестились), – “мы вас на лошадях отвезем в Ζ., а там можете дать телеграмму домой, чтобы выслали денег”.
“А, прекрасная мысль” – в один голос воскликнули беглецы и умолкли. Они пытались придумать, как бы выпутаться из ситуации; снова стали, задумавшись, ходить вперед и назад. (…)
Лошадей подогнали, крестьяне попрощались с жертвами крушения. (…) Десять верст ехали в село, где их встретили
собравшиеся крестьяне – весть о несчастных докатилась до села раньше – и сразу же уездный писарь сообщил им, что часть их вещей выловили недалеко от деревни, а они, если захотят, пусть подождут несколько дней, пока, может, и деньги их найдут. Жадность крестьян спасла беглецов; писарь стал говорить, что сейчас, когда вода мутная, быстрая, деньги вряд ли удастся быстро обнаружить: пусть купцы оставят свой адрес, пусть даже дадут кому-нибудь из крестьян доверенность на поиски. Когда деньги найдут, то они вышлют их в целости и сохранности. А пока господа могут телеграфировать домой, чтобы выслали денег. “Купцы” обрадовались такому предложению (…), но еще нужно было отвертеться от телеграммы. “Вы же знаете, – заговорил купец, – что у нас с деньгами обходятся осторожно. Поверит ли отец нашему несчастью? Скажет: прокутили, в карты проиграли, пусть теперь крутятся, как хотят, а я им ни копейки не пошлю! А мать, моя несчастная мать, что с ней, бедной будет, когда узнает о нашем крушении!” И “купец”, расчувствовавшись, перекрестился с истинно православным благоговением, – “Господи, помилуй” – глубоко вздохнул, а вместе с ним и многие в толпе.
Нет, ничего не поделаешь: «купцам» надо ехать домой, причем не по шоссе вдоль телеграфной линии, а стороной, потому, что так короче, до железной дороги в сторону города Ν., их родного города.
Их провели в избу. Самовар шумит на столе, хозяйка выкладывает на стол свои “шаньги”154, изба полна перешептывающихся баб и мужиков, рассказывающих друг другу, как все произошло. Они не хотят слишком надоедать «купцам», которые, задумавшись о своем несчастье, в молчании попивали чай. (…) Ох, дураки вы, мужики, дураки! Разве купцы бывают такие худые, как те, что сидят перед вами? Ох, дураки, вы даже не догадываетесь, что это те, кого надо ловить и вязать!
Наконец, уехали.
Ехали, не останавливаясь, днем и ночью через тайгу, через первобытный бескрайний лес, и возницы рассказывали им легенды о хозяйничающих в тайге разбойниках и бродягах, убийствах и грабежах, о беглых каторжниках и ссыльных, об охоте на этих беглецов. И чем больше они рассказывали, тем ощутимее становилась темная, таинственная, вечно шумящая тайга, и появлялись из чащи тени убитых и не похороненных, тени умирающих с голода и проклинающих мать, которая родила их на свет; тени заблудших, что в безысходном отчаянии бьются о стволы деревьев. (…) А тайга все шумит и шумит…
Возницы и лошади менялись каждые 6-10 часов. Беглецы быстро продвигались вперед, все ближе к цели. Очередная легенда о потерпевших крушение рождалась тут же, при них, так как каждый из возниц пересказывал ее следующему, добавляя что-нибудь от себя, а «купцы» смущенно вздыхали, а когда никто на них не смотрел – весело улыбались. Потому что им чертовски везло. Скоро тайга должна была кончиться, до деревни осталось 20 верст, сибирские выносливые лошади бежали без перерыва уже 80 верст. Вдруг впереди слышен колокольчик, это кибитка, запряженная тройкой, это кто-то из царских слуг едет!
«Купцам» внезапно захотелось спать, они укладываются и накрываются пальто. Это исправник с сельским начальником поехали осматривать дорогу. Проехали… Близилась ночь, когда они выехали из тайги. Деревня здесь же, на краю леса (…). Тут видят на дороге мужиков с шапками в руках и седого старца на коленях. Они, видимо, приняли «купцов» за царских слуг (…). Кланялись представителям власти, а у тех ни эполетов, ни знаков, кто такие? Стой! Схватили лошадей под уздцы, окружили бричку. Были пьяны. Пропили деревенские деньги вместе со своим старостой, а теперь хотели просить прощения у власти, чтобы избежать наказания. Но это не чиновники, и «Кто вы? Откуда? Куда? Зачем?».
«Прочь, разбойники, как вы смеете нас, купцов из города Ν., здесь на дороге останавливать. Мы вам, сволочи, покажем! Прочь с дороги! Возница, поезжай дальше, огрей-ка кнутом эту пьяную свору!” – строго закричали “купцы”, хотя по коже мороз пробежал. Неужели успели предупредить этих мужиков? Нет, вряд ли. Может, еще удастся спастись! (…) Началась словесная перепалка. У “купцов” был один паспорт, показали его старосте, а второй из них демонстративно достал листок бумаги и стал громко, вслух “писать жалобу” генерал-губернатору, что их, хорошо ему известных людей, задерживают, как каких-то преступников, на дороге, нападение учиняют его люди с царскими бляхами на груди, наверное, хотят получить на водку. Наконец, он обратился к нескольким мужикам, чтобы они были свидетелями против старосты. Мужики испугались и ноги в руки, а староста начинает извиняться, приглашает: Пожалуйте в барскую комнату, и обещает, что сейчас же распорядится, чтобы подали лошадей, только господа купцы пусть не гневаются».
В деревне они не остались, потому что узнали, что исправник должен скоро вернуться и остановиться именно в этой избе. «Но пришел староста и вызволил их из беды. Увидев его, «купцы» страшно возмутились: «Ты, староста, как ты смел нас задерживать, требовать документы, как у разбойников? (…) Нападать на дороге на проезжающих купцов! Нет, мы это так не оставим!» – полные достоинства, разгневанные и оскорбленные, «купцы» ни на минуту не захотели оставаться под одной крышей с таким бандитом, пьяницей и мерзавцем, велели отнести свои вещи в повозку и поехали искать, где нанять лошадей и двинуться в путь.
Это было последнее приключение беглецов (…). Без происшествий они проехали по бурятским степям и через несколько дней уже сидели в поезде, который и привез их туда, куда они так стремились. Побег длился 17 дней, а в ту сторону, в ссылку, стражники везли их четыре месяца»155.
В августе Дзержинский добрался на Виленщину и сразу направился в Поплавы к кузине Станиславе Богутской. По ее воспоминаниям, он неожиданно заявился летним днем 1902 года, измученный, в рваной одежде и дырявых ботинках, с опухшими после долгой ходьбы ногами, но веселый и счастливый, и сразу начал играть с детьми. Он намеревался бежать за границу, но решил еще заехать в Мицкевичи, чтобы повидать Альдону. «Возвращаясь с детьми с прогулки, я вдруг увидела Феликса, сидящего у нас во дворе, – вспоминала сестра. – С невыразимой радостью я бросилась к нему на шею, чтобы обнять его, а он мне шепнул: «Называй меня Казимиром». Мой четырехлетний сын [Тонио] очень удивлялся, когда я называла его то Казик, то, забывшись, Феликс, и спрашивал: «Как же на самом деле зовут моего дядю?»156.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































