Текст книги "Дзержинский. Любовь и революция"
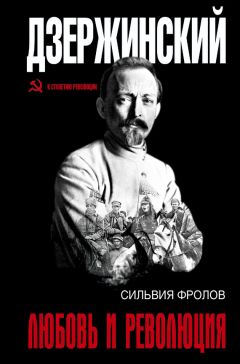
Автор книги: Сильвия Фролов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
В погроме лупанариев бундовцы страшно опозорились. Все это избиение я оцениваю как случай, который следует использовать, с одной стороны, для того, чтобы показать банкротство властей, судов и других правительственных органов, а с другой – для того, чтобы показать массам, что это движение бесцельное и нереволюционное, что рабочие должны ликвидировать это зло другими способами201.
А если уж говорить о проституции, то настоящей проституткой является капитализм. В 1918 году Феликс сам начнет очистку улиц Москвы от отбросов общества – в том числе от анархистов.
Ибо во время революции как грибы после дождя возникают анархистские группы. В 1905 году это были такие группировки, как, например, Свобода, Интернационал, Черное знамя, Безмотивники, Рабочий заговор (в эту группу перейдут взбунтовавшиеся эсдеки), Революционные мстители, Максималисты. Через двенадцать лет сценарий повторится. Радикальные фракции навяжут радикальный образ мышления и обществу, и власти, которая радикальными же методами будет бороться с этим же явлением. Насилие порождает насилие и исполняет роль акушерки истории, на чем настаивал Жорж Сорель и что на первый взгляд кажется нам делом очевидным. Но человечество спотыкается именно на делах очевидных. Для будущих творцов Страны Советов насилие должно было быть орудием революции. И только революции! «Нам тогда казалось, что переворот, революция, которая когда-нибудь произойдет, будет делом трудным. А действительность после революции мы считали чем-то удивительно легким и простым»202 – подытоживает годы спустя Вацлав Сольский. Иначе говоря, не только насилие порождает насилие. Наивность идеалиста может оказаться самым опасным его детонатором. В 1905 году молодой Дзержинский был идеалистом. Его возмущение чисткой лупанариев можно считать здоровым, насквозь гуманным порывом.
В то время как ППС развертывает свою боевую организацию, осуществляет террористические акты и покушения, социал-демократы идут другим путем. Они проникают в ряды военных, так как вооруженный и обученный солдат, выходец из народа и призванный на службу силой, может представлять собой отличный материал для революции – всеобщей, потому что именно к такой революции эсдеки и стремятся. Уже к концу 1904 года Феликс вместе с меньшевиком Алексеем Петренко «Ивановым» начинают агитацию среди солдат варшавского гарнизона и создают Военно-революционную организацию РСДРП (по преимуществу меньшевистскую). Меньшевик Федор Петров вспоминает о деятельности ВРО, что настроение в ее рядах было очень боевое, особенно на территории Пулав, где стояли два пехотных полка и артиллерийская бригада. Революция и вероятность отправки на фронт породили среди солдат этих частей атмосферу бунта. Дзержинский решает этим воспользоваться, действуя при этом вопреки воле берлинцев, которые хотели, чтобы он вернулся в Краков и явился к ним лично.
Что касается меня, – пишет он им, – то я хочу быть здесь, пока не решится вопрос с типографией, военно-революционной организацией, с русскими; потом в Пулавы (2–3 дня), Лодзь (2 недели), в Белосток, Вильно (2 недели), в Ченстохову и Домброву (2 недели). Не беситесь, не злитесь, у вас будет Здислав [Ледер]203 и все будет в порядке204.
В Пулавы он приехал вместе с Адольфом Барским, на месте их ждал Эдвард Прухняк. Втроем они стали ходить по казармам, разговаривать с солдатами. Они посчитали, что настроения созрели настолько, что надо действовать быстро. «В Пулавах, Казимеже, Вонвольнице, Коньсковоле, Курове, Маркушове и др. из рабочих были организованы центры, которые должны были руководить восстанием в своем регионе, – вспоминает Владислав Ковальский, член Южного комитета СДКПиЛ. – В деревнях создавались группы, которые по сигналу должны бить в колокола и браться за оружие – главным образом, охотничьи ружья и револьверы старого образца, косы, вилы и т. п.». Восстание началось в ночь с 22 на 23 апреля 1905 года, но было подавлено в зародыше. Подвели солдаты и плохая организация мероприятия. В некоторых деревнях мужики «восстали, но походили, походили, да и разошлись на работу в поле»25. Дзержинскому, Барскому и Прухняку пришлось возвращаться в Варшаву. Убегая, они перелезли через высокий забор воинской части. Барский был уже в пожилом возрасте и физически не очень подготовлен, а Прухняк был очень низкого роста, и Феликсу пришлось сначала подсаживать их, а потом перелезать самому. Тем не менее, военно-революционная организация продолжала действовать вплоть до ареста подпольщиков в ноябре 1905 года.
На 1 мая социал-демократы наметили всеобщую демонстрацию. Еще в марте Дзержинский сообщал берлинцам, что в Варшаве массы надеются на этот день. И он сам встает во главе собравшихся, ведя людей, по правде говоря, на кровавую бойню, так как когда многотысячная демонстрация подошла к Алеям Иерусалимским со стороны улицы Желязной до нынешней улицы Халубинского, солдаты дали залп. «Эта толпа, состоящая главным образом из женщин и даже детей, не оказывали, конечно, никакого сопротивления; уже после первого залпа они разбежались как стая перепуганных птиц, оставив на мостовой 25 убитых и 20 раненых»205, – рассказывал потом Владислав Побуг-Малиновский. Сам Дзержинский, без единой царапины, развозит раненых по больницам, а на 4 мая готовит общефабричную забастовку в знак протеста против резни206.
Одновременно с этим социал-демократы объявляют войну Церкви, которая открыто противилась революции. В июне они издают воззвание Церковь в услужении деспотизма, в котором призывают: «Рабочие! Как видите, наше духовенство превратило амвоны костелов в политическую трибуну, и с этой трибуны ксендзы произносят речи в защиту полиции и царского правительства. Это позор, который трудящиеся люди не должны терпеть и не потерпят»207. А Феликс сообщает берлинцам: «В костелах борьба с ксендзами уже началась – сначала без участия организации, стихийно. Народ освистывает ксендзов, раздаются возгласы: «Врешь!». Дело доходит до драки»208.
После варшавских событий отозвалась Лодзь. 18 июня там прошла пятитысячная демонстрация, и опять резня. От пуль солдат погибли пять человек. 21 июня по городу разнеслась сплетня, что власти выкрали из морга трупы двух погибших евреев и ночью скрытно их похоронили – после чего в городе прошла уже семидесятитысячная демонстрация. На сей раз убитых было двадцать один, по крайней мере, по официальным данным. Вечером на улицах выросли баррикады и началась стрельба. Когда двумя днями позже забастовка парализовала всю промышленность Лодзи, власти были вынуждены ввести военное положение209. Дзержинский пишет прокламацию, в которой призывает: «На борьбу должна подняться вся страна, все государство, так, как поднялась вся Лодзь»210. Он едет в этот город, чтобы своими глазами увидеть последствия уличных волнений. В письме берлинцам он пишет: «В общем материал и условия здесь очень хорошие и достаточные, не хватает только руководящей руки, ленинского «кулака», организатора»211. А вождь большевиков называет лодзинские события первым вооруженным восстанием рабочих России.
30 июля 1905 года в лесу под Дембем Вельким недалеко от Минска Мазовецкого собрались представители районных групп СДКПиЛ. Лес позволял лучше законспирироваться, но около пяти часов вечера расставленные наблюдатели дали знать, что приближаются конные стражники. Часть людей укрылась в лесных зарослях, но у большинства не было возможности убежать, так как поляна была быстро окружена. Дзержинский успел крикнуть: «Товарищи! Быстро отдайте мне все, что у кого есть запрещенного. Мне в случае ареста это и так не принесет большего вреда»212. Всего в импровизированную тюрьму в деревенской избе попало сорок человек. «Внутри нас никто не охранял, только сама изба снаружи была окружена солдатами, – вспоминал Антони Краевский, в то время секретарь районных комитетов СДКПиЛ. – В таких условиях настроение было отличное. Мы проказничали как малые дети, которые на минуту вырвались из-под бдительного ока строгих родителей. Уже с раннего утра начали приходить рабочие и местные крестьяне, которые, узнав об аресте, приносили нам разную еду. Солдаты оказались довольно порядочными и все охотно разрешали принимать»213.
Они были настолько порядочными, что арестанты стали их агитировать: «Сидевшие по углам узники с жаром обрабатывали своих ангелов-хранителей. (…) Смотри, как к тебе относятся, – убеждал солдата Феликс, – любой «офицеришка» обругает тебя, ударит, каждый говорит тебе «ты» (…), а ты попробуй к нему на «ты». Как думаешь, ничего за это не будет?»! – пишет Краевский. На простых солдат, крестьянских и рабочих сынов, эти аргументы действовали так сильно, что они готовы были выпустить арестантов. Но тут вмешались офицеры – быстро, ночью арестантов перевезли на подводах в Варшаву. “«Юзефа» забрали к себе женщины, – рассказывает Краевский, – ему пришлось сесть на их подводу. Некоторые мужские телеги сопротивлялись этому, но женщины победили»214. С тех пор у Феликса появилось еще одно прозвище: «эсдековский Аполлон».
В Варшаве он попадает в уже известный ему X павильон цитадели. Брат Игнатий с женой приносят ему книги и учебники по французскому языку. «Ты видел зверя в клетке», – пишет ему Феликс после очередного свидания. И Альдоне: «Не люблю свидания через решетку, при свидетелях, следящих за каждым движением мышц на лице. Такие свидания – это мука и издевательство над человеческими чувствами»215. 8 сентября, когда Дзержинский сидел в X павильоне, на склонах цитадели был повешен Мартин Каспшак.
А тем временем революция охватывает все более широкие круги. 20 октября рабочие Московско-Казанской железной дороги начинают забастовку, которая быстро перерастает во всероссийскую стачку. Наконец, царь понимает, что это конец самодержавия. 30 октября объявляется царский конституционный манифест, который обещает «даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов», гарантирует принцип, что «никакой закон не мог восприять силу без одобрения Государственной Думы» и предусматривает «привлечь теперь же к участию в Думе (…) те классы населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав»216. То есть впервые в России парламентаризм! Но социалистам этого мало. Пролетариат России и Царства Польского отвечает забастовкой с требованием всеобщей амнистии и установления демократической республики217. 2 ноября в силу этой вытребованной у правительства амнистии из варшавских тюрем освобождают 365 политических, но из X павильона выходят только двое: Феликс Дзержинский и Хенрик Валецкий, с которым тот познакомился в ссылке в Верхоленске. На других заключенных, обвиняемых в вооруженных нападениях, амнистия не распространилась.
Из Цитадели Феликс писал сестре:
Мне не хватает только красоты природы, я очень хорошо чувствую, что во мне произошла перемена, в последние годы я ужасно полюбил природу. До ареста я мечтал, что поеду в деревню, сейчас в тюрьме я мечтаю, что как только стану свободным и легальным, и больше не нужно будет скрываться и скитаться по чужим краям – поеду в наши места. А пока здесь отдыхаю218.
После освобождения он, конечно, сразу забывает и о природе, и об отдыхе. Первым делом он направляется на улицу Цегляную, где проходит городская партийная конференция. Здесь он выступает с речью, из которой Юзеф Красны запомнил «только два слова: к оружию, только с оружием и т. д.»219. Эта мысль царит везде. Пилсудский тоже призывает: «… стало ясно, что революционному движению остался только один путь – создания физической силы, способной сломить мощь правительства»220.
Декабрь– это кульминация революции 1905–1907 годов. Он начинается вооруженным восстанием в Москве, которое поддержали поляки в Королевстве. В это время Феликс едет в Домбровский угольный бассейн, где организует забастовку на металлургическом заводе Гута Банкова. Он надеется, что эта стачка перерастет в восстание во многих промышленных центрах. Но после кровавого подавления московского мятежа революционный подъем в Польше также идет на убыль.
В апреле 1906 года в Стокгольме состоялся Объединительный съезд РСДРП (в это же время в Петербурге торжественно открылись заседания Государственной думы). О необходимости созыва межпартийной конференции для принятия временного соглашения между социал-демократическими партиями, действующими на территории России, говорилось уже давно. Революция ускорила принятие такого решения, потому что вызвала настоящий поток людей в партии, которые, благодаря этому, превратились из кадровых в массовые. Дзержинский принимает участие в съезде как делегат от СДКПиЛ221. После присоединения польская социал-демократия сохранила свое название, право на свои съезды, комитеты и литературу, была признана ее самостоятельность «во всех внутренних делах, касающихся агитации и организации в Царстве Польском и в Литве». Ей также обеспечено право на самостоятельное представительство на международных конгрессах и в Международном социалистическом бюро (МСБ). СДКПиЛ на сей раз отказалась от требования ревизии программы РСДРП по национальному вопросу и стала открыто критиковать меньшевиков, прежде всего за их стремление сотрудничать с Думой. Роза предостерегала, что «Плеханов и его товарищи могут посадить партийную лодку на мель оппортунизма».
Сохранилось забавное с точки зрения фактов письмо Льва Мартова, написанное им Павлу Аксельроду 15 октября 1905 года. Один лидер меньшевиков пишет другому, что польские социал-демократы «стали «ругаться» на меньшевиков» и ближе сотрудничать с большевиками после ареста «фактического русского вождя – рабочего Дзержинского, который был решительным меньшевиком «антиленинцем»»222. Такое суждение Мартова свидетельствует о его плохой осведомленности. Но его мнение доказывает лояльность Феликса в отношении берлинцев. Интересен также факт, что Дзержинский был для Мартова рабочим – такое впечатление он производил на тех, кто ничего не знал о его происхождении.
Стокгольмский съезд был чрезвычайно важным для последующей судьбы Феликса. Там он впервые встретился с Лениным. Не сохранилось никаких документов, описывающих их впечатления друг о друге, но с этого времени Феликс относился к создателю диктатуры пролетариата как к отцу. Только в одном они не могли прийти к согласию – в национальном вопросе223.
В июле Дзержинский, как представитель Главного правления СДКПиЛ, становится членом Центрального комитета РСДРП. В связи с этим он едет в финский городок Куоккала (ныне Репино), а оттуда перебирается в Петербург, где встречается с Лениным. В августе в российской столице происходит два громких события. 25 августа брошена бомба в дом премьера Петра Столыпина (бомбу продал максималистам большевик Леонид Красин). На следующий день эсерка Зинаида Коноплянникова выстрелом из револьвера убивает генерал-майора Георгия Мина, руководившего кровавым подавлением декабрьского восстания в Москве224. А 20 августа Феликс пишет из Петербурга письмо товарищам в Берлине: «… я пришел к выводу, что нужны маузеры – я могу этим заняться, как и апельсинами [бомбами]; нужны ли они и надо ли что-либо делать в этом направлении?»225. Неужели ему передались настроения российских террористов? Вполне возможно, но в том же письме он осуждает «кровавую среду» ППС, то есть более десятка одновременных покушений на полицию, совершенных 15 августа в разных городах Королевства. Дзержинский считает такую политику авантюристической и даже провокационной.
В декабре 1906 года его вновь арестовывают226. В Варшаве на улице Цегляной в квартире эсдека Юзефа Красного он принимает участие в совещании СДКПиЛ с Бундом на тему выборов во 2-ю Государственную Думу и здесь попадает в ловушку. Его сажают в самую грязную тюрьму на территории Российской империи – в варшавскую Ратушу.
Камера была до невозможности грязная, годами, наверное, ее никто не убирал. Стены, до половины покрашенные черной краской, были обшарпаны. Потолок и верхняя часть стен, когда-то белые, сейчас были темно-серые от грязи. Зарешеченные грязные окна с жестяными корзинами снаружи пропускали так мало света, что в нескольких шагах от окна ничего не было видно227
– вспоминает Софья Мушкакт-Дзержинская, его будущая жена, арестованная одновременно с Феликсом и тоже помещенная в Ратушу. В камеры, рассчитанные на десять человек, запихивали по шестьдесят, поэтому спали попеременно. В дополнение ко всему в уборных нечистоты покрывали пол на высоту нескольких сантиметров. Возвращаясь в камеру, заключенные приносили все это на своих подошвах. Феликс и в этой обстановке не падает духом – он организует ведро с водой и щетку, после чего на коленях приводит камеру в состояние, пригодное для пребывания. Сидевший вместе с ним Красны вспоминает, что Феликс трудился с таким упорством, как будто мытье пола было важнейшей партийной работой. Этим он заслужил уважение заключенных, которые знали, кто он: член Главного правления СДКПиЛ228.
Когда Феликса перевели из Ратуши в тюрьму Павяк, он организовывает там школу для политзаключенных. В маленьких группках учили всему, что только было возможным в подобных условиях. Неграмотных учили читать и писать, грамотным разъясняли Маркса. Феликс был занят в школе по пять – шесть часов ежедневно. Красны рассказывает об одном забавном случае. «Мы играли в игру, которую называли «дупак». Суть игры заключалась в том, что один из нас клал голову на колени другого, а стоящие полукругом за ним ударяли его пониже спины». Конечно, ему доставалось, пока он не отгадает, кто ударил. «Тов. Дзержинский увлекался игрой. (…) У меня создавалось впечатление, что таким своеобразным способом он сводил свои счеты с Бундом»229. Играли и в карты. На что? На уборку камеры и «ночника». Однажды Феликс и Якуб Ханецкий, с которым они дружили на воле, так заигрались, что Куба проиграл три месяца уборки. Счастливый Феликс рассказывал об этом в коридоре.
Феликс выходит из Павяка 4 июня 1907 года, после того как брат Игнатий внес залог в размере 1000 рублей. Эсдеки организовали сбор денег в партии, а освобождение удалось благодаря договоренности с подкупленными сотрудниками Охранки. Найденные у Феликса при аресте нелегальные бумаги они переложили в папки с делами других лиц, уничтожив тем самым отягчающие его дело обстоятельства. «Конечно, об этой комбинации наши товарищи ничего не знали, – замечает Красны, – уговор был только о том, чтобы выкрасть бумаги Дзержинского»230.
XI. Я пил за романтизм. Расколы и лояльность
Выйдя из Павяка, Феликс быстро уезжает из Варшавы, где – по выражению Юлиана Мархлевского – «по пятам за ним ходила целая псарня». Он работает на территории Лодзи, Домбровскаого бассейна и Ченстоховы. Однажды, в 1907 или 1908 году, он приехал в Лодзь на межрайонную конференцию, – рассказывал позже Софье Дзержинской Станислав Бобинский «Рафал», работавший тогда вместе с Феликсом. – Перескакивая, как обычно, через две-три ступени, Феликс вбежал на этаж к условленной квартире, приоткрыл дверь и увидел мундиры полицейских и жандармов. Немедленно он захлопнул дверь, а видя в замке снаружи ключ, повернул его. Спокойным шагом он ушел и направился в город, чтобы предупредить товарищей о провале231.
В очередной раз он попался 16 апреля 1908 года, за две недели до первомайского праздника. Охранка устроила в Варшаве охоту на политических рецидивистов, обоснованно предполагая, что готовится манифестация. В тот день Феликс пошел на почту на Варецкой площади, где он получал корреспонденцию до востребования. На выходе из здания его арестовали и отвезли в X павильон Цитадели.
Эту пятую по счету отсидку Феликс описывает лично – в период с 30 апреля 1908 по 8 августа 1909 года он пишет знаменитый Дневник заключенного, опубликованный позже в «Социал-демократическом обозрении». Его записки представляют большой интерес, особенно при их сопоставлении с Воспоминаниями Винцента Ястржембского, который тоже попал в X павильон после провала лодзинской боевой организации ППС. Дзержинский и Ястржембский представляют две противоположные картины одного и того же места в одно и то же время. Феликс пишет:
… здесь повесили 5 человек. (…) Подо мной уже несколько дней сидят два человека. Они ожидают казни.
Не перестукиваются, сидят тихо. (…) На месте казни установлены постоянные, а не временные виселицы. (…) Каждый день заковывают в кандалы по несколько человек. (…) Когда они ходят на прогулке, вся тюремная тишина заполняется одним этим бряцаньем. (…) Мы узнали, что двоим утвердили смертные приговоры; сегодня ночью их не забрали, значит, завтра. А ведь у каждого из них есть, наверное, родители, друзья, невеста. Последние мгновения; здоровые, полные сил – бессильны. Придут и заберут, свяжут и отвезут на место казни. Вокруг лица врагов или трусов, касание палача, последний взгляд на мир, мешок на голову и все…
Тем временем Ястржембский утверждает:
В X павильоне от вынужденных жителей этого дома не требовали ничего, кроме того, чтобы они не подпиливали решетки на окнах, не рушили камеры, не шумели и не общались с соседями. Заключенный, который не нарушал эти правила, имел самые лучшие отношения с тюремной администрацией и надзирателями, потому что не имел их вовсе. Были такие? По преимуществу были именно такие.
Феликс пишет: «Еды так мало, что если нет денег, то человек всегда голодный! Еда немного лучше, чем, например, в Павяке, но значительно меньше и буквально нечем заполнить желудок».232 – Ястржембский, в свою очередь утверждает: «… не помню, чтобы в течение года я там голодал, хотя бы один день»233.
Оба вспоминают две самые известные в X павильоне особы: анархиста Ватерлоса и затевающую драки с надзирателями Казимиру Островскую, выдающую себя за Ганку Марчевскую. О ней Феликс, сидящий в соседней камере, пишет: «… полуребенок, полусумасшедшая. (…) Стучит мне, чтобы я прислал ей веревку, что она повесится. При этом она добавляет, что веревка должна быть непременно от сахара, чтобы сладко было умирать». Ястржембский же вспоминает: «Островская страдала странным типом истерии самообвинения». К сожалению, окажется, что она страдала не только этим. Феликс отмечает: «Ганка была в Творках (дом для умалишенных) и оттуда была увезена прушковскими социал-демократами, а когда ее после этого арестовали, она выдала тех, которые ее освобождали»234.
Оба используют партийный жаргон: людей отправляют на «шнурок», самые суровые приговоры получают «фраки» (деятели революционной фракции ППС), стражники – это «чудаки», опасаться следует «провоков». Но разница в оценке самого места значительна. Это тем более интересно, что Феликс, как социал-демократ, сидит за побеги из ссылки, организацию забастовок, демонстраций и издание нелегальной литературы. Это серьезные провинности, но не подпадающие под самые суровые приговоры. А Ястржембский, арестованный как инструктор боевых отрядов ППС, и которому грозит смертная казнь за «эксцессы», в конце концов получает восемь лет каторги. Его товарищ по организации Юзеф Монтвилл-Мирец-кий приговорен к пятнадцати годам каторги, а на следующем процессе – к «шнурку». Его казнь Феликс описывает в Дневнике как самое тяжелое переживание того периода.
Ястржембский в 1909 году попал на каторгу в Псков. В переписанных в шестидесятые годы XX века Воспоминаниях он рассказывает, в частности, о характерном для русского самодержавия способе унижения человека: о «порке», то есть избиении розгами.
Декабристы, петрашевцы, землевольцы и народовольцы, социал-революционеры и социал-демократы, большевики – все эти люди, на протяжении целого столетия боровшиеся за величие своей страны, могли быть, а многие из них были высечены розгами, – пишет он. – В знак протеста эти люди совершали самоубийство, бросались на своих мучителей, чтобы получить смертный приговор, умирали под розгами от ран и надругательства над человеческим достоинством – ничто не помогало. (…) Лишь одно это могло бы оправдать Октябрьскую революцию235.
Секли ли Феликса? Как пишет английский историк Орландо Фигес, «его тело было все покрыто шрамами»236. Конечно, у него должны быть шрамы на ногах от кандалов, в которые его заковали на каторге в 1914 году. Были ли у него шрамы от розог? Сам он вспоминал лишь о том, как секли других.
Приговор был суров: лишение шляхетского звания, всех прав и ссылка на вечное поселение в Сибирь (за побеги из ссылки и нелегальную деятельность). В конце августа 1909 года его отправляют вглубь России, в Тасеево Канского уезда Енисейской губернии. Там он находится не более недели и… снова убегает, передвигаясь главным образом по железной дороге. Он бы сбежал и быстрее, если бы не некий инцидент. Один из политических заключенных, обороняясь, убил уголовника. За это ему грозил смертный приговор, и Феликс отдал ему паспорт на фальшивое имя, полученный им перед отправкой в ссылку от товарищей с воли. Сам он бежал без какого-то ни было документа.
В декабре, по воспоминаниям Альдоны, он добрался к ней в Вильно, совсем больной.
Всю ночь мы сидели втроем – Феликс, я и брат Станислав – и не могли наговориться. Феликс рассказывал о приключениях, которые он пережил во время побега, о том, как в вагон сел человек, который видел его в кандалах и тюремной одежде, когда его вместе с другими политзаключенными везли в Сибирь. Не желая быть узнанным, Феликсу пришлось целые сутки лежать на полке, отвернувшись к стенке, пока опасный попутчик не сошел на одной из станций237.
Был риск, что в Вильно его кто-нибудь узнает, поэтому родственники купили в аптеке краску и покрасили ему волосы в черный цвет. Вдруг кто-то звонит в дверь. Племянник выводит дядю Фелю через заднюю дверь к реке. И правильно делает, потому что в дом входят жандармы, ищущие беглеца. Дзержинский, просидев ночь на берегу Вилии, на следующий день быстро уезжает в Варшаву, а оттуда в Берлин238.
И снова большая проблема с легкими, и руководство СДКПиЛ направляет его в отпуск в Италию. Примерно 22 января 1910 года Феликс приезжает на Капри, где знакомится с писателем Максимом Горьким и его второй женой актрисой Марией Андреевой. На этом итальянском острове Горький руководит в партийной школой для рабочих. Сам финансируемый германским миллионером Фридрихом Альфредом Круппом, сыном знаменитого промышленника, он за свой счет содержал курсантов в отеле Блезус. На фоне сказочных видов средиземно-морской природы молодежь впитывала в себя революционную науку. Горький преподавал им историю литературы, Анатолий Луначарский – историю философии, Александр Богданов – экономию, а Михаил Покровский – краткий курс истории России. К этому следует добавить прогулки, рыбную ловлю, игру в шахматы. Ну и отличие взглядов всей капринскрой группы от позиции Ленина, с которым автор романа Мать остро полемизировал (местные рыбаки хорошо помнят сцены их извечных ссор, когда Ленин навещал Горького).
В этот итальянский рай и попал Феликс. Он очарован Горькими, а они – польским социал-демократом. Их дружба будет длиться годы, несмотря на то, что в мировоззренческих вопросах Феликс встанет на позицию Ленина. С острова он будет писать письма Владиславу Штейну и Леону Йогихес-Тышке, в которых выскажет свое мнение, что не стоит строго судить оценку Горьким некоторых партийных вопросов, потому что он не политик. Одновременно он утверждает: «Горький – это романтик партии, верховный жрец народа и, наверное, поэтому он для меня– Колосс», «…они [оба с Андреевой] для меня – продолжение моря и острова – сказки, которая мне снится». Он восхищается этим итальянским курортом: «Позавчера был на горе Тиберио, видел, как танцевали тарантеллу». В следующем письме: «С одной стороны огромный скалистый колосс острова, с другой – Неаполитанский залив, полукругом высеченная панорама – Сорренто, Везувий, Неаполь, там вдали – Искья. С лодки не видно живой игры красок моря, только отблеск дневного света. (…) И вот мы в гроте. Поднимаю голову и… замираю».
Перед отъездом он проводит у Горьких последние минуты. «Я принес им цветы, пил за романтизм, за мечты – его в особенности. Мне было хорошо, я не думал об отъезде, я радовался, что его вижу, слышу – что я ему не чужой»239.
О том, что он делал после отъезда с Капри, пишет из Берлина в письме Альдоне: «Уже прошел целый месяц, как я вернулся с Капри – был на итальянской и французской Ривьере, был в Монте Карло, даже выиграл 10 франков – потом в Швейцарии смотрел на Альпы – на Юнгфрау и другие колоссы, горящие в лучах заходящего солнца». И сразу же добавляет: «И тем больше сжимается сердце, когда думаю об ужасах человеческой жизни»240. Это размышления, характерные для аскета. Ибо аскет – это человек, который познав земные удовольствия, испытывает глубокое чувство вины. А кроме того, социал-демократический Аполлон переживал несчастную любовь.
В начале марта 1910 года Дзержинский вновь едет в Краков. Этот приезд и следующие два года пребывания под Вавелем связаны с серьезным расколом в партии. Конфликт начинается со споров между литераторами (то есть партийными теоретиками) и организаторами (или практиками) и проявляется уже в 1908 году, когда Феликс был в тюрьме. Литераторы были тесно связаны с германскими социал-демократами (СДПГ), за это организаторы обвиняли их в отрыве от отечественных организаций и в излишне централизованной системе руководства. Варшавский комитет СДКПиЛ во главе с Юзефом Уншлихтом и Винцентом Матушевским жаловался на отсутствие средств, которые действительно были сильно урезаны берлинцами после революции. Большевики в этом плане были в лучшем положении, потому что их меценатами становились романтичные русские миллионеры, увлеченные красивыми лозунгами о социальной справедливости. Поляки на таких спонсоров рассчитывать не могли. Организаторы требовали также перенести Главное правление партии если не в Королевство, то по крайней мере в Краков, где работало Бюро заграничных секций СДКПиЛ. Литераторы, в свою очередь, считали, что Берлин – это наилучшее место для Главного правления, потому что отсюда легче было поддерживать контакты с заграничными секциями партии, с Брюсселем – резиденцией Международного социалистического бюро, а также с Парижем, где находилось Заграничное бюро ЦК РСДРП241. В конце концов, согласились на компромисс, в Краков перевели секретариат и партийную кассу, объединив их с делопроизводством и архивом. Секретарем и казначеем Главного правления с 19 марта 1910 года становится Феликс Дзержинский.
Достигнутое соглашение не означало полного согласия Феликса с берлинцами, ему была ближе позиция варшавских раскольников. В письме Здзиславу Ледеру он дает понять: «В связи с новым курсом ГП [Главного правления] в направлении меньшевизма по вопросу о легализации профсоюзов – мне было бы очень трудно исполнять обязанности секретаря ГП, а может даже и невозможно. В следующем письме он сообщает: «… люди перестают доверять политическому руководству ГП, каждый самостоятельно формирует тактику и задачи партии. Я вижу начало хаоса и не могу противодействовать, так как по моему мнению линия ГП губительна». В декабре 1910 года, продолжая критиковать берлинцев за потерю связи со страной, он пишет Тышке: «Нынешнее ГП – это совсем не ГП активной партии. Была забастовка водителей трамваев – где было ГП, что сделало, как сделало? Был и есть целый ряд других забастовок – где ГП, что оно сделало?». И завершает письмо заявлением: «Быть членом так работающего ГП – это для меня просто моральная мука»242. Но в декабре 1911 года, в момент официального раскола в СДКПиЛ, когда Варшавский комитет отделится от Главного правления, Феликс все же останется с берлинцами. Победит врожденная лояльность243.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































