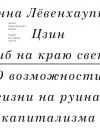Читать книгу "Неприятности в раю. От конца истории к концу капитализма"

Автор книги: Славой Жижек
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Однако, с точки зрения Дарендорфа, данную проблему лучше всего объясняет тот простой факт, что болезненный переход через «долину слез» длится дольше, чем типичный период между (демократическими) выборами, из-за чего возникает большой соблазн отложить трудные перемены ради краткосрочных избирательных выгод. По его мнению, парадигматической констелляцией здесь выступает разочарование широкого ряда посткоммунистических стран в экономических результатах нового демократического порядка. В славные дни 1989 года они отождествляли демократию с изобилием западных обществ потребления; по прошествии же десяти лет, когда изобилие так и не наступило, они обвинили в этом саму демократию. К сожалению, Дарендорф почти не касается противоположного соблазна: если большинство противится насущным структурным переменам в экономике, то разве не логично будет, если примерно на десятилетие власть возьмет в свои руки (пусть и недемократическим путем) просвещенная элита, которая навяжет необходимые меры и тем самым заложит основы для действительно устойчивой демократии? Размышляя в таком ключе, Фарид Закария отмечает, что демократия может «прижиться» только в экономически развитых странах: если в развивающейся стране происходит «преждевременная демократизация», то результатом становится популизм, приводящий к экономической катастрофе и политическому деспотизму. Неудивительно, что самые успешные в экономическом плане из бывших стран третьего мира (Тайвань, Южная Корея, Чили) полностью приняли демократию только после периода авторитарного правления. И более того, разве эта логика не является самым веским аргументом в пользу авторитарного режима в Китае?
Едва ли стоит удивляться тому, что сегодня некоторые русские националисты испытывают ностальгию по Юрию Андропову – главе КГБ, который стал генеральным секретарем КПСС в 1982 году, но умер всего через шестнадцать месяцев у власти. Это тоска по своего рода альтернативной истории: если бы Андропов прожил дольше, то СССР сохранился бы и пошел по китайскому пути. Андропов хотел провести радикальные экономические реформы, и его программа, над которой он работал с 1965 года, была схожа с программой Пиночета в Чили: авторитарная централизованная власть недемократическими средствами и без какой-либо общественной дискуссии осуществляет трудную и непопулярную модернизацию, направленную на вестернизацию страны. Андропов отлично понимал, что из-за сопротивления этим либеральным реформам на протяжении нескольких лет будет необходима жесткая, почти сталинская диктатура. Он также стремился упразднить этно-территориальное деление СССР, так как, по его мнению, ликвидация границ республик позволила бы избавиться от большей части партийной номенклатуры. Следовательно, он рассматривал возможность запрета деятельности всех партий в стране (что означало запрет КПСС). Вместо республик Андропов планировал создать десять соревнующихся между собой экономических зон, лучшая из которых служила бы примером для всей страны, помогая преодолеть деградацию системы в целом, примерно так же, как это делается в Китае. Андропов знал, что для управления этими зонами ему необходимы новые профессионалы, которых он искал среди офицеров КГБ и тех, кто был готов сотрудничать с КГБ в этом направлении. Решение Андропова проводить ультралиберальные преобразования авторитарными средствами соответствовало духу политики Рейгана и Тэтчер 1980-х годов; альтернатива в виде шведского социализма считалась неподходящей для СССР21.
Сегодняшняя новизна состоит в том, что из-за продолжающегося кризиса, начавшегося в 2008 году, недоверие к демократии, прежде наблюдавшееся только в странах третьего мира или посткоммунистических развивающихся странах, охватывает и развитый западный мир: звучавший пару десятилетий назад покровительственный совет другим теперь касается нас самих. Но что, если такое недоверие оправданно? Что, если спасти нас могут лишь эксперты, а также полная или почти полная демократия? Как минимум можно с уверенностью сказать одно: нынешний кризис убедительно доказывает, что не рядовые люди, а именно эксперты по большей части не ведают, что творят. В Западной Европе мы, в сущности, наблюдаем усугубляющуюся некомпетентность правящих элит: они всё хуже и хуже понимают, как нужно управлять. Взгляните, как Европа реагирует на греческий кризис: она требует от Греции погасить долги, одновременно сокрушая ее экономику навязанными мерами жесткой финансовой политики, означающими, что долги Греции никогда не будут возвращены. В конце декабря 2012 года сам МВФ опубликовал исследование, показывающее, что экономический ущерб от таких агрессивных мер может оказаться втрое больше, чем считалось ранее, отменив таким образом свой совет об экономии в кризисной еврозоне. Теперь МВФ признаёт, что принуждение Греции и других стран-должников к слишком быстрому сокращению их бюджетных дефицитов контрпродуктивно, – но лишь теперь, когда из-за «ошибочных расчетов» были потеряны сотни тысяч рабочих мест. Здесь-то и кроется истинный посыл «иррациональных» народных протестов по всей Европе. Демонстранты отдают себе отчет в том, чего они не знают: они не делают вид, будто у них есть быстрые и простые решения, но тем не менее чутье правильно подсказывает им, что и у власти тоже нет решений. В сегодняшней Европе слепые ведут слепых. Жесткая финансовая политика – ни в коем смысле не наука. Скорее это современное суеверие – инстинктивная реакция на непостижимо сложную ситуацию, когда здравый смысл подсказывает: «что-то пошло не так, мы в чем-то виноваты, нам придется расплачиваться и страдать, поэтому давайте сделаем нечто болезненное и будем тратить меньше». Экономия не «слишком радикальна», как заявляют некоторые левые критики, а, напротив, слишком поверхностна и не затрагивает истинных корней кризиса.
Еще одним примером подобного магического мышления (и точной моделью абстрактного мышления по Гегелю) служит так называемая кривая Лаффера, которую апологеты свободного рынка вспоминают как довод против чрезмерного налогообложения. Кривая Лаффера демонстрирует зависимость между налоговыми ставками и объемом налоговых поступлений и то, как меняется налоговая база в ответ на изменение ставки налога. Она постулирует, что налоговые поступления равны нулю при крайних уровнях ставки в 0 % и 100 % и что есть хотя бы одно значение ставки, при котором налоговые поступления достигают отличного от нуля максимума: даже с точки зрения правительства, облагающего налогами бизнес, максимум налоговых доходов бюджета достигается не при наивысшей ставке. Начиная с какого-то момента дальнейшее увеличение налога действует как негативный стимул, вызывая бегство капитала и в результате сокращение налоговых поступлений. Это объяснение подразумевает, что сегодня ставка налога уже слишком высока и что ее снижение не только пойдет на пользу бизнесу, но и увеличит доходы от налогов. Проблема такого объяснения заключается в том, что, хотя в каком-то абстрактном смысле оно справедливо, но, как только мы начинаем рассматривать налогообложение во всей совокупности экономического воспроизводства, все усложняется. Значительная часть налоговых сборов вновь тратится на продукцию частного бизнеса, стимулируя его. Но еще важнее то, что собранные средства также идут на создание подходящих условий для ведения бизнеса. Рассмотрим два сопоставимых города: один с низкой ставкой налога на предпринимательство, а другой – с высокой. В первом городе государственное образование и здравоохранение находятся в плохом состоянии, растет преступность и т. д., между тем второй город тратит больше средств на образование, энергоснабжение, транспорт и пр. Разве не логично предположить, что многие предприниматели сочтут второй город более привлекательным для своих инвестиций? Следовательно, как это ни парадоксально, если первый город решит последовать примеру второго в плане налоговой политики, то повышение налога может создать дополнительные стимулы для частного бизнеса. (И, между прочим, многие бывшие коммунистические страны, куда развитый мир переносит свое производство, эксплуатируются в том смысле, что западные предприятия получают доступ к более дешевой рабочей силе, успевшей воспользоваться государственным образованием: таким образом, социалистическое государство бесплатно обучает рабочую силу западных компаний22.)
Задолженность как образ жизни
В наши дни капитализму не дает покоя призрак – призрак долга. Все силы капитализма собрались в священный союз, чтобы изгнать его, но действительно ли они хотят от него избавиться? Маурицио Лаццарато23 предложил детальный анализ того, как в современном капитализме долг проходит через широкий спектр социальных практик и уровней, от общенационального до индивидуального. Господствующая неолиберальная идеология пытается распространить логику рыночной конкуренции на все сферы общественной жизни, так что, например, здравоохранение и образование – или даже политические решения (голосование) – начинают считаться инвестициями в индивидуальный капитал частного лица. Таким образом, рабочий теперь воспринимается не просто как трудовой ресурс, а как носитель личного капитала, делающий на протяжении своей карьеры хорошие или плохие «инвестиции», повышающие или снижающие его капитальную стоимость. Это переосмысление индивидуума как «предпринимателя самого себя» означает важную перемену в природе управления – отход от сравнительной пассивности и замкнутого пространства дисциплинарных режимов (школа, фабрика, тюрьма), а также от биополитического отношения к населению (со стороны государства всеобщего благосостояния). Как управлять отдельными людьми, которые считаются автономными агентами свободного рыночного выбора, то есть «предпринимателями самих себя»? Управление теперь осуществляется на уровне среды, в которой люди принимают вроде бы независимые решения: риски перекладываются с компаний и стран на частных лиц. В результате такой индивидуализации социальной политики и приватизации социальной защиты посредством подгонки к рыночным нормам защита становится кондициональной (переставая быть правом) и привязывается к индивидуумам, поведение которых отныне подлежит оценке. Для большинства людей понятие «предприниматель самого себя» означает способность индивидуума справляться с переложенными на него рисками без ресурсов или власти, необходимых, чтобы делать это надлежащим образом: «Современная неолиберальная политика создает человеческий капитал или “предпринимателя самого себя”, более или менее обремененного долгами, более или менее бедного, но всегда нестабильного. Для большинства населения превращение в “предпринимателя самого себя” сводится к управлению своей трудоспособностью и своими долгами, к снижению заработной платы и дохода, к сокращению социальных услуг в соответствии с корпоративными или конкурентными нормами»24. По мере того как частные лица беднеют, лишаясь части зарплат и социальных гарантий, неолиберализм предлагает им компенсацию в виде долга и участия в акционерном капитале. При этом подходе заработная плата или отложенная оплата труда (пенсии) не повышаются, но люди получают доступ к потребительским кредитам, их вынуждают самостоятельно заботиться о пенсии, собирая личные портфели акций; люди уже не имеют права на жилье, но им предоставляют ипотеку; люди уже не имеют права на высшее образование, но могут взять студенческий заем; взаимные и коллективные гарантии от рисков упраздняются, но людей подталкивают к оформлению индивидуальной страховки. Таким образом, существующие социальные отношения не отменяются, но на них наслаивается связь «кредитор – долг»: рабочие становятся рабочими-должниками (и вынуждены возвращать деньги акционерам компании за то, что их наняли), потребители – потребителями-должниками, граждане – гражданами-должниками, которым приходится брать на себя часть долгового бремени страны.
Лаццарато здесь отталкивается от идеи Ницше, разработанной в его «Генеалогии морали», о том, что человеческие общества, преодолевшие примитивный этап, отличает способность воспитать человека, который может пообещать отплатить другим и признаёт свой долг перед группой. Это обещание обосновывает определенный вид памяти, ориентированной в будущее («я помню, что должен тебе, поэтому буду вести себя так, чтобы иметь возможность расплатиться с тобой»), и в результате превращается в способ контроля будущего поведения. В более примитивных социальных группах долги перед другими были лимитированными и могли быть погашены, но уже при империях и монотеизме общественный или священный долг стал фактически неоплатным. Христианство усовершенствовало этот механизм: поскольку его Бог был всемогущим, то и долг стал безмерным, в то же время вина человека за его неуплату интернализировалась. Единственный способ как-то расплатиться требовал покорности – воле Божьей и церкви. Долг, прочно увязанный с прошлыми и будущими поступками и имевший обширную область нравственного влияния, являлся мощным инструментом публичной власти. Все, что оставалось сделать, это секуляризировать его.
Эта констелляция приводит к возникновению особого типа субъективности, характеризующегося морализаторством и специфичной темпорализацией. Обремененный долгом субъект занимается двумя видами деятельности: наемным трудом и работой над собой, необходимой для создания субъекта, который способен обещать, возвращать долги и брать на себя вину за положение должника. С задолженностью ассоциируется определенный набор темпоральностей: чтобы иметь возможность расплатиться (не забыть о своем обещании), человек должен сделать свое поведение предсказуемым, упорядоченным и бережливым. Это не только идет вразрез с перспективой будущего восстания, неизбежно подрывающего способность расплатиться, но подразумевает также стирание памяти о прошлых восстаниях и актах коллективного сопротивления, нарушавших обычный ход событий и вызывавших непредсказуемое поведение. Такой субъект-должник постоянно подвергается оценке со стороны других: личные аттестации и плановые задания, кредитные рейтинги, индивидуальные собеседования для получателей пособий или государственных кредитов. Таким образом субъект вынужден демонстрировать не только свою способность вернуть долг (и отплатить обществу посредством надлежащего поведения), но и правильный настрой, а также брать на себя вину в случае неудачи. Именно здесь начинает явно проявляться асимметрия между кредитором и должником: задолжавший «предприниматель самого себя» активнее, чем субъект предыдущих, более дисциплинарных режимов управления; однако, хотя он лишен возможности распоряжаться своим временем или оценивать собственное поведение, его способность к автономному действию строго ограничивается.
Если вам кажется, что долг есть просто инструмент публичной власти, приспособленный для коррекции поведения индивидуумов, то следует уточнить, что схожие техники могут применяться (и применяются) в управлении институтами и целыми странами. Всякий, кто наблюдает за автокатастрофой в замедленном темпе (а именно так выглядит нынешний кризис), не может не заметить, что страны и институты постоянно подвергаются оценке (например, со стороны кредитно-рейтинговых агентств) и вынуждены признавать моральную вину за прошлые ошибки и любовь к комфорту, обязуясь в будущем вести себя хорошо, чтобы ценой любых сокращений социальных гарантий или прав рабочих обеспечить возврат кредитору причитающейся ему суммы25.
Таким образом, окончательный триумф капитализма наступает тогда, когда каждый рабочий становится сам себе капиталистом, «предпринимателем самого себя», который решает, сколько инвестировать в собственное будущее (образование, здоровье и пр.), и оплачивает эти инвестиции, залезая в долги. То, что прежде формально являлось правами (на образование, здравоохранение, жилье) превращается в свободные решения об инвестициях, формально находящиеся на том же уровне, что и решения банкира или капиталиста об инвестициях в ту или иную компанию, а значит, (на этом формальном уровне) каждый становится капиталистом, берущим в долг с целью инвестировать. Здесь мы делаем еще шаг в сторону от формального равенства капиталиста и рабочего в глазах закона. Теперь оба они инвесторы-капиталисты, однако то же самое различие в «физиономии наших dramatis personae [действующих лиц]», которое, по Марксу, появляется после завершения сделки между трудом и капиталом, возникает вновь – между настоящим инвестором-капиталистом и рабочим, вынужденным вести себя как «предприниматель самого себя»: «один многозначительно посмеивается и горит желанием приступить к делу; другой бредет понуро, упирается, как человек, который продал на рынке свою собственную шкуру и потому не видит в будущем никакой перспективы, кроме одной: что эту шкуру будут дубить»26. И не удивительно, что он остается понурым: навязанная ему свобода выбора фальшива, именно она является формой его рабства27.
Возможно ли сопоставить современное распространение обремененного долгами человека, характерное для условий глобального капитализма, со взаимосвязью должника и кредитора как универсальной антропологической константы, описанной Ницше? Это парадокс непосредственной реализации, которая оборачивается своей противоположностью. Современный глобальный капитализм доводит взаимосвязь должника и кредитора до крайности и одновременно подрывает ее: долг становится откровенно нелепым избытком. В результате мы входим в сферу непристойного: когда кредит выдается, от должника даже не ожидают его возвращения – долг рассматривается непосредственно как инструмент контроля и доминирования.
Создается впечатление, что те, кто выдают кредиты и следят за их обслуживанием, обвиняют задолжавшие страны в недостаточном чувстве вины: последние как будто бы считают себя невиновными. Вспомните о продолжающемся давлении ЕС на Грецию с целью соблюдения мер строгой экономии, которое идеально соответствует тому, что в психоанализе называется Сверх-Я. Сверх-Я – это не этическая агентивность как таковая, а агент-садист, забрасывающий субъекта невозможными требованиями и непристойно наслаждающийся его неспособностью их выполнить. Парадокс Сверх-Я в том, что, как это ясно видел Фрейд, чем больше мы подчиняемся его требованиям, тем более виноватыми себя ощущаем. Вообразите злобного учителя, который дает ученикам непосильные задания и с усмешкой садиста наблюдает за их ужасом и паникой. Вот в чем заключается ужасающая несправедливость требований-директив Евросоюза: они не оставляют Греции ни единого шанса. Крах Греции – это часть игры. Поэтому цель политэкономического анализа в данном случае – разработать стратегии выхода из адского замкнутого круга долга и вины.
Конечно, схожий парадокс наблюдался с самого начала, ведь обещание/обязательство, которое невозможно полностью выполнить, лежит в самой основе банковской системы. Когда человек кладет деньги в банк, то банк обязуется вернуть их по первому требованию, но, как известно, банк может выдать деньги лишь некоторым вкладчикам и по определению не способен расплатиться со всеми сразу. Однако этот парадокс, изначально касавшийся отношений между отдельными вкладчиками и их банком, теперь справедлив и для отношений между банком и лицами (юридическими или частными), взявшими в нем заем. Из этого вытекает, что истинная цель выдачи денег должнику – не их возвращение с прибылью, а бесконечное продление долга, удерживающее должника в постоянной зависимости и подчинении. Примерно десять лет назад Аргентина решила досрочно погасить свой долг перед МВФ (при финансовой поддержке со стороны Венесуэлы). Реакция МВФ была на первый взгляд странной: вместо того чтобы обрадоваться возвращению денег, МВФ (точнее, его руководство) выразил обеспокоенность тем, что Аргентина воспользуется вновь обретенной свободой и финансовой независимостью от международных финансовых институтов, чтобы отказаться от строгой финансовой политики и беспечно нарастить расходы. Это беспокойство проливает свет на истинную природу отношений должника и кредитора: долг является инструментом контроля и регулирования поведения должника и, будучи таковым, стремится к своему расширенному воспроизводству.
Удивительно еще и то, что богословы и поэты знали это давным-давно, так что обоснованность темы «поэзии и финансов» у Берарди лишний раз подтверждается. Давайте перенесемся в раннее Новое время. Почему история Орфея стала главным сюжетом оперы в первый век существования жанра и распространилась почти в сотне вариантов? Фигура Орфея, умоляющего богов вернуть ему его Эвридику, символизирует интерсубъективную констелляцию, которая служит элементарной матрицей оперы или, точнее, оперной арии: отношение субъекта[7]7
Subject в английском языке не только «субъект», но и «подданный».
[Закрыть] (в обоих смыслах слова: как автономного агента и как субъекта права) к своему Господину (Божеству, Царю или Даме в случае рыцарской любви) выражается в песне героя (в отличие от коллективности, воплощаемой хором), которая, собственно, представляет собой мольбу, обращенную к Господину, воззвание к его милосердию, просьбу сделать исключение или еще как-то простить герою его проступок. Первой, элементарной формой субъективности является этот голос субъекта, умоляющий Господина ненадолго приостановить действие его Закона. Драматическое напряжение в субъективности возникает из-за двусмысленности жеста милости (его одновременной силы и бессилия), которым Господин отвечает на просьбу подданного. Если говорить об официальной идеологии, то милость выражает верховную власть Господина, власть подняться над собственным законом: только по-настоящему могущественный Господин может позволить себе помиловать виновного. Здесь мы имеем дело с неким символическим обменом между человеческим субъектом и его божественным Господином: когда субъект – смертный человек – через самопожертвование преодолевает конечность своего бытия и возносится до божественных высот, Господин отвечает ему величественным жестом милости, высшим доказательством его человечности. Однако этот акт милосердия одновременно отмечен нестираемым штампом наигранного пустого жеста: в конечном счете Господин совершает благо в силу необходимости, выдавая за свое добровольное решение то, что он все равно был бы вынужден сделать. Если бы он отказался проявить милосердие, то уважительное воззвание субъекта грозило бы обернуться открытым неповиновением. В этой связи особенно интересна поздняя опера Моцарта «Милосердие Тита», в которой мы оказываемся свидетелями возвышенного/нелепого потока милостей. Непосредственно перед финальным помилованием Тит сокрушается о распространении случаев измены, что заставляет его слишком часто проявлять милосердие: «Только я милую одного преступника, как сразу нахожу другого… Я полагаю, звезды сговорились заставить меня сделаться жестоким против воли. Нет, этого они не дождутся. Моя добродетель намерена продолжить это состязанье. Посмотрим же, что тверже: чужое предательство или мое милосердие… Пусть знают в Риме, что остаюсь я прежним и, зная обо всем, прощаю всех и забываю все». Мы практически слышим, как Тит жалуется, словно Фигаро у Россини: «Uno ver volta, per carita!» – «Прошу, не так быстро, один за другим, в очередь за милостью!» Выполняя обещание, Тит прощает всех, но те, кого он помиловал, обречены помнить об этом вечно: «Секст: Это правда, император, ты помиловал меня, но сердце мое меня не прощает, оно будет сожалеть о заблуждении, пока помнит о нем. – Тит: Истинное раскаяние, на которое ты способен, дороже неизменной верности». Эти строки из финала оперы раскрывают непристойный секрет «Милосердия Тита»: в действительности прощение не отменяет долг. Напротив, оно делает его бесконечным – мы навсегда остаемся в долгу у человека, который нас простил. Неудивительно, что Тит предпочитает верности раскаяние: будучи верным Господину, я следую за ним из уважения, тогда как раскаяние привязывает меня к Господину бесконечной неизгладимой виной. В этом смысле Тит является глубоко христианским господином. Нелепое прощение всех подряд в «Милосердии Тита» означает, что власть перестает функционировать нормальным образом, поэтому ее приходится все время поддерживать милосердием: если Господин вынужден проявлять милосердие, значит, закон не действует, правовая машина не работает сама по себе и то и дело требует вмешательства извне28. То же самое касается современного капитализма. Питер Баффет (сын Уоррена Баффета) не так давно опубликовал в New York Times авторскую колонку, в которой объяснял, что такое «филантропический колониализм»:
На любой важной филантропической встрече можно увидеть глав государств, общающихся с инвестиционными менеджерами и лидерами корпоративного мира. Все они правой рукой ищут решения проблем, созданных левой рукой других участников встречи. <…> Филантропия стала «тем самым» средством выравнивания игрового поля и приводит к появлению все новых и новых собраний, семинаров и групп единомышленников.
Чем больше человеческих жизней и целых сообществ разрушается системой, генерирующей огромные богатства для избранных, тем больше героизма вкладывается в слова «помочь другим». Я бы назвал это «отмыванием совести», которое позволяет вам лучше относиться к себе, имея больше денег, чем вам может понадобиться за всю жизнь, и раздавая немного в качестве благотворительности. Но это лишь поддерживает существующую структуру неравенства. Богачи крепче спят, а остальным иногда бросают кость, чтобы они не кусались.
А по мере того, как на этот поезд запрыгивают новые бизнесмены, деловые принципы превозносятся в качестве важного элемента, который должен присутствовать в сфере филантропии. <…> Микрокредитование и финансовая грамотность (здесь я вынужден расстроить некоторых замечательных людей и добрых друзей) – что это такое на самом деле? Люди, конечно, научатся вписываться в нашу систему долга и его возврата с процентами. Люди поднимутся выше планки в два доллара в день, чтобы войти в наш мир товаров и услуг и покупать больше. Но разве все это не кормит зверя?29
Хотя в своей критике Баффет не выходит за идеологические рамки простой заботы о более достойной жизни людей, избегая вопросов о коренном изменении системы («я не призываю к свержению капитализма, я призываю к гуманизму»), он верно описывает то, как идеология (и практика) благотворительности играет ключевую роль в мировом капитализме. Петер Слотердайк, говоря о предложенном Жоржем Батаем понятии «общей экономики» суверенных расходов, которую он противопоставляет «ограниченной экономике» бесконечного капиталистического обогащения, описывает (в работе «Zorn und Zeit») внутренний раскол капитализма, неотъемлемо присущее ему самопреодоление. Капитализм достигает апогея, когда «порождает свою самую радикальную – и единственно плодотворную – противоположность, совершенно отличную от того, что могли себе представить классические левые, застрявшие в его трагической обреченности»30. Положительное упоминание Слотердайком Эндрю Карнеги указывает путь: суверенный самоотрицающий жест бесконечного накопления богатства проявляется в расходовании этого богатства на вещи, не измеримые деньгами, находящиеся вне рыночного обращения: общественное благо, искусство и наука, здравоохранение и пр. Такой заключительный «суверенный» жест позволяет капиталисту разорвать порочный круг бесконечно расширяющегося воспроизводства, получения денег ради еще большей прибыли. Когда он жертвует накопленное богатство на общественное благо, капиталист отрицает самого себя как простую персонификацию капитала и его репродуктивного обращения: жизнь капиталиста обретает смысл. Это уже не просто расширенное воспроизводство как самоцель. Более того, капиталист таким образом осуществляет переход от эроса к тюмосу, от извращенной «эротической» логики накопления к общественному признанию и репутации.
Идея Слотердайка равнозначна превозношению фигур вроде Джорджа Сороса или Билла Гейтса как олицетворяющих имманентное самоотрицание капиталистического процесса: их благотворительная деятельность, их огромные пожертвования на социальные проекты – это не просто их личная идиосинкразия, будь то искренняя или лицемерная, а логическое завершение капиталистического обращения, необходимое в строго экономическом смысле, ведь оно дает возможность капиталистической системе отсрочить собственный кризис. Оно позволяет восстановить баланс, помогая перераспределить часть богатств в пользу действительно нуждающихся, минуя роковую ловушку – разрушительную логику обиды и принудительного государственного перераспределения богатства, способную привести лишь ко всеобщей бедности. (Можно добавить, что это также позволяет избежать другого способа восстановления некоего равновесия и утверждения тюмоса посредством суверенных расходов, а именно войн.) Или, если процитировать старую латинскую поговорку, velle bonum alicui: благотворительность (совершение добрых поступков) – занятие (развлечение) безразличных (тех, кому в действительности все равно).
Когда мы покупаем такие продукты, как зубная паста или прохладительные напитки, крышечка контейнера или бутылки часто бывает другого цвета и большие буквы на ней кричат: «20 процентов бесплатно!» – вы покупаете продукт и получаете излишки бесплатно. Возможно, мы могли бы сказать, что вся капиталистическая система обращается к нам аналогичным образом: «Купите глобальный капитализм, участвуйте в нем – и получите назад 20 процентов от него бесплатно в виде благотворительности и филантропических пожертвований!» Однако в случае капитализма крестный отец делает нам предложение, от которого мы можем и должны отказаться.