Текст книги "Славгород"
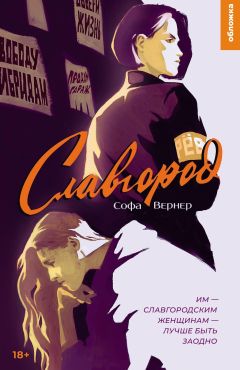
Автор книги: Софа Вернер
Жанр: Детективная фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Глава двадцатая
– Алик, просыпайся, дорогой!
Руки, пахнущие свежеиспеченным хлебом, аккуратно раздвигают плотные бордовые шторы. На тумбочке, украшенной ажурной тканной салфеткой, уже красуется поднос. Все, как предпочитает хозяин: тщательно поджаренные до золотистой корочки половинки круглых булок, в небольшой масленке сладко-сливочный кусок и ломтиками в полсантиметра шириной нарезанный сыр. Не имелось гауды. «Не привезли», накануне извинялась нянечка Ирина, но она взяла на себя смелость купить самый свежий новомодный сметанковый. Такой, мол, даже в Москве подают президенту, заверила ее продавщица. Ирина же все утро хлопочет и волнуется, рассчитывает на благосклонность любимого воспитанника – он кроме гауды редко какой сыр ест.
– Новый день настал, – мелодично, нараспев повторяет она терпеливо, чтобы разбудить, но не разгневать. Харитоновский нрав крут – что у сына, что у отца. – Самое время просыпаться!
Голос у Ирины нежный, родной. Сейчас она бабушка совсем – хоть и милая, и красивая, – но когда-то ей, шестнадцатилетней дурочке, вручили орущий комок, названный Альбертом Германовичем Харитоновым. Так и прошла ее жизнь – в заботе о нем. А он все так же молод и красив, даже не скажешь, что ему через пару лет пятьдесят. Ирина еще не знает, что скоро Харитоновы попросят ее уйти и наймут помоложе – чтобы у Алика не было ощущения, что всякая жизнь, кроме его собственной и ему подобных, быстротечна; но даже если бы знала – уже не разлюбила бы.
Она наклоняется к нему, убирает отросшие волосы с лица. Альберт стрижет коротко виски, но макушку зачесывает назад, так элегантно видна седина. Серебристость волос у вирий в почете: говорят, каждый волос – это знания, которыми они обладают. Чем раньше поседеешь – тем, значит, умнее.
Альберт поднимается нехотя, потому что допоздна увлекался новым навьим пособием по анатомии. Этих удивительных существ стали допускать к службе и настоящему труду только ради того, чтобы как можно лучше изучить биологические данные. Медицинский осмотр хорошо изученного гибрида, например хорта, длится всего пятнадцать – двадцать минут, а уж осмотр навы, семья которой издавна привыкла прятаться, – час или даже больше. И все можно прикрыть благопристойной причиной – ты совсем не объект исследования, всего лишь должен быть всегда здоров.
Почему же хортам срок – тридцать пять лет? Ответа нет. Мысли постоянно возвращаются к этому. Ешь – думаешь, сидишь – прорабатываешь гипотезу, спишь – раздумываешь над скорейшими исследованиями…
Тапки спасают от холодного паркетного пола, махровый халат заменяет тепло женского тела по утрам. Альберт жует монотонно, никуда не торопится, хотя должен бы. В городской поликлинике все вечно опаздывают, ему лишь приходится соблюдать негласный этикет – чтобы не посчитали выскочкой. Так уж сложилось, что Харитоновы этот город отстроили (отец – великого ума архитектор, мать – декораторка высшего разряда), и потому всегда были богаты, тщеславны и знамениты. Никто не может их сменить – отцу уже восемьдесят, а его лицо едва осунулось.
Булочка сухая, но Альберт не делает замечаний. Сыр отдает химией, но Альберт его не выплевывает. Сам на себя стал не похож, совсем от рук отбился. Ему на роду написано капризничать, требовать, ожидать лучшего и быть этого достойным. Государственная поликлиника, считает мама, совсем Алика испортила.
– Неужели и сегодня тебе нужно идти на работу? – шокированно охнув, мама прикладывает цепкие белесые ногти к выгравированным ярко-красным губам. – Пятый день подряд?
– Конечно, маменька. Мне же нужны деньги на жизнь.
– Ерунда! Мы не оставим тебя на голодном пайке, как оставили нас в девяносто шестом!
Альберт, в выглаженных брюках, рубашке и джемпере сверху, приятно пахнущий остатками роскошных привезенных духов Yves Saint Laurent, так сильно напоминает отца, что мама сразу тянет к нему руку для поцелуев. Альберт покорно прижимает губы к теплой жилистой ладони, будто созданной для того, чтобы помогать своей обладательнице летать. Природа, однако, уберегла вирий от дара крыльев, и потому они здесь, в Славгороде, наряду со всеми остальными – и все же чуточку лучше каждого из них.
Отцовское дело давно погибло. Город не расширяется, дома, построенные на совесть, до сих пор стоят, и новые не требуются. Он, продолжая быть главным градостроителем, иногда закладывает пару-тройку скверов на юге города или придумывает новое укрепление для стены на границе. Именно ему принадлежала идея изолировать город так, чтобы в него нельзя было даже заглянуть. Остальные же деньги – в фондах капитального ремонта, которым управляют уже совсем другие люди. Они не заботятся о городе, только лишь грамотно раскидывают деньги между структурами – и у каждого часть оседает в кармане. Так Альберт встретился с Зильберман-младшей, дочерью одного из главных негласных властителей города.
– Хорошего дня, маменька. Передайте отцу от меня пожелания доброго здравия тоже.
На обувном рожке монограмма «Х» – резная, позолоченная. Нехилых денег, наверное, может стоить, если переплавить основание. И ручка из темного дерева – пару рублей принесет. Альберт прячет рожок под пальто, зная, что едва ли кто заметит пропажу так уж скоро, а зарплата, что он сбережет, сгодится на помощь одной-двум девушкам, чтобы раздобыть лекарства для прерывания нежелательной беременности. Таков уж его новый мир – приходится отдуваться за грехи самовлюбленных родителей и за все сорок с лишним лет жизни в излишестве и роскоши. Рано или поздно маменька и сама бы вынесла на продажу этот рожок, лишь бы получить немножко белого порошка, который, по ее заверениям, и обеспечивает ей красоту и молодость. Лучше уж на благое дело, решает Альберт. Лучше помочь «Новой волне».
Раньше Альберт без всяких сомнений любил свою жизнь. Ему не нравились миры из кино, не привлекали вселенные из книг, не влекли фантазии из собственной головы. Материал, глина для жизни, – все, что его окружает. Родители обеспечили, построили, принесли, купили, за тебя решили – и не о чем беспокоиться. Не всем же быть недовольными! Кто-то должен принять на себя бремя беспричинного счастья и улыбаться, как дурачок, пока другие выгрызают себе саму возможность жить.
«Новая волна» Альберта переменила вмиг. Он растерял удовольствие от бесполезной работы в стерильном кабинете института, погряз в кризисе среднего ученого возраста. Non progredi est regredi[1]1
Non progredi est regredi (лат.) – «Не идти вперед – значит идти назад».
[Закрыть], и оттого Альберт сам нашел свои неприятности. Подпольная помощь стала ежемесячной стабильностью, а после – еженедельной. Сейчас, на пике Славгородского гуманитарного кризиса, Альберту приходится бросать работу в поликлинике и бежать на зов своей совести. Он и с болью, и с радостью готов расплачиваться за все годы хорошей жизни, хоть так справедливости не добиться. Каждый сознательный житель Славгорода чему-то противится, с чем-то борется, и совсем скоро причин для этого не останется – вот так опосредованно Альберт поддерживает всякую задуманную кем-то революцию. Воюют ли на войне санитары, вытаскивающие раненых из-под шквала пуль? Содействуют, спасают – да, но воюют ли?
Беспокоиться о женщинах (вернее, всего об одной) – занятие глупое, излишнее, но входящее в ежедневную альбертовскую рутину. Он пишет эсэмэски со служебного телефона долго и старательно, привыкая к набору кнопками «Ильяна, как вы?», и получает в ответ лишь торопливое «Я ок». ОК – осторожно контролирую? Прижившийся у молодежи новояз ставит в ступор. Для понимания Альберта Ильяна закрыта, и анализировать, и расспрашивать ее нет смысла. Он осмелился на Восьмое марта выразить свое уважение и подарить ей цветы, вполне неплохой небольшой букет из красивых красных роз в изящной прозрачной упаковке, и от всей души пожелать оставаться все такой же цветуще красивой, однако особой радости и благодарности в ответ не получил.
«Как ситуация с Григори…» – ему не хватает символов на полноценное сообщение. «…ей?» – шикует, отправляя вторым сообщением.
Альберт не дурак и понимает, что Ильянина красота не останется без внимания других мужчин. Наверняка на всех возможных кавалеров у нее просто не хватает сил. Сам он, если нужно, подождет – еще не время жениться. Ближе к шестидесяти подумает о конкретной избраннице и определится с деталями.
– Чего стоишь? – рявкает дородная женщина большого, грузного и решительного вида. Она натолкнулась на высокую фигуру в темноте и совсем не испугалась. – Лучше делом займись!
Она всовывает в Альбертовы руки кучу ветоши, еще не перепачканной, и тянет за собой по узкому коридору подвала больницы, где тайком, оборудовав палаты наспех, разместилась операционная часть «Новой волны». Большинству бедных и обездоленных они помогают на улицах, но некоторые процедуры под открытым небом провести никак нельзя.
– Не теряйся! – продолжает требовать настойчивый голос, и Альберт старается не упасть без сил. На хирургическом столе, явно списанном в морг, разверзлась женщина в тяжелом родовом положении под множеством простыней. – Ты же врач?
– А вы разве – нет?
Женщина, исполняющая роль полевой медсестры, фыркает, рядом ее напарница – нервно хохочет.
– Соберись же, – строго говорят они. – Несчастные дети погибнут, если ты не поможешь.
Прежде чем Альберт успевает осведомиться о количестве детей, воспроизводимых на свет, он застывает от звериного крика роженицы. Одного короткого взгляда на лицо, искаженное ужасом, ему достаточно, чтобы понять, что на столе еще совсем девочка. Определить возраст сложно, но хрупкое телосложение балии сильно помешает разродиться ей самой.
– Кипятите нитки, обработайте ножницы. Подайте мне воду. Много воды.
Альберт бросается к девочке, забыв напрочь, что для начала следует представиться, рассказать о своих действиях и успокоить. Ему важнее спасти здесь и сейчас – впервые в жизни. Нет даже возможности погреметь папками в случае неразберихи, нет даже шанса урвать информацию из книги – нужно брать все в свои руки: ощупывать живот, соображать на ходу. Репродуктивный возраст балий ниже людского, и уже в восемь-девять лет их организм биологически готов к деторождению. И пусть природа приспособила эту девочку родить сейчас, самой ей этот путь дается нелегко – Альберт то и дело кривится от оглушительного крика, от которого щемит сочувственное сердце. Ни один закон, даже закон Славгорода, не разрешает прикасаться к детям – какого бы вида они ни были. Но здесь, в подвале-хирургической, врач акушер-психотерапевт не успевает думать о законах. Ему, как водится, до них вовсе дела нет – и всем присутствующим тоже.
Альберту страшно даже смотреть на столь юное создание, кажущееся ему хрупким и невинным. Но «Новая волна» накрывает его бурным спокойствием – в плечи толкаются суетливые помощницы, весь инструментарий заботливо вложен в руки, и кто-то за спиной включил радио, лишь бы как-то отвлечь почти-маму от боли – в ужасных условиях они все, кто имеет силу и смелость помочь, встречают на свет новую жизнь. Кто знает, вдруг этот малыш их спасет? Вдруг именно он освободит гибридов?
«Хорты взрослеют быстрее, – мелькает в светлом уме уже привычная мысль. – Они самые первые встают на ноги, их век природой сильно ограничен. Тяжелый уклад жизни сильно их выматывает… плюс вечные драки. Телесные наказания на службе… износ организма до сильных пределов… невозможность нехирургически сопоставить кости, операции… Штифты. (В стрессе Альберту думается лучше.) Голодание и недостаток мяса. Да-да! Хорты, балии, керасты, аркуды – хищники, они нуждаются в мясе. Извне нет мяса, ферм крайне мало… привозят немного, и стоит оно дорого… лекарств и лечения тоже нет… Тело быстрее приходит к своему увяданию. Гриша не способна выносить ребенка и родить его, это доломает ее окончательно. Каждодневные боли. Ломается – быстро заживает, и потом ломают неправильно зажившие кости снова… Двадцать лет службы… Ох!»
Когда окровавленные руки принимают кричащее дитя, сердце которого бесперебойно быстро бьется, Альберт понимает, что сам родился и рос не зря. Юная мама, обессиленно обмякшая на столе, отворачивается от них, тихо рыдая в смятую ткань под собой. Терзать ее никто не будет – мальчика забирают, омывают, заворачивают в пеленки и уносят. Над родившей склоняется акушерка, ласково целует ее в лоб и успокаивающе гладит по волосам. В нем самом волнами ходит адреналин. Раньше так случалось только от научных открытий.
«Новая волна» позаботится о них обоих. «Новая волна» позаботится о всех, кому нужна помощь.
Забытый в пальто телефон настойчивой трелью напоминает о себе. Экран освещает лицо – входящий звонок от… Ильяны.
– Я знаю! – кричит Альберт в трубку. – Я знаю, как мы можем спасти Григорию!
Глава двадцать первая
Время раннее, но Лавр успевает привести сад в порядок перед встречей гостей. Оазис вспыхивает среди старых пустых торговых рядов. Ильяна с улыбкой приписывает ему ложные компульсивные синдромы, но, пока Лавр хозяин, даже самая мелкая пылинка должна спрашивать разрешения присесть на фитолампы. Отличаясь особенным легкомыслием, Лавр умело переворачивает назревающую трагедию в готовящийся праздник и зажигает в мастерской ароматические соевые свечи, которыми в Славгороде похвастаться могут только он и жена мэра (с его подачки), и открывает тугие ставни теплицы с матовыми стеклами, которые препятствуют рассветным лучикам солнца проникать к новым росткам. Нараспев приговаривает:
– До чего чудесное утро!
Илля выросла на этой же прокультивированной почве, притом быстро и бодро. Она бывала здесь сутками и впитывала в себя любое сказанное слово, наблюдая за тем, как кипит работа по выращиванию того, чего детям видеть не стоит. Когда же выросла сама – как любой особо драгоценный селективный кустарник, расцветший под особым уходом – ушла с высоко поднятой головой, ведь только в ботаническом саду, где каждое семечко на счету, она могла научиться ценить себя и свою жизнь. Степная земля неплодородна, и рождение такого чуда на свет, по знанию Лавра, стоило природе многого.
Это известная родительская привычка – тащить своих детей на работу, и так как все иное на территории бывшего городского рынка в начале нулевых кишмя кишело разного рода бандитами, безопаснее всего было отдавать дите в «отдел, где никто не кусается». К Лавру, разумеется. Хамоватый мужик, вечно ошивавшийся здесь со своей шоблой собак, сначала просто раздражал. «Иди своей дорогой, беззубый!» – кричал Цветков и гнал его то от теплиц, то от доверчивых ботаничек, подрабатывавших на самопальную наркоимперию, и всегда притом был строг, надежен и беспринципен. «Хорошая крепость, – оценила тогда Ильяна, подброшенная с пакетом конфет и тремя розами в целлофане (ну какая редкость же!) в начале рабочего дня. – Здесь мне будет хорошо».
Вечером, после целого дня причитаний Лавра – «ну и куда мне ребенок?» – Вэл все-таки дочь забрал, с усмешкой поблагодарив за то, что Цветков оказал услугу и «присмотрел». Мол, «я твой должник». А Лавр ему вслед: «Не смей приводить ее больше! Детям тут не место!» Но Зильберман, собака, все равно потом привел ее снова, и Лавр отказать не смог.
Однако Ильяниного отца давно и след простыл: постарел, стал важным «человеком» – чего Лавр в упор не понимал. Ладно, сменить документы, но себя-то внутри не изменишь – и из незаконного перетек в законное. К властительному и влиятельному. А Цветков, воспользовавшись годами отложенной «зарплатой», устроил себе пенсию по душе – маленький сад, где сохраняются титаническими трудами все те культуры, которые потребуются «во время голодной брани».
– Я не шучу, – говорит Ильяна нахмурившейся Грише. – Он немного… помешался, что ли. – Она тут же ловит себя на том, что говорит милиционерше всю подноготную почти родного дяди. – Но тут ничего незаконного. Благодаря ему у нас есть хотя бы кормовые овощи и мука для хлеба.
– Их же привозят, – сдавленно отзывается Гриша, спотыкаясь о каменистое разветвление дорожки. «Ландшафт не порть», поучил бы ее Лавр.
– Наивно. Прям в твоем стиле.
Илля не насмехается над ней, скорее уже обыденно подмечает особенности. И хоть слова отчасти грубы – Гриша в ответ обессиленно улыбается. От бодрой ходьбы у нее нехило сбивается дыхание, но в порыве привычного стыда приходится сдерживаться, и обе они молчат. Ильяна – лишь бы не ляпнуть лишнего, не обидеть своей горячностью, а Гриша – лишь бы не признаваться вслух, что могильная плита все сильнее давит ее к земле.
– Ах, никакой помощи мы тут не ждем! – Высокий мужчина с белыми как снег волосами разводит руками на пороге маленького оазиса, битком набитого зеленью в пределах стеклянно-деревянного каркаса. – Все сами, все сами. И полагаться, девочка моя, нужно только на себя.
В словах Лавра Гриша слышит отголоски горделивости подруги, и теперь понимает, откуда в ней такие самодовольные мысли. Водолазка плотно закрывает его горло – обычно навам больно от такого давления на жабры. Ильяна знает, как он не любит показывать свои шрамы зашитых жабр, по крайней мере – думает, что знает. Гриша так на него таращится – на вытянутого, моложавого, холодного, – что приходится пнуть ее локтем, лишь бы не позорила.
Гриша избегает прямого зрительного контакта с Лавром: она наблюдательна, решительна и крепко стоит на своем месте, но по глазам потускневшим видно, как ей не хватает сил смириться с бесконтрольным миром вокруг. Осуждать ее Цветков не в силах – самому пришлось дистанцироваться от безумия, творящегося в городе по вине чьих-то (не показывает пальцем) напыщенных и жадных отцов.
– Я знала, что найду тебя здесь! – Илля наконец радостно улыбается и делает несколько медленных, усталых шагов навстречу доброму другу, временами в особо тяжелые дни заменившему ей родителя. Они обнимаются, хотя Лавр редко кого удостаивает такой чести. – Спасибо, что согласился помочь.
Гриша зло зыркает ей в спину. Ильяна намеренно разбудила ее спустя пару часов долгожданной дремы, убедив, что им пора уходить, ведь Стая скоро вернется для расправы. Рыкова повелась на такую дешевую манипуляцию, но только потому, что взволновалась за кошачью хрупкость.
– Я не могу тебе отказать, Илля, но ты же знаешь, как это все опасно… – Он явно беспокоится, что весь заброшенный рынок пустыми глазницами проулков ловит каждое их движение. Гриша и сама оборачивается, навострив уши. И вдруг, действительно уловив какое-то движение в паре метров, молча указывает руками в сторону помещения – «Заходите быстрее».
Прежде чем закрыть за ними дверь, Рыкова еще пару раз оглядывает еле освещенную рассветом улицу. Она не знает, во что Ильяна впуталась сама и впутывает ее, но инстинктивно прогоняет протоколы охраны и защиты по кругу, пока не почувствует себя лучше. Посмотреть, прислушаться, обнюхать: стандартный порядок для собаки.
Глава двадцать вторая
– Зову – не приходишь, – обиженно цедит Лавр, откладывая секатор. Он разгребает стол перед собой и шуршит мешочками, имитируя занятость. – А тут заявилась, разбудив поздно ночью звонком. Еще и не одна.
Ильяна чуть виновато пожимает плечами и на секунду нервно оборачивается на Гришу. Выглядит она терпимо, но вот что скрывает внутри…
* * *
«Паллиативная терапия – посильное обеспечение комфорта и удобства пациентам, которым уже не помочь, которых не вылечить», – звучит альбертовский голос в голове. Они проболтали почти час, от долгого сидения на Ильянины ноги даже налипла краска с подоконника. «В других странах – насколько я знаю из книг, которые у нас тут не в ходу, – эвтаназия – это лишь способ облегчения невыносимой жизни смертью, когда ты болен неизлечимо. Но ведь Григория здорова!.. Они… – Тут его голос стал почти неслышным, помехи усилились, как назло, а сам разговор приобрел вызывающе преступный оборот. – Люди вынудили ее думать иначе. Как будто бы… чтобы ждала эту эвтаназию, как благо».
«То есть служба и должна была так ее сломать?» – уточнила с горечью Ильяна.
Альберт, укравший из больницы карточку пациента, шуршит страницами на том конце провода. Он сидит, от страха сгорбившись, в сыром подвале, она – прислонившись лбом к холодному окну. «С прошлой диспансеризации, цитирую:..усиленный болевой синдром, медикаментозного лечения не требует…»
Вынудили терпеть, понимает Ильяна. И сейчас, глядя на мрачную Гришу посреди яркой витиеватой зелени, она видит это искажение хронического мучения. Морщинки от хмурости, ямки над линией челюсти от крепкого сжатия зубов, медленное перемещение – чаще всего она просто стоит. Потому она привела ее сюда, к Лавру – ради облегчения. Но совершенно точно не такого, как прописали ей палачи.
– Извини, что так внезапно. Мне не к кому идти. – Она давит на жалость. – Ты не обязан, но нам нужны травы.
– Какие это еще травы?! – Лавр оборачивается на пятках и глядит на Ильяну возмущенно. Но тут же смягчается, увидев на лице ее подруги замешательство. – Ах, эти… а что нужно вылечить?
* * *
Лавр – потомственный знахарь. Бабушка заботливо передала ему многие свои знания, хотя в его вере только женщины имеют право хранить законы трав. Мужчины – изредка – становятся шаманами, жрецами озера. Его мама не проявляла никакого уважения к религии бабушки и к своим корням; вышла замуж за обычного работягу, давно вошедшего в мир людей, изменника, скрывающего жабры и бьющего своего сына-размазню, – построила свою жизнь, как полагалось. Когда на очередное сбитое колено бабушка прикладывала мази, нашептывая определенные слова, Лавр заинтересовался ее заговором. Та расцвела – и за одно лето Лавр уже овладел азами: обеззараживающие мази, настои против болей, чай для доброго и крепкого сна. Оставалось углубиться – и освоить яды. Но ядами Лавр занялся уже после окончания ботанического факультета, впервые синтезировав свою вариацию наркотического стимулятора.
Теперь кухня в собственной квартирке увешана связками трав, которые впоследствии хорошенько перетрутся и разберутся на листики умелыми пальцами, знающими свое дело. Лавр хорошо знает каждую свою смесь с фармакологической точностью: как и на кого подействует и насколько длительным окажется эффект. Он выращивает много нетипичных растений для еды и для удовольствия – даже делает цветочные духи на продажу заскучавшим женщинам. Эта его теплица – любимая, конечно, – на одну половину засажена агрокультурой, а на вторую – розами самых разных сортов и мастей: в честь прекрасной и колючей Ильяны.
– Почему не лекарствами? Не вижу стремления и веры, – вызывающе уточняет Лавр. Он ждет правильный ответ – единственный, который даст Зильберман-младшей доступ к желаемому снадобью.
Ильяна лечилась всю жизнь именно его знаниями, а потому его рукам доверяла даже больше, чем здравому смыслу.
– При чем здесь лекарства? – шепотом спрашивает Гриша, опираясь рукой на стойки-держатели с рассадой. От них нежно, ярко и вкусно пахнет помидорами. Бессонные ночи не играют ей на руку: от шеи до бедер каждый ответственный за движения сустав постанывает и скрипит под бледной кожей. – Слушай, Илля, ты же сказала, что дело важное. И что тебе нужна помощь, охрана… Почему мы опять с какими-то шарлатанами…
– Молчать! – Ильяна шикает и рвется за Лавром между рядами продовольственных богатств. – Ну, Ларочка! Мне нужно ей помочь. Она очень нуждается в этом, хоть сама пока не понимает…
Альберт не смог бы достать лекарства, потому что их нет. Даже в хирургическом отделении и люди, и гибриды – все стенают от боли. В универсамах полки пустеют: «В профилактических целях подрезали поставки, потому что на границе проблемы», – пришло сообщение от близких к Мгелико соратников. До него самого не дозвониться, чтобы попросить помощи. Да и кто согласился бы? Ильяна вложила в Гришин лик, как в символ, всю свою надежду на будущее города и решила: спасет ее одну, значит, сможет спасти всех.
Гриша молчит, потому что ее отчаянный лай не примут за человеческую речь. Сдержав скулеж, она присаживается меж зарослей на полуразваленную табуретку, чудом под ней устоявшую. Ей жаль Ильяну – столько стараний и все впустую.
Лавр берется за прополку куста, словно к нему заглянули не по делу. Он привык работать с запросом – а Гриша ему этого запроса не дает.
– Граница перекрыта не зря, – перебивает он Иллю, продолжая заниматься своими делами. Отмеряет в колпачок немного отравы от жуков, сливает этот яд в резервуар с водой, хорошенько перемешивает и перекачивает воздухом в ороситель. Будь его воля убрать также всех вредителей, кто сгрызает ослабший город, он бы помог Ильяне, но методы РЁВ слишком очевидны и радикальны, чтобы они сработали. – И это всем собакам назло. Еды не будет. Даже деньги твоего отца этой проблемы не решат.
– Что ты знаешь? – Ильяна позволяет себе наглую вольность в общении с неприступным и загадочным Цветковым, потому что ему тоже слишком дорога, чтобы он мог ее прогнать. – Ты каждый раз паникуешь, – она гладит ласковые побеги, – что мы останемся совсем отрезанными от мира. Но мы ведь и так сами по себе, разве нет?
– Нас оставят тут голодать, и даже не вернутся сжечь трупы. Не только перед твоей подругой маячит смерть… – Он закладывает мазь в небольшую баночку, собирает чай в мешочек, и с особым вздохом вкладывает две шайбы успокаивающего «зверобоя», который, вне всяких зависимостей, просто позволит существовать без мучений. – Но и перед тобой. Пока твой отец и его прихвостни тихонько воюют с остальной городской швалью… пока машины из Барнаула, груженные доверху, разворачивают на слабо охраняемом КПП…
Ильяна старается не слушать. Говор тихий, как колдовской, но слишком уж злой и правдивый. Она топчется, вглядывается в розы, словно в них можно найти ответ. Улавливает неосознанно еще одну неожиданную для себя истину: «Никто тебя не спросит», «Никто тебе не скажет». Наконец Лавр отрешенно протягивает заговоренное спасение Ильяне дрожащей рукой и предупреждает:
– Скорее всего, не поможет.
– Почему? – как разочарованная девочка тянет она в ответ. Слова его она пока что не осознала до конца.
– Она ведь не хочет избавляться от боли. Это видно по глазам. Свой выход она уже нашла. Просто не мешай.
Гриша встречает вернувшуюся Иллю понуро, ерзает на месте и распрямляется, морщась. Поспать бы хоть уже на полу. Ее матрас с детства набит соломой, диван – дешевым поролоном, а подушки третьесортным пером самых лысых гусей. И она, конечно, не жалуется. Ильяна же почти всегда получает все самое для себя лучшее. И тоже не жалуется.
В розово-фиолетовом свете ламп для растений обе они выглядят болезненно и зловеще.
– Мы можем идти? – Гриша спрашивает это неуверенно, словно ей могут запретить. А ведь могут. Ильяна очень хищно цепляется за возможность приказать не двигаться, чтобы она не могла уйти от разговора.
Все слипается воедино. Закрытая граница еще громче щелкнула замком. Отец сцепился с контрабандистами из-за своих старых нерешенных недомолвок. Кто же останется крайним? Кто будет страдать? Гриша. Такие, как она. Те, кого Ильяна решительно спасает от назревающей катастрофы. Те, кто может и не хотеть быть спасенным.
– Слабачка, – констатирует Ильяна, разочарованно вздыхая. Голос ломается под натиском гнева. – Я бы ни за что не сдалась. Я бы сбегала, я бы рвалась, я бы всем глотки перегрызла. А ты – серьезно сидела на цепи, как последняя собака?
– Так я и есть собака. – Гриша улыбается натужно, клацая зубами. Злые слова всегда вытягивают даже из самого глубокого забытья. – Я тебя разорву, не нарывайся.
– Ты-то? И ладно! У меня нет времени тут возиться! – Она с размаха бросает невостребованное «лекарство» ей под ноги. – Есть и другие дела, понятно? Нет, конечно, ты думаешь, что я только за тобой и таскаюсь…
– Ну иди. – Рыкова кивает в сторону выхода. Здесь их прекрасно слышит хозяин сада, но он занят розами – и, возможно, рад этой перепалке. В споре всегда рождается истина. – Чего ты стоишь, революционерка? Памятник Ленину сам по себе не рухнет.
Кошачьи когти заточенные и царапают собственные ладони в сжатых кулаках. Гриша хрустит ноющей шеей, словно разминается.
– Я тебе жизнь облегчить хочу. Чтобы тебе больно не было. Это плохо разве?
– Я тебя не прошу. – И все же Гриша поднимает дар, небрежно брошенный на пол. – Есть и более достойные помощи.
– Неужели тебе совсем плевать, что будет с миром, когда тебя не станет?
Ошибочно полагать, что смертники не думают о жизни после своей. Наоборот, Гриша регулярно представляет этот яркий рассвет. Для нее вполне очевидно, что без такой, как она, помехи, все кругом расцветет. Она всего лишь перевернутая страница истории – если Гриши не станет, эта теплица никуда не денется. И Ильяна, и другие люди в ней останутся. А комнатушка общажная и стул служебный по-прежнему будут стоять на своих местах в этом городе, который все еще останется закрыт.
– Мне больно, Илль. Просто больно.
Кажется, она впервые говорит даже сама себе об этом вслух.
– Что это значит? Какая это боль?
– Я думаю… – Она поджимает пересохшие губы и тяжело сглатывает, набираясь сил для фразы подлиннее. – Без меня не станет не лучше и не хуже. Все будет так же. Я просто не хочу мучительно ждать конца. И уж тем более не хочу… никаких надежд.
– Не говори так, – сквозь слезы, дрожащим голосом выдавливает из себя Илля.
Будь сил побольше, Гриша бы высказалась. «Ты, Ильяна, – громко вскрикнула бы она, имея право на это, – вечно только и думаешь, чтобы что-то изменить. А я, в отличие от тебя, прекрасно знаю, что ничего измениться не может! И революция твоя – глупая. И РЁВ. И ты сама – избалованный ребенок богатых родителей, которых прилюдно даже таковыми назвать не сможешь. Не имеешь ни профессии, ни четкой цели в жизни. Заперта в этом городе так же, как и я. Кто из нас несчастнее – я или ты? Я уйду, а тебе – что? Доживать здесь. Только и мечтая, что о своей революции…»
– Ты либо действуй тогда, либо отвали от меня уже.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































