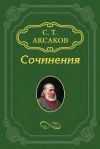Текст книги "Большой театр. Культура и политика. Новая история"
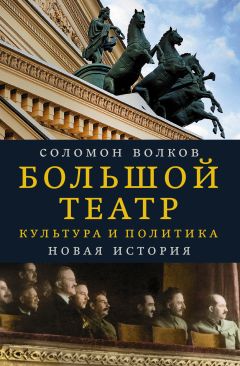
Автор книги: Соломон Волков
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Глава 2. Николай I, Верстовский и Глинка
Любимым поэтом Николая I был, без сомнения, Василий Андреевич Жуковский. Это обстоятельство сыграло в истории русской музыки важнейшую роль.
Сейчас о Жуковском (1783–1852), на Западе практически неизвестном, даже в России вспоминают главным образом как о величайшем мастере поэтического перевода. Его переложения немецких и английских поэтов (Гёте, Шиллера, Грея, Мура, Вальтера Скотта и Байрона), а также “Одиссеи” Гомера остаются непревзойденными. А между тем Жуковский в течение как минимум двадцати лет был признанным лидером русской поэзии и немало поспособствовал ее дальнейшему удивительному расцвету.
В поэзии своей Жуковский был первым настоящим русским романтиком. Но и жизнь его складывалась как увлекательный роман. Недаром Жуковский обронил в одном из своих стихотворений: “Жизнь и поэзия – одно”.
Он был внебрачным сыном богатого провинциального помещика и его наложницы-турчанки. Вырос Жуковский в странной и экзотической атмосфере “брака втроем”, рано проявив свои необычайные поэтические способности. Он блистательно выучился иностранным языкам – французскому, немецкому и английскому. Рассеянный, не от мира сего Жуковский тем не менее проявил себя храбрым и решительным офицером в войне с Наполеоном. Тогда же он написал яркое патриотическое стихотворение “Певец во стане русских воинов”, которое прославило Жуковского на всю Россию и обратило на молодого поэта благосклонное внимание императора Александра I.
Личная жизнь Жуковского складывалась необычно даже по романтическим понятиям его эпохи. Дважды он влюблялся в двенадцатилетних девочек, которые отвечали ему платонической взаимностью. В одном и в другом случае Жуковский ждал шесть лет, а затем предлагал руку и сердце.
Но в первый раз ему, тогда 28-летнему литератору, было отказано в браке: девушка была сестрой поэта по отцу, и ее мать, будучи глубоко религиозной, не могла допустить потенциально инцестуозного брака. Эта история повергла Жуковского в глубокую меланхолию и стала центральной темой его любовной лирики.
Во второй же раз, когда ему было 58 лет, а его избраннице 20, все поначалу сложилось благополучно. Но впоследствии жена Жуковского впала в глубокую депрессию и умерла в возрасте тридцати пяти лет.
Для службы, в традиционном понимании этого слова, мечтательный Жуковский был приспособлен мало, но он оказался выдающимся приватным педагогом. История педагогической деятельности Жуковского весьма примечательна. Учеников у Жуковского за всю его жизнь было всего несколько человек. О двух из них следует рассказать особо, ибо это были дочь прусского короля, принцесса Шарлотта, ставшая женой Николая I, и родившийся у них в 1818 году сын, будущий император Александр II.
В декабре 1814 года Жуковский преподнес императору Александру I стихотворное послание по случаю победоносного окончания войны против Наполеона. Сам Александр особого внимания на это стихотворение не обратил, но оно чрезвычайно понравилось его матушке, Марии Федоровне, державшей у себя литературный салон, куда был приглашен 32-летний Жуковский. Там мягкий, скромный, ласковый Жуковский обворожил всех, включая присутствовавшего при этой оказии великого князя Николая Павловича. И когда решено было пригласить для его невесты Шарлотты учителя русского языка, то выбор пал на превосходно владевшего немецким Жуковского.
Постепенно Жуковский стал своим человеком в семье Николая. И когда его ученица родила сына Александра, то бывший в это время с молодыми супругами Жуковский разразился очередным посланием, в котором красочно описал эмоции обычно в высшей степени сдержанного Николая:
Гряди в наш мир, младенец, гость желанный!
Тебя узрев, коленопреклонен,
Младой отец пред матерью спасенной
В жару любви рыдает, слов лишен…
Незадолго перед коронацией Николая I Жуковский был назначен воспитателем наследника, которому тогда исполнилось восемь лет. Жуковский отдался этой ответственной задаче всем своим существом и занимался ею двадцать лет, обучая цесаревича не только русскому языку и литературе, но и идеографии, истории и даже математике. Он регулярно писал матери будущего императора, его бывшей ученице, наставительные письма: “Для Вашего ребенка, для его будущей судьбы требуется религия сердца”[40]40
Цит. по: Зайцев Б.К. Жуковский. Жизнь Тургенева. Чехов. Москва, 1994. С. 132.
[Закрыть]. Думается, во многом благодаря подобным педагогическим методам Жуковского Александр II в будущем осуществил самые гуманные за всю историю России реформы, которые включали отмену крепостного права.
* * *
В Жуковском-человеке Николай более всего ценил честность, преданность, смирение, непоказную религиозность – сочетание качеств, не столь уж частое у выдающихся личностей. Но Николаю была также близка эстетика Жуковского.
Мы упоминали об имидже Николая как донкихота самодержавия. В сущности, он был последним самодержавным романтиком на российском престоле. Очень многое в его политике – как в ее удачах, так и в поражениях – определялось именно этим, несколько старомодным, романтическим мироощущением “последнего рыцаря”, для опытных и циничных европейских политиков того времени представлявшимся наивным.
Сейчас забывают, что Николай I начинал свое царствование как потенциальный радикальный реформатор. Недаром Пушкин писал о нем в своем стихотворении 1828 года “Друзьям”:
Его я просто полюбил:
Он бодро, честно правит нами;
Россию вдруг он оживил
Войной, надеждами, трудами.
В манифесте, изданном в 1826 году, Николай I открыто признал необходимость усовершенствования “отечественных установлений”. Главной из таких задуманных реформ была проектировавшаяся Николаем отмена крепостного права, о котором он говорил: “Нет сомнения, крепостное право в нынешнем его положении у нас есть зло для всех ощутительное и очевидное…”[41]41
Зорин А.Л. Кормя двуглавого орла… Литература и государственная идеология в России в последней трети XVIII – первой трети XIX века. Москва, 2001. С. 340.
[Закрыть]
Николай также сразу принялся пресекать столь распространенные в России бюрократизм, разгильдяйство и пренебрежение к нормам закона. При этом он не забывал культивировать свой рыцарский имидж – например, прощал всех арестованных и осужденных за публичное поношение и оскорбление императорского достоинства. Николай мог публично извиниться перед каким-нибудь офицером, которого он несправедливо распек. Он был также человек незаурядного личного мужества. Известно его отважное поведение во время холерных эпидемий в Петербурге и Москве, воспетое Пушкиным в стихотворении “Герой”.
На “рыцарский” имидж Николая работало также и то, что он неимоверно много работал – по восемнадцать часов в сутки; занимал всего лишь одну небольшую комнату на первом этаже Зимнего дворца, где стояла его походная кровать; укрывался суконной шинелью; мало ел и почти не употреблял алкоголя. По словам уже цитировавшейся нами Тютчевой, Николай “ничем не жертвовал ради удовольствия и всем – ради долга, и принимал на себя больше труда и забот, чем последний поденщик из его подданных”[42]42
Российские самодержцы. С. 155.
[Закрыть].
Эту “рыцарскую” поведенческую стратегию Николай проводил до конца своей жизни, но вектор политики императора с течением времени существенно менялся. Решающими тут оказались события 1830–1831 годов: сначала – революция во Франции, а затем – антирусское восстание в Польше. Николай увидел в них угрозу самодержавной власти и стал сворачивать преобразовательные планы начального периода своего царствования.
Еще придворный историк Николай Карамзин, которого император весьма ценил, в своей “Записке о древней и новой России” писал, что самодержавная форма правления является залогом благополучия и процветания отечества. Он также первым сказал о том, что самодержавие в России нерасторжимо связано с православием. Но при этом Карамзин не считал, что эти идеи должны внедряться в общество с помощью государственного аппарата.
Когда Николай начал осуществлять свой стратегический поворот к агрессивному консерватизму, он почувствовал необходимость в новой идеологической платформе. Такую платформу предложил ему граф Сергей Уваров, ставший в 1833 году министром народного просвещения.
Уваров представил Николаю меморандум, в котором сформулировал в качестве основы культурной политики ставшую знаменитой триаду “Православие, самодержавие, народность”.
Уваровская формула, впоследствии получившая определение “официальная народность”, оказалась, несмотря на свою внешнюю простоту и незамысловатость, весьма хитроумным и, главное, чрезвычайно устойчивым идеологическим конструктом. Эта формула была, с одной стороны, модернизированной версией старинного военного девиза “За веру, царя и отечество!”, с другой же, была направлена против знаменитого лозунга французской революции “Свобода, равенство, братство”.
Граф Уваров, по своим склонностям – либерал и франкофил, не отличавшийся особым религиозным рвением, попытался проделать политический фокус, который позволил бы России, оставаясь частью европейской цивилизации, одновременно отгородиться от ее “разрушительных излишеств”.
Обращаясь к Николаю I, Уваров задавал риторический вопрос: “Как идти в ногу с Европой и не удалиться от нашего собственного места ‹…› чтобы взять от просвещения лишь то, что необходимо для существования великого государства, и решительно отвергнуть всё то, что несет в себе семена беспорядка и потрясений?”[43]43
Зорин А.Л. Указ. соч. С. 367.
[Закрыть]
Ответ на этот вопрос Уваров видел в построении новой системы народного образования и культурной пропаганды, которой надлежало “возродить веру в монархические и народные начала, но возродить ее без потрясений, без поспешности, без насилия”[44]44
Там же. С. 371.
[Закрыть].
Согласно графу Уварову, деятелям русской культуры надлежало уяснить себе, что “три великих рычага религии, самодержавия и народности составляют еще заветное состояние нашего отечества”[45]45
Там же. С. 365.
[Закрыть]. Делать это, по идее Уварова, следовало “не в форме похвальных слов правительству, которое в них не нуждается, но как вывод рассудка, как неоспоримый факт, как политический догмат, обеспечивающий спокойствие государства и являющийся родовым достоянием всех и каждого”[46]46
Там же. С. 368.
[Закрыть].
Все это совпадало с размышлениями Николая о судьбах России и провиденциальном значении самодержца всероссийского, в которое он глубоко и искренне верил. Когда император увидел свои затаенные мысли оформленными изящной французской прозой (а именно по-французски был изложен трактат графа Уварова), он с удовлетворением дал сигнал о внедрении “официальной народности” в жизнь в качестве руководящей доктрины. Император также положил ее в основу своей беспрецедентно активной личной культурной политики, о чем речь впереди.
* * *
Для Жуковского в триаде “православие, самодержавие, народность” не было и не могло быть ничего чуждого. Он был благородным, глубоко чувствующим и сострадательным человеком и одновременно – убежденным политическим консерватором. Жуковский всегда настаивал на том, что “нет человека, который бы и по характеру, и по убеждению был более меня привязан к законности и порядку”[47]47
Семенко И.М. Поэты пушкинской поры. Москва, 1970. С. 58–59.
[Закрыть].
Жуковский по сути своей являлся немецким романтиком, выросшим на русской почве. Это увлечение немецким романтизмом и его философией было типичным для русской элиты того времени; не избежал его и граф Уваров.
Романтиков того времени можно было условно поделить на две категории. Одна – индивидуалистические, байронического типа. Такие романтики обычно были свободолюбцами с демоническими чертами.
Жуковский принадлежал к другой ветви романтизма – созерцательной, сугубо немецкой. Его философским кредо было: “Мир существует только для души человеческой. Бог и душа – вот два существа; всё прочее – печатное объявление, приклеенное на минуту”[48]48
Там же. С. 59.
[Закрыть].
Отсюда – представление Жуковского о роли культуры: “Что иное искусство, как не слепок жизни и мира, сделанный таким точно, каким видит и понимает душа наша?”[49]49
Жуковский В.А. Полное собрание сочинений: в 12 т. Т. Х. Санкт-Петербург, 1902. С. 102.
[Закрыть]
Соответственно, роль поэта заключается в том, чтобы проповедовать высокий моральный идеал. Делать это следовало, по мнению Жуковского, от имени народа. Недаром Пушкин подтверждал в письме к Жуковскому в 1826 году: “Никто более тебя не имел права сказать: глас лиры – глас народа”. А справедливый отклик на народные чаяния был священной миссией правителя, о чем Жуковский не уставал напоминать императору Николаю и императрице: “Когда же будут у нас законодатели? Когда же мы будем с уважением рассматривать то, что составляет истинные нужды народа, – законы, просвещение, нравы?”[50]50
Семенко И.М. Указ. соч. С. 59.
[Закрыть]
Именно такой Жуковский был наилучшим возможным посредником между Николаем I и российским художественным миром. Самой примечательной была, конечно, его роль как медиатора в отношениях между Николаем и Пушкиным. Жуковский оценил поэтический потенциал Пушкина, когда тот был еще лицеистом. Уже в 1815 году он писал князю Вяземскому о 16-летнем Пушкине: “Нам всем надобно соединиться, чтобы помочь вырасти этому будущему гиганту, который всех нас перерастет”[51]51
Переписка А.С.Пушкина: в 2-х т. Т. 1. Москва, 1982. С. 84.
[Закрыть].
Через пять лет Жуковский подарил Пушкину свой портрет с надписью, сделавшейся хрестоматийной: “Победителю-ученику от побежденного учителя”. Между ними установились в высшей степени дружеские отношения, в которых Жуковский играл роль умудренного старшего брата. Он увещевал легкомысленного, по его мнению, Пушкина: “Ты создан попасть в боги – вперед. Крылья у души есть! Вышины она не побоится, там настоящий ее элемент! Дай свободу этим крыльям – и небо твое, вот моя вера”[52]52
Там же. С. 89.
[Закрыть]. Пушкину эти поучения Жуковского иногда казались излишними и даже докучливыми; он частенько раздражался на своего наставника.
Оценивая отношения Жуковского и Пушкина сегодня, мы склонны вставать на сторону Пушкина. Более того, по мнению некоторых комментаторов, письма Жуковского Пушкину “поражают чрезмерно менторским тоном, порой граничившим с крайней бестактностью, и полным непониманием сути происходящего” – мол, какое право имел Жуковский учить “наше всё”?
Но Жуковский по-своему был прав. Он наставлял 25-летнего Пушкина: “Ты рожден быть великим поэтом; будь же этого достоин. В этой фразе вся твоя мораль, всё твое счастие и все вознаграждения. Обстоятельства жизни, счастливые или несчастливые, – шелуха. Ты скажешь, что я проповедую со спокойного берега утопающему. Нет! Я стою на пустом берегу, вижу в волнах силача и знаю, что он не утонет, если употребит свою силу, и только показываю ему лучший берег, к которому он непременно доплывет, если захочет сам. Плыви, силач”[53]53
Переписка А.С.Пушкина. Т. 1. С. 94.
[Закрыть].
Читая эти необычайно трогательные и волнующие строки, мы должны помнить, что – да, в итоге Пушкин, хоть и реализовался как величайший творческий гений, всё же “не доплыл”, как “не доплыли” после него и Лермонтов, и Гоголь, и Глинка, и многие другие отечественные гении.
Жуковский многажды выступал ходатаем за Пушкина перед Николаем I. Здесь роль его была психологически непростой и чрезвычайно деликатной. При Александре I Пушкин воспринимался как открытый оппозиционер, певец свободы. Неслучайно стихи его оказали такое влияние на ведущих участников конституционного мятежа декабря 1825 года, вослед подавлению которого Жуковский пенял Пушкину: “Ты ни в чем не замешан, это правда. Но в бумагах каждого из действовавших находятся стихи твои. Это худой способ подружиться с правительством”[54]54
Там же. С. 112.
[Закрыть].
Между тем после подавления восстания декабристов Николаем политические воззрения Пушкина стали медленно и, если так можно выразиться, зигзагообразно эволюционировать в сторону большего консерватизма и национализма. Жуковский с некоторым раздражением выговаривал Пушкину: “Я ненавижу всё, что ты написал возмутительного для порядка и нравственности”.
Пушкин, в свою очередь, был уже к этому времени внутренне готов к смене своей позиции: “Каков бы ни был мой образ мыслей, политический и религиозный, я храню его про самого себя и не намерен безумно противоречить общепринятому порядку и необходимости”[55]55
Переписка А.С.Пушкина. Т. 1. С. 111.
[Закрыть].
Общеизвестно, что после часовой аудиенции в Кремле, дарованной Николаем I Пушкину в дни коронационных торжеств в сентябре 1826 года, император назвал поэта “умнейшим человеком в России”. Пушкин на этот благосклонный царский жест ответил целой серией прониколаевских стихотворений, среди которых особое место заняли два опуса (“Клеветникам России” и “Бородинская годовщина”), воспевавшие подавление Николаем польского восстания. Они – вместе со стихотворением Жуковского на ту же тему “Старая песня на новый лад” – были по распоряжению Николая I немедленно отпечатаны военной типографией под одной обложкой в виде брошюры под названием “На взятие Варшавы”.
* * *
Жуковский не раз выручал Пушкина в его сложных отношениях с императором. Но особенно много он сделал для устройства посмертных дел Пушкина после гибели поэта на дуэли: добился того, что Николай I оплатил все немалые долги Пушкина, назначил пенсию вдове и детям, а также распорядился издать сочинения Пушкина за счет казны. Жуковский принял самое активное участие в разборе рукописей покойного Пушкина. При этом ему удалось сохранить многое, что в противном случае было бы предано огню как “предосудительное”; он впервые опубликовал “Арапа Петра Великого” и “Медный всадник”.
Список творческих личностей, в защиту которых выступал Жуковский, велик: тут и декабристы, и поэты князь Вяземский и Тарас Шевченко, и ссыльный вольнодумец Александр Герцен. Чрезвычайно деятельно участвовал он в судьбе Гоголя, дружба с которым продолжалась двадцать два года. Гоголь писал Жуковскому: “Брат, благодарю за всё! У гроба Господа испрошу, да поможет мне отдать тебе хоть часть того умного добра, которым наделял меня ты”[56]56
Гоголь Н.В. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 6. Москва, 1967. С. 274.
[Закрыть].
Без помощи Жуковского “Ревизор” Гоголя, возможно, не увидел бы света и рампы. Предвидя крупные цензурные затруднения, Жуковский показал эту сатирическую комедию Николаю, которому она чрезвычайно понравилась. Как известно, на ее премьере Николай I хохотал от души и демонстративно аплодировал. А когда пьеса окончилась, громогласно заявил: “Тут всем досталось, а больше всего – мне!” С тех пор до конца своей жизни Гоголь получал от Николая I финансовые субсидии, которые для него испрашивал Жуковский.
* * *
Алексей Верстовский, который принадлежал, конечно, к российской культурной элите, дружный с Пушкиным, Грибоедовым, князем Вяземским, Гоголем, Загоскиным и ведущими московскими славянофилами, с давних пор приятельствовал также и с Жуковским. (Заметим в скобках, что этому способствовала и высокая административная позиция Верстовского в руководстве московских Императорских театров. Жуковский адресовал Верстовскому просьбы о трудоустройстве актеров, которым поэт протежировал.)
Но главной скрепой в отношениях композитора и поэта было то, что Верстовский охотно и с любовью перелагал стихи Жуковского на музыку. Он не был самым первым русским композитором, обратившим внимание на Жуковского, – такого рода опыты начались еще с 1810-х годов, но они в большинстве остались приватными экзерсисами. Между тем опусы Верстовского, интерпретировавшие произведения Жуковского, приобрели громкий общественный резонанс.
Поэзия Жуковского отличалась особой, необычной для русской литературы его времени музыкальностью. Жуковский развивал, по словам Бориса Эйхенбаума, “напевный тип лирики”. Еще Николай Полевой (сотрудничавший с Верстовским в качестве либреттиста) писал о Жуковском: “Его звуки – мелодия, тихое роптание ручейка, легкое веяние зефиром по струнам воздушной арфы”[57]57
Полевой Н.А. Очерки русской литературы: в 2 т. Т. 1. Санкт-Петербург, 1839. С. 138.
[Закрыть].
Жуковский был мастером стихотворной баллады. Сам о себе он говорил, что был “во время оно родитель на Руси немецкого романтизма и поэтический дядька чертей и ведьм немецких и английских”[58]58
Жуковский В.А. Сочинения: в 6 т. Т. 6. Санкт-Петербург, 1878. С. 541.
[Закрыть]. Баллада как жанр происходит от средневековой песни-сказа, сохраняя черты и песни, и сказки. В Россию балладу на местную почву пересадил Жуковский, перекладывая английские и немецкие образцы. Его величайшей заслугой было то, что делал он это не формально, а привнося в свои переводы русскую душу и русский колорит.
Верстовский сразу это почувствовал. Он увидел в балладах Жуковского благодатный материал для создания русской баллады также и в музыке. Мы уже рассказывали об успехе его “Черной шали” на стихи Пушкина в 1823 году. Следующим опусом в форме баллады, также завоевавшим шумный успех, было переложение Верстовским “Трех песен” Жуковского. Сам Верстовский называл эти баллады “сценическими кантатами”.
Важно было то обстоятельство, что эти кантаты представлялись публике в костюмах с декорациями, в сопровождении оркестра. Это были своего рода музыкально-драматические монологи. В “Трех песнях” повествуется о скандинавском певце-скальде, явившемся к тирану-королю, чтоб отомстить за убийство отца. И публика, и критика были в восторге, когда услышали это произведение в 1825 году. Молодой князь Одоевский в своей рецензии специально отметил, что это “первый опыт сего рода в нашем отечестве”.
Благодарный Жуковский назвал Верстовского “поэтом в музыке”. Эстетический идеал поэта был на удивление схож с прозрениями Верстовского, который писал: “Первейшее достоинство драматической музыки древних, по словам Плутарха, состояло в простоте – истинном и единственном превосходстве сего высокого искусства. Побочною ее целью было возбуждение страстей”[59]59
Глумов А.Н. Музыка в русском драматическом театре. Москва, 1955. С. 80.
[Закрыть].
В соприкосновении со стихами Жуковского и Пушкина Верстовский демонстрировал свои лучшие творческие качества: яркую образность, эффектную театральность музыкального действия и чувство национального колорита. Это обеспечило успех и другому смелому эксперименту композитора с использованием стихов Жуковского.
Мы уже говорили о первом произведении Жуковского, завоевавшем национальную известность, – его “Певце во стане русских воинов”, прославлявшем победу над Наполеоном. В 1827 году на сцене Большого театра состоялась премьера “музыкальной картины” Верстовского на эти стихи с участием двух солистов и хора, что побудило композитора изменить заглавие на “Певцы…” вместо “Певец…”. Здесь Верстовский показал, что ему подвластны и героические, пафосные моменты в новом национальном стиле. Всё это послужило своеобразной подготовкой для первой оперы Верстовского “Пан Твардовский”, о которой мы уже рассказывали.
* * *
После грандиозного успеха “Пана Твардовского” Верстовский задумал новую оперу, в основу которой легла знаменитая стихотворная повесть Жуковского “Двенадцать спящих дев”, а именно первая ее часть под названием “Вадим”. Это была переделка на русский лад немецкого “романа ужасов”. Жуковский от написания либретто по своему произведению уклонился – видимо, не желая, как и Пушкин, быть слугой композитора и следовать его пожеланиям.
Перед Верстовским вновь встала извечная проблема русских композиторов: где найти профессионального либреттиста, понимающего законы оперы и сцены и способного представить качественный текст. На западе оперный либреттист давно уже был вполне уважаемой фигурой, но в русской музыке ситуация в этой области еще долгое время оставалась весьма проблематичной.
Верстовский обратился за помощью к своему приятелю Степану Шевыреву, талантливому поэту и критику и видному московскому славянофилу. Шевырев взялся за написание либретто с большим энтузиазмом. Жил он в это время в Италии, и сохранившаяся переписка позволяет проследить, с какими трудностями создавалось либретто “Вадима”.
Первый набросок, присланный Шевыревым из Италии, поверг Верстовского в ужас, и он в унынии показал его своим московским друзьям-славянофилам – Сергею Аксакову (автору либретто первой оперы Верстовского) и Михаилу Погодину. Всё это были крупные фигуры русской литературы того времени, и их поддержка композиторских начинаний Верстовского – факт примечательный и даже экстраординарный.
Действие “Вадима” переполнено всякого рода чудесами и ужасами, которые, надо полагать, и привлекли Верстовского в первую очередь: чистый душой новгородский князь Вадим вступает в бой с нечистой силой и адскими духами, освобождая от вечного волшебного сна двенадцать дев. Даже для искушенных московских литераторов всё это нагромождение романтических ужасов представлялось уже несколько старомодным.
Погодин писал Шевыреву: “Всё слишком идеально, неясно для нашей публики… Ад на теперешней сцене – анахронизм: без насилия ведь его представить себе нельзя. Притом это очень уже ветхо… Больше вещественности надо. Надо больше действия внешнего… «Вадим» теперь переписывается”[60]60
Гозенпуд А.А. Музыкальный театр в России. С. 672.
[Закрыть].
Аксаков, как человек наиболее опытный в либреттном деле, отправил Шевыреву дипломатичное послание: “Жалко смотреть на музыкальную жажду Алексея Николаевича [Верстовского], которую покуда удовлетворить нельзя еще… Ваша неопытность – единственная тому причина. Театр не терпит отвлеченных мыслей, темноты… Вы писали оперу не для славы: Вы приносите благодарную жертву дружбе и доставили случай проявления музыкального таланта Верстовскому. Довершите же свое начало, отдайте мне в полное распоряжение «Вадима». Ваша высокая мысль не может быть с успехом выражена на сцене, еще менее – в опере. Уполномочьте нас на все перемены и перестановки сообразно сцене и музыке”. И добавлял: “…Вообразите, что подарили приятелю перстень, которого он иначе не мог носить, как переделавши по своему пальцу”[61]61
Там же. С. 673.
[Закрыть].
Поддавшись на лесть, Шевырев дал согласие на переделки, но, ознакомившись с их результатом, решил отказаться от авторства, о чем известил почтеннейшую московскую публику специальным письмом, опубликованным в московской газете “Молва”: “Я решился отказаться от своего произведения и поручить изменения в оном нашим общим друзьям с тем, чтобы поэма уже не называлась моею, а общим произведением друзей композитора”[62]62
Гозенпуд А.А. Музыкальный театр в России. С. 672.
[Закрыть]. Недаром Верстовский жаловался князю Одоевскому, что “Вадим” – это “опера, писанная, я думаю, десятком писателей”…[63]63
Абрамовский Г.К. Русская опера первой трети XIX века. Москва, 1971. С. 54.
[Закрыть]
Когда опера была представлена 28 ноября 1832 года на сцене Большого театра, ее ждал огромный успех. Она шла почти ежедневно, по наблюдению Полевого, “в ложах сидела двойная пропорция зрителей… В райке не было счета головам, коими усеян был он до самого потолка”[64]64
Там же. С. 54.
[Закрыть]. “Вадима” показывали на сцене Большого театра еще двадцать с лишним лет, и он исчез из репертуара только в 1853 году, когда пожар в театре уничтожил все декорации и костюмы.
На зрителей наибольшее впечатление произвели фантастические сцены, где фигурировали сатана, черти, чудовища и духи. На афишах специально было указано: “Ад работы Богданова”. Присяжной циник, московский почтмейстер Александр Булгаков писал приятелю: “Вчера были мы вместе на первом представлении «Вадима» (исковерканный сюжет Жуковского баллады). Говорят, что Верстовский два года трудился над музыкой; она меня не фраппировала, не тронула, а декорация ада меня не испугала и грешников не остановит. Но что было прелестно, это самая последняя декорация: деревья, пещеры, город проваливается; в великолепном замке вроде замка «Тысяча и одной ночи» вдали видны двенадцать спящих дев. Они встают, составляют группу и тихонько возносятся на небо. Это было прекрасно, и хлопали много; вызывали не машиниста, а Верстовского”[65]65
Гозенпуд А.А. Музыкальный театр в России. С. 679.
[Закрыть].
Другим элементом, способствовавшим успеху “Вадима”, было внимание Верстовского к национальному русскому колориту музыки. В письме к Шевыреву композитор с гордостью заявил, что ему удалось “уложить в русскую люльку балованное дитя прекрасной Италии”, а посему «Вадим» есть “первая опера на Руси”[66]66
Ливанова Т.Н., Протопопов В.В. Оперная критика в России. Т. 1, вып. 1. Москва, 1966. С. 327.
[Закрыть].
Рецензенты с этим были согласны. В “Молве” писали: “Мы не стыдимся сказать, что наслаждались от всей души родными звуками, господствующими в «Вадиме». Они обворожительны для русского уха… Здесь звучат русские струны, заливается русская душа”[67]67
Молва. 1832. № 98. С. 391.
[Закрыть].
Но раздавались и скептические голоса. Тот же Полевой предостерегал: “Что же так сильно привлекло публику?.. Ожидание чего-то русского, русской оперы; имя Верстовского, всеми любимое, всем знакомое; давнишние слухи об его сочинении… Но «Вадим» недолговечен… Русский народ сметлив, но декорации ветшают скоро”[68]68
Гозенпуд А.А. Музыкальный театр в России. С. 679.
[Закрыть].
Верстовский, избалованный ранним успехом и популярностью, хотел и новой своей оперой угодить аудитории. Отсюда непомерное нагромождение сценических эффектов и “адских” эпизодов, вызывавших восторг неискушенных зрителей, но повредивших впечатлению от оперы в глазах конноссеров.
Но основной уступкой Верстовского было другое. Роль Вадима, главного героя оперы, играл вовсе не певец, а великий драматический актер Павел Мочалов. В обычаях того времени было для актеров Императорских театров и декламировать, и петь. Но Мочалов не пел вообще! Его роль в “Вадиме” была сугубо драматической.
Когда обсуждают причины, побудившие Верстовского отдать титульную роль драматическому актеру, обыкновенно указывают на то, что в труппе Большого театра в тот момент не было подходящего певца. Да, вероятно, так и было. Но, думается, основным побудительным мотивом все-таки было стремление Верстовского создать сенсацию, приманку для зрителей.
Мочалов как актер был отчаянный романтик. Молодой критик Виссарион Белинский так описал исполнение Мочаловым монолога Карла Моора из “Разбойников” Шиллера: “В его устах это лава всеувлекающая, всепожирающая, это черная туча, внезапно разрождающаяся громом и молнией, а не придуманные заранее театральные штучки”. А вот каково было впечатление Белинского от мочаловского Отелло: “…Я услышал какие-то ужасные, вызванные со дна души вопли, и прочел в них страшную повесть любви, ревности, отчаяния, – и эти вопли еще и теперь раздаются в душе моей”[69]69
Белинский В.Г. Собрание сочинений: в 3 т. Т. 1. Москва, 1948. С. 95–96.
[Закрыть].
Неудивительно, что такой яркий актер с повадками оперного персонажа, “властитель дум” москвичей-театралов, имел в опере Верстовского сногсшибательный успех. Верстовский это оценил, и, когда впоследствии ему советовали переделать роль Вадима для певца, он отказался. Обратной стороной этого успеха было то прискорбное обстоятельство, что “Вадим” Верстовского остался без единой арии; наличествовали только традиционные для доглинкинской оперы баллады, романсы, песни и куплеты. Таким образом, во второй своей опере Верстовский, выиграв в успехе у аудитории как продюсер, многое потерял как композитор.
Это обстоятельство, по-видимому, Верстовского сильно тревожило. Он долго искал сюжет для новой оперы. Думал, к примеру, о “Страшной мести” Гоголя – самой причудливой из новелл “Вечеров на хуторе близ Диканьки”. Но в конце концов Верстовский обратился к новейшему роману своего начальника и приятеля Михаила Загоскина, о котором уже шла речь в предыдущей главе. Это была его “Аскольдова могила. Повесть из времен Владимира I”.
* * *
Тут нам следует продолжить начатый ранее рассказ о Загоскине. В середине 1830-х годов он, оставаясь директором московских Императорских театров, уже имел солидную репутацию как исторический романист. Первый его роман, “Юрий Милославский, или Русские в 1612 году”, являлся в высшей степени удачным подражанием Вальтеру Скотту. Известно, что Николай I был большим поклонником Вальтера Скотта. Неудивительно поэтому, что роман Загоскина пришелся ему по вкусу.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?