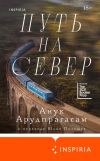Текст книги "Сын негодяя"

Автор книги: Сорж Шаландон
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
5
Суббота, 2 мая 1987 года
Мне позвонил отец.
– Скажи-ка, я смогу присутствовать на процессе Барби?
Это был не вопрос. Его сын – журналист левой газеты, он расторопный, не стоит с удочкой на берегу. Устроить так, чтобы отца пустили в зал судебных заседаний, для него плевое дело. Я был ошарашен. Присутствовать на процессе? Зачем тебе это надо?
– Ну, не каждый же день во Франции судят оберштурмфюрера SS, – ответил он.
Аккредитацию запросили около восьмисот журналистов со всего света. И еще нужно было усадить 149 жертв, их родственников и друзей, их 39 адвокатов, десятки истцов и свидетелей. Это помимо представителей власти местного и республиканского уровня. Школьные учителя просили разрешить им приводить своих учеников, на процесс рвались молодые адвокаты, студенты Национальной школы судопроизводства, члены всех и всяческих клубов, обществ и федераций. Ни одно помещение в лионском Дворце правосудия не могло бы вместить такую толпу. Муниципалитет предложил было использовать спортивный комплекс, но обвинение воспротивилось: суды на стадионах ничего хорошего не сулят. Тогда в зал заседаний был переоборудован огромный вестибюль, и слова «СУД ПРИСЯЖНЫХ» на главном фронтоне теперь торжественно красовались над головами судей и коллегии.
Как же я мог контрабандой провести отца? Да и нужно ли, чтобы он тут сидел? По какому праву человек, осужденный и отсидевший в тюрьме за «деяния, наносящие ущерб национальной обороне», может сидеть в одном ряду со своими жертвами?
– Не уверен, папа, что это возможно.
– А ты узнай! Как-никак, историческое событие!
Как-никак. Я пообещал сделать что могу. Но мне претила мысль о том, что в зале будет отец. Видеть разом его и Барби – невыносимо. Что он будет делать, если проникнет на процесс? Как поведет себя? Возраст ничуть не смягчил его бешеный норов. Он мог взорваться не только дома на кухне, но и на улице, в магазине, в кино, если фильм ему не по вкусу – просто встать в темном зале и высказаться при всем честном народе. У него не было ни малейшего представления о благопристойности и о том, насколько приемлемо его поведение. Иной раз он и не помнил, что вокруг люди. Считал, что он у себя дома. Я вздрогнул – представил себе, как отец с улыбкой подходит к Барби и протягивает ему руку. Или вдруг прерывает по-немецки выступление свидетеля. Или аплодирует стоя какой-нибудь реплике Жака Вержеса, адвоката обвиняемого.
Вразумила меня коллега по редакции, Жермена. О моем отце она ничего не знала. Я никому не рассказывал о его прошлом. Это же твой отец, вот и всё!
– Ты что, позволишь, чтобы твой отец стоял в дверях!
Жермена была старше нас всех. И больше всех хлебнула в жизни. Ей так досталось от людей, что она любила только животных. Родилась она в Алжире, в городе Боне. Еврейка, сирота, неимущая. В семнадцать лет ее продали сутенеру, который держал ее взаперти. Кромешный ужас: десятки клиентов выстраивались в очередь, боль, позор, унижения. Публичные дома в Алжире, потом парижская панель. Ад бульвара Барбес. Жуткая нищета. Во время восстания проституток в 1975 году Жермена встретилась с журналистами. Она была умная, бодрая, всегда в хорошем настроении. За свои сорок лет она выстрадала больше, чем мы все, вместе взятые. Пережитое придало ей сил и научило смотреть на вещи трезво. Нас она звала «ребятками». Ей хотелось выбраться из ямы, и редакция ей помогла. Она стала работать секретаршей на телефоне. По телефону подружилась с Симоной Синьоре и Ивом Монтаном, звонившими в редакцию чуть не каждый день поскандалить по поводу какой-нибудь статьи или заголовка. С Брижит Бардо она сошлась на почве любви к кошкам. Потом ей предложили печатать на машинке статьи, которые репортеры диктовали по телефону или писали от руки. И наконец она стала журналисткой – писала колонки о животных. И писательницей – опубликовала книгу о жизни уличной женщины в Алжире. Не знавшая родителей, она не могла понять, почему я пренебрегаю своими.
– Да ладно тебе! Посадишь его где-нибудь в уголке, и пусть делает что хочет!
Я не устоял перед ее смехом и алжирским выговором и уступил.
– Пойдем, я познакомлю тебя с тетей Фортюне!
Жермена никогда не говорила мне о своей тете, которая выступала истицей на процессе. Трое ее детей жили в Изьё, когда туда нагрянули Барби и его люди.
Отцу я сказал по телефону всё как есть. Никакого пропуска, никаких привилегий. Хочет присутствовать, пусть становится в очередь при входе, как все. Он попробовал возразить:
– Но я читал, что бывает какая-то оранжевая карточка. Такая штука, ее вешают на шею…
– Аккредитация для прессы?
– Да-да. С твоими связями ее легко достать?
Я объяснил ему, как работают судебные репортеры, сколько мест зарезервировано для них в зале и как трудно туда попасть. Он выслушал молча и недоверчиво.
Но несколько рядов за прессой отведено для публики, и надо приходить пораньше. Заседания будут проходить во второй половине дня. Процесс начнется в понедельник 11 мая. Пусть не забудет взять с собой паспорт, а портфель брать не стоит, – он повсюду таскал с собой этот канцелярский причиндал, чтобы прохожие думали, будто он идет на работу.
Отец два раза мне перезвонил. Первый раз – чтобы спросить, обязательно ли надевать галстук. Странный вопрос. Интересно, а 18 августа 1945 года на скамье подсудимых в Лилльском суде он был при галстуке?
Во второй раз он предложил мне пообедать вместе в первый день процесса, перед началом заседания. Я отказался. Соврал, что у меня телефонное совещание с редакцией – уточнение последних деталей. Мне не хотелось, чтобы он примазался ко мне и попытался пройти по моему оранжевому пропуску.
– Тогда встретимся там, внутри?
Вот правильно. Внутри.
– Но поговорить-то мы сможем?
После заседания? Пожалуйста. Если он хочет.
Я – не особенно.
После того как я нашел отцовские судебные документы, меня даже голос его раздражал. Каждое слово казалось лживым. Мы с ним не виделись два месяца, и я не знал, какой у него теперь взгляд. В марте я расстался с побежденным солдатом. А в мае снова встречусь с презренным вруном. У меня кулаки сжимались от злости. Но надо держать себя в руках. Судить будут не отца, а Клауса Барби. Надо сосредоточиться на стеклянном боксе подсудимого, а не на стуле в задних рядах. Я должен слышать только голоса жертв.
6
Процесс Клауса Барби
Понедельник, 11 мая 1987 года
«Вот он входит, изможденный старик в черном костюме». Это первые слова для статьи, которые я написал на правой странице нового блокнота. Клаус Барби протянул скованные руки полицейскому. Тот снял с него наручники и указал на стул.
Полная тишина. Ни шепота, ни малейшего шума в переполненном зале. Никто не кашлянет, не скрипнет стулом. «Этот человек не Клаус Барби», – записал я, когда он сел. Он не похож на свои прежние фотографии, не похож на того, кого мы видели и слышали в кинохронике, снятой в тюрьме Ла-Паса перед экстрадицией. Это не тот Барби в белом свитере, с твердым взглядом и высоко поднятой головой, какого показывали по телевизору перед его появлением во Франции. Не тот, кто улыбался на камеру и чеканил каждое слово, презрительно кривил губы и уверял, что этот процесс не сулит Франции ничего хорошего. И не тот человек с пронзительными, бегающими глазами, которых, по словам обвинявших его, они никогда не забудут. Человек, который вошел и сел на стул, был обыкновенный заключенный.
Он инстинктивно усвоил характерную для узника повадку: сгорбленная спина, втянутая в плечи голова. Мы привыкли к мягкому лицу, вызывающему своими округлостями не столько расположение, сколько неприязнь, но лицо человека, сидящего под прицелом множества объективов, не мигающего от фотовспышек и бесстрастно выдерживающего сотни устремленных на него взглядов, напоминало сухой совиный лик. Нос как клюв и венчик седых волос, подчеркивавших худобу. «В память врезаются его рот и глаза», – написал я в блокноте. Глаза, запавшие так глубоко, будто они зарождались где-то в недрах черепа и едва дотягивали до бровей. Рот – штрих дрожащей кисточкой по мертвенно-белой коже.
Однако такое впечатление держалось всего лишь миг. Едва мы успели удивиться этому явившемуся средь бела дня призраку, как он снова стал Клаусом Барби.
Его вернула улыбка. Тонкая улыбка, адресованная адвокату и сидящей справа переводчице. Морщинки разбежались вокруг глаз. Видно было, что человек слегка расслабился. Мэтр Вержес встал, повернулся к стеклянному боксу, облокотился на покрытый серым ковролином барьер. Что-то тихо сказал своему клиенту, Барби рассмеялся. И только тогда первый раз, с тех пор как председатель пригласил его в зал, он медленно поднял голову и оглядел всех пристально смотревших на него людей. Именно тогда, в этот момент первого дня процесса, на лице его появилась и навсегда застыла холодная улыбка. Одни из моих соседей-журналистов прочитали в ней издевку, другие – презрение. Я же написал: «Он улыбался, будто все его забавляло». Так точнее. Его забавляли толпящиеся журналисты с аппаратами и камерами, взволнованная публика, несколько тесно заполненных рядов потерпевших. Забавлял весь процесс, будто судили не его, а другого человека, за которого его приняли по ошибке.
– Он желает говорить по-немецки, – сказала переводчица.
Голоса обвиняемого мы пока не слышали. Он снова окинул беглым взглядом зал, и на миг глаза его вспыхнули, как у загнанного зверя.
– Ваше имя и фамилия? – спросил председатель суда Сердини.
Обвиняемый ответил стоя. Внушительным, спокойным хриплым голосом.
– Клаус Альтман, родился 25 октября 1913 года в Бад-Годесберге, близ Бонна.
Зал с колоннами загудел, раздались выкрики и свист.
– 3 октября 1957 я натурализовался в Боливии, – продолжил обвиняемый теперь уже по-французски, – под двойным именем: Альтман и Барби.
В этом месте я обернулся. Поискал глазами отца. Зал набит битком. И я знал, что еще многие остались стоять на улице. Но отец сумел войти. Я увидел его в самом конце зала, у барьера, и порадовался, что он сидит, пусть и у самой стенки. Приставив к уху рупором ладонь, он улыбался.
Отец улыбался. Атмосфера вокруг, как на службе в соборе: трудно дышать, полные слез глаза, насупленные брови, мрачные взгляды, нервные руки, теребящие платочки, – а отец улыбался. Видно, так распотешил, так восхитил его этот трюк с фамилией обвиняемого. Они тут собрались судить Барби, а перед ними Альтман. Старый нацист будет отвечать ударом на удар.
Я запретил себе пялиться на отца, но все равно постоянно чувствовал его спиной. Знал, что он будет вести себя так, будто сидит у себя дома за столом, вместе с женой и сыном. И только надеялся, что не услышу его голос.
Барби с интересом следил за жеребьевкой присяжных, читая по губам судей, и чрезвычайно внимательно разглядывал и выслушивал каждого адвоката. Снова проступил профиль хищной птицы. Его защитник отклонил пять кандидатур. Одну женщину забраковали, потому что она жила в Лионе во время оккупации; несколько обиженная, она заняла место в зале.
Перечисляя свидетелей-евреев, секретарь водил пальцем по списку и с трудом выговаривал имена. Я не решался обернуться и посмотреть на отца. Шестерни судебной машины пришли в движение, и пафос как-то растворился. Даже эмоции исчезли. Никого больше не удивляло присутствие этого седовласого господина. Первые журналисты покинула зал. Адвокаты переходили от одной скамьи к другой, вынуждая председателя призывать к тишине. На вопрос, успевает ли Барби следить за дебатами, немец ответил:
– Я всё прекрасно понимаю.
– Ну как? – спросил меня отец, когда после заседания мы, как договаривались, встретились на улице Сен-Жан. Чтобы выпить на террасе кафе кружку-другую пива и закусить крутым яйцом. Он уже ждал меня.
– В каком смысле?
– Как он тебе показался?
Пока трудно сказать. Он мало что успел сказать. Ну, показался сосредоточенным.
Отец рассмеялся.
– Здорово получилось с Альтманом, да?
Да просто время потянул. Отец сел поудобнее.
– А по-моему, неплохо придумано.
Еще ему понравился Вержес. Больше, чем «все остальные». Адвокат назвал процесс «юридической нелепостью» и упрекнул коллег в нерадивости, а истцов – в том, что они своевременно не заявили себя пострадавшими. И после каждой язвительной реплики в сторону соперника с улыбкой утыкался в свои записки.
Отец посмотрел на пол:
– Будь добр, подними мою трость.
Трость упала под столик, и я ее не заметил. Самшитовая трость, оплетенная стальной проволокой, с массивным серебряным набалдашником в виде грозной головы орла. Обычно отец ходил без всякой трости.
Он встал и тяжело, точно дряхлый старик, оперся на трость. У меня дрогнуло сердце.
– Что это с тобой?
Он улыбнулся. Надел пальто и показал его лацкан – красная ленточка.
– А как, по-твоему, я вошел во Дворец правосудия?
Он достал из портфеля льготную транспортную карту, выданную Министерством ветеранов и жертв войны. И табличку «инвалид войны» для автомобиля.
– Видел бы ты молодого полицейского на входе. – Отец подмигнул мне. – Он чуть навытяжку передо мной не встал.
Он постучал тростью об пол, обхватив набалдашник.
– Это трость-шпага. Правда, хороша?
Я задыхался. Вся эта ложь как будто пачкала меня.
– А про меня ты не говорил? Что твой сын журналист?
Отец пожал плечами:
– За кого ты меня принимаешь?
Первое заседание ему понравилось. Он собирался приходить каждый день. И хотел знать, где сижу я. Так где же? Где придется. У нас нет закрепленных за каждым мест. Он обнял меня, засмеялся и проковылял несколько шагов, нарочито согнувшись и опираясь на трость.
– Какие же люди болваны!
А потом повернулся спиной и зажал трость под мышкой, как стек английского офицера. Кем он себя воображает вот в эту минуту? – задумался я.
7
Процесс Клауса Барби
Среда, 13 мая 1987 года
Клаус Барби в своем черном пиджаке, сидевшем на нем, как слишком большое пальто, оставался совершенно безучастным. Ни одного протестующего взгляда или жеста. Видали мы подсудимых, которые, сидя в боксе, демонстративно удивлялись или притворно возмущались. Каждое обвинение встречали смехотворной пантомимой невиновности. Но не таков Барби. Пока секретарь зачитывал пять статей обвинения, шеф лионского гестапо рассматривал коринфские колонны зала. Ни тени эмоции за несколько долгих часов. Все знали перечень его преступлений и выслушивали его уже в который раз. Клаус Барби, обвиненный в арестах, пытках, депортации и убийстве 83 евреев из лионского комитета UGIF[9]9
UGIF – Union générale des Israélites de France – Всеобщий союз французских евреев, легальная организация, через которую регулировались отношения французских евреев с правительством Виши и оккупационными властями.
[Закрыть]. Клаус Барби, подписавший после ареста детей Изьё и их наставников телеграмму: «Задание выполнено». Клаус Барби, единолично приказавший отправить 11 августа 1944 года 650 человек «последним эшелоном в Германию», сначала в эльзасский лагерь Штрутгоф, затем в Дахау, Равенсбрюк и Аушвиц. И наконец, Клаус Барби, ответственный за смерть Марселя Гомпеля, еврея, участника Сопротивления, за пытки, которым подверглась Лиза Лезевр, и за уничтожение ее семьи.
Все это Барби выслушал молча. Как будто был тут посторонним. Даже обычно мучительная процедура вопросов-ответов ни к чему не привела.
Что значит быть нацистом, месье Барби?
– Этот вопрос относится к событиям сорокалетней давности. Я не могу на него ответить.
Евреи?
– Мне несвойственна ненависть. Я не испытывал ненависти ни к каким меньшинствам.
Что он делал в качестве шефа лионского гестапо?
– Многие, знаю, говорят, что я вел себя как сумасшедший, преследовал евреев, отправлял в лагеря. Это не так! Я подчинялся приказам. И не был хозяином Лиона.
Однако Барби разговорился, и стало ясно, что он все тот же. Закоренелый нацист, ни о чем не жалеющий и даже упрекающий бывших «партийных бонз» в том, что они набили карманы и «предали соратников, свернув с пути национал-социализма». И так до тех пор, пока адвокат не наклоняется к своему клиенту, чтобы его одернуть. Тогда Барби разводит руками:
– Но наступил день, когда пришлось взглянуть в лицо реальности. Германия проиграла войну.
Дважды я оборачивался. Отец смотрел на подсудимого, не отрывая глаз. Меня заслонял от него один английский журналист. Так что я его видел, а он меня нет. Он одобрительно кивал на доводы защиты и морщился, слушая истцов. Клевал носом, когда кто-нибудь из адвокатов углублялся в толкование юридических тонкостей. А в перерывах непринужденно, как начальник, инспектирующий войска, разговаривал с полицейскими.
В ту среду на утреннем заседании Барби подошел к микрофону – он хотел сделать заявление.
– Не очень длинное? – осведомился председатель.
Нет. Просто чтобы напомнить, что его зовут Альтман, он гражданин Боливии, его незаконно вывезли из тюрьмы в Ла-Пасе и судят во Франции.
– Так что я больше не намерен представать перед этим судом.
Ледяное молчание в зале. Изумление, ропот. Председатель привстал:
– Вы хотите сказать, что отказываетесь участвовать в заседании.
– Именно.
Адвокаты потерпевших разом вскочили. Одни протестовали, другие лихорадочно записывали впрок свои аргументы.
Недаром Жак Вержес накануне посоветовал им:
– Завтра примите успокоительное!
Удар был явно приготовлен заранее.
Зал помертвел, по рядам пробежала дрожь. Каждый понял: тот, кто должен ответить за все, вот-вот ускользнет. И тут встрепенувшимся львом поднялся Пьер Трюш, прокурор. Седая грива, горностаевая мантия. Подсудимый имеет такое право, – спокойным голосом напомнил он.
– Применять силу – устаревший метод. Демократия все равно одержит победу над нацизмом.
Отсутствие подсудимого – болезненный удар, но прокурор его принял.
Отец был ошеломлен. В полном смысле слова. У всех в зале лица пылали гневом, у всех, только не у него. Лиза Лезевр, которую почти три недели пытал Барби, утерла платком слезу. У всех пылала в глазах бессильная ярость, у всех, только не у него. Подсудимый сыграл злую шутку с Лионом, с правосудием, со всей Францией. И был доволен – видно по гла-зам. Председатель снова приблизился к микрофону, а я все не спускал глаз с отца. Смотрел ему в лицо, а к суду повернулся затылком. Я был отщепенцем в этом зале – следил за реакциями одного-единственного человека, того, который не имел права тут находиться.
– Вы не желаете присутствовать на заседании, я правильно понял?
– Ja, – по-немецки ответил обвиняемый.
Отец вздрогнул. Потом медленно улыбнулся и скрестил руки на груди, как будто наслаждаясь волшебным мигом. Боливиец Альтман ответил на немецком.
Когда суд удалился на совещание, отец стал искать меня взглядом. Он все еще не понял, где я сижу. Казалось, посреди всеобщего смятения – адвокаты истцов в бешенстве, журналисты волнуются, жертвы растеряны – он один вполне владел ситуацией. Его обступило несколько стариков, все молча слушали. А он обвел широким жестом ряды прессы. Наверняка объяснял, что будет дальше.
Судьи вернулись через час и при гробовом молчании зала заняли свои места.
– Введите подсудимого, – приказал председатель.
– Он не хочет идти, – ответил жандарм.
Тогда судья потребовал именем закона, чтобы подсудимому предъявили официальное предписание. И упомянул правоохранительные органы. Но все и так поняли. Вместо того чтобы каждый день силком затаскивать Барби в стеклянный бокс и провоцировать скандал, его будут доставлять в суд против воли, когда присутствие его будет необходимо. Например, чтобы взглянуть в глаза жертвам. Которые изо всех сил старались дожить до того дня, когда предстанут перед ним.
Пристав отправился во внутреннее помещение, чтобы вручить предписание подсудимому, с ним пошел, крайне напряженный, Жак Вержес. Бесполезно. Вержес и пристав вернулись в зал одни. Пристав держал бумагу с датой и подписью: «Клаус Альтман».
* * *
В ту же среду 13 мая 1987 года, вечером, я первый и последний раз в жизни поднял руку на отца. Выйдя из зала, я его не встретил. Его не было ни на ступенях Дворца правосудия, ни в убежище на берегу Соны.
Он покинул лионский процесс, как и Клаус Барби.
Я знал все любимые места, в которые он мог заглянуть по дороге домой, и нашел его на террасе кафе на той же улице Сен-Жан, одного, перед кружкой пива. Он фальшиво улыбнулся мне.
– А, это ты?
Кто же еще!
Почему он ушел? Потому что. Все кончено. Ничего этот процесс теперь не стоит.
– Как это ничего не стоит?
Отец разозлился.
– Ничего, ноль, пустое место, ясно? Если Барби не будет, то всему грош цена!
Я уже слышал такие речи от журналистов, выходящих из суда. «Фуфло!» – крикнул один французский репортер.
Помрачнели и иностранные коллеги. Их радиостанции, телеканалы, газеты теперь точно их отзовут. «Хоп! – и полный трындец!»
Барби, Барби, Барби. Его имя у всех на устах. Выходит, всем нужен он и никому нет дела до жертв. Все ждали взрыва, неожиданного поворота. Конечно, процесс никуда не делся, но как же все те обещания, которые адвокат защиты раздавал любителям сенсаций! Неразлучный со своей сигарой Вержес клялся: будет на что посмотреть. Его клиент не собирался сдаваться. Что, если он назовет мерзавца, выдавшего Жана Мулена? А? Как вам это понравится, господа журналисты? Да, у него имеется такая информация! Да, он может выложить этот козырь в любой момент! А что, если предателем окажется кто-нибудь из ваших великих героев Сопротивления? И его имя прозвучит из стеклянного бокса Лионского суда присяжных? Во что тогда превратится процесс Барби? Да, обвиняемый владеет тайнами, которые могут сильно испортить национальную легенду. Да, он может показать победителей этой войны совсем в другом свете. И сам стать обвинителем. Доказать, что французы в Алжире действовали как палачи, а на Мадагаскаре – как преступники. Да, он может утверждать, что колониальная политика Франции ничем не отличается от нацизма. Он может спутать все карты, увести в другую сторону дебаты, насмехаться над судом, – и уже начал, когда заявил, что он не то лицо, которое судят.
И вдруг взял да улизнул через служебную дверку, как статист с немой ролью.
Досада, разочарование, обида… жадные до скандалов зрители оказалась перед пустым боксом из пуленепробиваемого стекла. И когда им говорили, что жертвы все-таки будут выслушаны, некоторые только закатывали глаза.
Жертвы? Но ведь нужна была схватка между ними и их палачом.
Отец мой думал иначе. Мученики были ему безразличны. Он пришел на процесс шефа лионского гестапо. Барби ушел со сцены? Значит, процесс окончен. За второй кружкой он заговорил со мной о правосудии-мести.
– Ты видел юристов другой стороны? – Он наклонился ко мне. – Сплошь прокуроры!
Я пожал плечами.
– Это не суд, а линчевание!
– Как ты можешь говорить такое?!
– Да, линчевание! – Он злобно скривил рот. – Все ополчились на Барби: обвинители, жертвы, присяжные, пресса, публика, – ты только посмотри! Никто не говорит о справедливости! – Он заговорил громче. – Послушай их! Твердят одно и то же! – И гнусаво протянул: – Долг памяти!
Я осмотрелся. На нас поглядывали с любопытством.
– А что это значит – долг памяти? Вот и твоя газета о нем талдычит!
Он залпом допил кружку.
– Это уже не суд, а съезд историков!
Мне было неловко.
– Пожалуйста, потише!
Отец отмахнулся.
– Как ты можешь писать, что это беспристрастный суд?
Он поднял пустую кружку, поискал глазами официанта, но звать его не стал.
– Победители судят побежденного. Если бы войну выиграл Барби, на его месте сейчас были бы вы!
– Прошу тебя, замолчи!
Отец злорадно засмеялся:
– Что, правда глаза колет?
Присутствие Барби как будто придавало ему сил, раздувало гнев и ненависть. Глядя на эсэсовца, на то, как он улыбается, слушая, с какой спокойной уверенностью он говорит, отец набирался энергии. Я с первого дня процесса надеялся, что он опомнится. Снова почувствует себя двадцатидвухлетним мальчишкой-коллаборационистом перед судьями, вынесшими ему приговор в 1945 году. Измерит пройденный путь. Наконец заговорит со мной. И после заседания мы выпьем в кафе по кружке правды. Нет, папа, в сорок пятом ты не был в Берлине. Не сражался вместе с последними бойцами дивизии «Шарлемань». Ты, дурень, сидел в тюрьме! Какой ты, к черту, француз! Вот в чем ты обязан признаться мне между заседаниями. Вот о чем рассказать! Мне надо знать, кто ты такой, чтобы понять, где мои корни. Я хочу, чтоб ты заговорил со мной, слышишь, я требую! Я уже не в том возрасте, чтобы верить на слово, мне надо все услышать и принять. И ты должен сказать мне правду.
– Ты должен сказать мне настоящую правду!
Это вырвалось у меня, когда я отхлебнул глоток пива.
– Что-что я тебе должен?
Я оцепенел под пристальным взглядом его глаз с набрякшими веками и людоедскими бровями.
Я нечаянно проговорился. Мне стало страшно. Я пробормотал тусклым голосом:
– Ты должен и дальше ходить на процесс.
Отец отодвинул свой стул.
– Что такое я должен тебе сказать? Какую правду? Отвечай!
На нас стали оборачиваться. Отец злобно оглядывался. В приступе ярости он был способен вскочить, опрокинуть стол, кого-нибудь ударить.
– Ты сам просился на процесс, и я не хочу…
– Какую правду? Ну?
Я поднял руки – сдаюсь.
– Правда в том, что ты должен вернуться.
Он сплюнул на пол. Как часто делал на улице, чтобы прочистить горло.
– Правда в том, что ты и этот твой процесс мне осточертели!
Он швырнул на столик две купюры и ушел, оставив трость у спинки стула. Я допил пиво. Подождал, пока остынет голова, отпустит живот. На левом кулаке проступили белые косточки. Потом я встал. Нагнал его быстрым шагом около фуникулера. Окликнул, протянул ему трость, держа ее, как железный прут. Он уловил мой взгляд. Я – его беспокойство.
– Я забыл трость?
Я не ответил. Бросил на землю трость с орлом, обеими руками схватил отца за грудки и толкнул его к железной шторе какой-то лавки. Прошло столько лет, а я так и не знаю, откуда взялся у меня этот жест. И как я осмелился на него.
Отец врезался спиной в штору, железо загрохотало, и я словно очнулся. Я держал его, как добычу, чуть не касаясь лицом его лица. В его глазах ни капли страха или удивления. Как будто он наблюдал эту сцену со стороны. Я надеялся, что теперь испугается он, но дрожал только я сам. Я поймал Минотавра. Всего на несколько секунд. Я ждал, когда он освободится, и он без труда это сделал. Я отпустил его. Гнев схлынул. Отец так и стоял, прижатый к железу. Я подобрал его трость. Наша стычка заставила прохожих замереть. Теперь они молча пошли кто куда. Какая-то женщина смотрела на нас из окна.
Я протянул трость отцу, он схватил ее и выпрямился. Губы его сжались в презрительной гримасе. Я думал, он меня ударит, побьет, как собаку, палкой. Но нет. Он повернулся ко мне спиной, бросил:
– Бедный мой дружок!
И пошел своей дорогой.
Редакция сняла мне на время суда номер в гостинице недалеко от площади Якобинцев. Но в тот вечер я в гостиницу не вернулся. Позвонил из автомата Алену. Сказал, что готов ко всему. Время пришло. И я хотел все знать.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?