Текст книги "Мясной Бор"
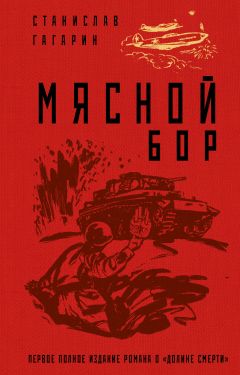
Автор книги: Станислав Гагарин
Жанр: Книги о войне, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 61 страниц) [доступный отрывок для чтения: 20 страниц]
Всем была не по душе эта правка, хотелось разойтись, размахнуться, выдать нечто такое, чтоб помнилось годы… Но законы фронтовой печати неумолимы. Позднее можно судить, где и почему ограничения были излишними, а когда они действуют, их не обсуждают.
Газета «Отвага» была на хорошем счету. Ее хвалила в обзорах «Красная звезда», отмечала волховская «Фронтовая правда», не забывал и добрым словом поддерживал «Агитатор и пропагандист Красной Армии». А такое бывает еще и тогда, если не допускают в газете проколов. Ляпы не возникают, если редактор и ответственный секретарь, да еще и начальник боевого отдела держат ухо востро, не допускают слабины и зорко следят за содержанием и формой любого материала.
Ни о чем этом Багрицкий, понятное дело, не подозревал. Он видел в редакции только вечно спешащих людей. Не умея постичь их работы, Сева с мальчишеским максимализмом занес сотрудников «Отваги» в разряд скучных людей, не способных подняться над проблемами сиюминутности, выйти из круга, очерченного начальством.
Редакция располагалась поначалу в селе Папоротно, на правом берегу Волхова. А когда войска Второй Ударной форсировали Волхов и взяли Мясной Бор, «Отвага» перебралась в Новую Кересть, затем в Кересть Глухую, оттуда выдвинулась в район Красной Горки, на острие главного удара.
В первые дни пребывания среди людей, гораздо старших по возрасту, достигших положения еще в гражданской жизни, побывавших в жестоких боях под Смоленском, вырвавшихся осенью сорок первого из окружения, до чертиков нанюхавшихся пороху, Севе было невдомек, какими смешными и мелкими могут показаться им обуревавшие его смятенную душу сомнения. Родионов и Бархаш, Кузьмичев и Перльмуттер, ответственный секретарь Кузнецов делали необходимое дело, старались свершить его получше, а главное – оперативно. Люди, помудревшие на войне, относились к ней и своему месту в трудной и кровавой работе как к обычному занятию, не произнося громких слов о долге и тем более не употребляя высокого стиля в газетных корреспонденциях. Они попросту трудились, будто читали лекции в мирное время, писали статьи по истории философии или о поэтике Лермонтова, вели семинары со студентами и принимали у них зачеты. Им было недосуг следить за тем, какое впечатление они произведут на молодого поэта. Но если б знали о сумбурности и хаосе, царящих в Севиной душе, то не преминули бы отнестись к нему с большей осторожностью и тактом. А Багрицкий решил: в редакции собрались сухие и равнодушные люди, всем на него наплевать. Потому-то юношеский скепсис сквозил в каждой строчке его дневника. «Встретили меня приветливо, накормили обедом, даже спросили, как я себя чувствую… Поселили с очень хорошими людьми. Но сразу же мне бросилась в глаза некая усталость у сотрудников, невозможность увидеть вещи сверху, узкое восприятие событий… Живу вместе с тремя сотрудниками редакции. Очень приятные, образованные люди. Но на мой взгляд – чудаки. Один из них историк-философ…»
Это он про Бархаша. Двое других – Николай Родионов и Лев Моисеев, в мирное время крупный специалист в области международных отношений. А Сева их одним чохом зачислил в чудаки. Как знать, останься он с ними подольше… Впрочем, и чудаки, и сотрудники с «узким восприятием событий», и вся армейская газета во главе с ее редактором были обречены. А Сева, не ведая ни своей судьбы, ни трагической участи Николая Дмитриевича, писал о Румянцеве: «В редакции идет давнишняя борьба между редактором и остальным коллективом. Сейчас она медленно приближается к кульминации. Сперва я оставался в стороне от всей этой муры. Но наконец и меня затронули редакционные дрязги. Увы, все мои работы правятся редактором и теряют всякий намек на индивидуальность. Я вспыльчив и часто отвечаю грубостью. А редактор ищет причины, чтобы придраться. Окружающие меня люди втихомолку ругают начальство. Только я до сих пор не могу понять, почему нужно бояться батальонного комиссара».
Румянцев не придирался к поэту, он обязан был делать газету в соответствии с требованиями военного времени. И делал ее в меру сил и способностей.
…– Я вызвал вас, чтобы поручить ответственное задание.
Настроение у Румянцева было преотличное. Визит высокого гостя прошел удачно. Особенно доволен был Николай Дмитриевич тем, что Ворошилов при расставании недвусмысленно заметил начальнику политотдела армии:
– Не мне объяснять вам, какое значение имеет для всех вас армейская газета. Забота о ней, о сотрудниках редакции – первейшая обязанность поарма…
Когда маршал уехал, Румянцев вызвал Багрицкого. Он помнил неприятный разговор с маршалом о Севе, и редактору хотелось сделать нечто такое, что сняло бы ощущение неловкости. Румянцев и сам еще недавно был гражданским журналистом и не успел обрести присущую некоторым начальникам способность не раздумывать о душевном состоянии тех, кому отдал приказ или кого подверг разносу.
– У нас в гостях был Ворошилов, – сказал Румянцев.
Сева смотрел редактору прямо в глаза, и Николай Дмитриевич принялся не нужно перебирать бумаги на столе.
– Его пребывание на фронте – тайна, – проговорил он. – Писать об этом не будем. Но Климент Ефремович поедет на передний край, в кавалерийский корпус. Вы будете сопровождать маршала.
– В качестве дармоеда? – нервно спросил, не отрывая лихорадочно блестящих глаз от лица Румянцева, Багрицкий.
– Что вы такое болтаете? – резко вскинулся редактор, пряча за резкостью тона возникшее вдруг смущение.
– Я слышал ваш разговор с маршалом обо мне, товарищ батальонный комиссар. Слышал, как вы жаловались на меня.
Румянцев почувствовал, что краснеет, и это разозлило его.
– Какая чепуха! – воскликнул он. – При чем тут дармоед? Я говорил маршалу, он спрашивал о вас, что вы не имеете опыта военного корреспондента. Разве не так? Ваши материалы сырые, излишне эмоциональны, вы плохо знаете обстановку…
– А зачем вы правите меня? – упрямо спросил Сева. – Да и других тоже… Все заметки в газете на одно лицо… Зачем?
– Ну, знаете… Надо побольше съесть каши на фронте, чтоб задавать такие вопросы.
«И чего это я оправдываюсь перед мальчишкой? – с обидой на самого себя подумал редактор. – Гаркнуть ему «Смирно!» и отправить на «губу» за пререканье…» Он живо представил подобную сцену, увидел себя в ней со стороны и улыбнулся.
Багрицкий недоверчиво и удивленно смотрел на него.
– Ладно, – отстраняюще повел ладонью Николай Дмитриевич, – не ко времени спор. Прорвемся к Ленинграду, будет свободный денек, тогда объясню вам, что к чему, Багрицкий. А пока присматривайтесь. Замечаю: сторонитесь товарищей по оружию. А у них многому сумели бы поучиться. Не согласны?
– Возможно, – тихо проронил Сева.
– Так вот. Следуйте за маршалом. Я обо всем договорился. Когда будете у конников Гусева, найдите лихого парня, рубаку, разведчика – словом, приключенческого героя. Сделайте о нем очерк. Получится – половину полосы не пожалею. И никакой правки!
44
Военврач Мокров не думал, что станет вдруг кавалеристом.
Существует поговорка о том, что, дескать, человек предполагает, а бог располагает. Так вот на войне и предполагать надо с опаской. И когда Михаил Мокров, молодой, но уже с хорошей практикой хирург колдовал в операционной одного из госпиталей города Валдая, устранял у солдата ущемленную грыжу и томился желанием попасть на фронт, судьба сама пришла к нему и ждала его в коридоре.
– Вы военврач Мокров? – шагнул к Михаилу высокий и стройный командир, затянутый в портупею. – А я Комаров, начсандив Двадцать пятой. Здравствуйте, коллега.
Мокров недоверчиво оглядел Комарова. Коллега? Не похож на врача сей бравый кавалерист. Скрипучие ремни, «наган» со шнурком в кобуре, кожаная планшетка… И шашка колотится о голенище, а на задниках сапог побренькивают шпоры.
С виду начсандив был мрачноват, но позднее Мокров убедился, что мужик он золотой. Обаятельным умницей оказался новый командир, бывший преподаватель медицинской морской академии в Ленинграде. Так война расположила – флотский доктор оказался в седле.
– Старший врач Сотого кавалерийского полка – такая ваша должность, – сказал Комаров. – Собирайтесь и отправимся вместе.
По дороге он спросил:
– Верхом ездить приходилось?
Михаил смутился. Как ответить на этот вопрос? Вырос он в деревне, а кто из деревенских пацанов не ездил на крутых конских спинах? Конечно, безо всяких там седел, резко ударяясь о круп тощим, поджарым задом.
– Конечно, – стараясь говорить уверенно, ответил хирург.
Прочь сомнения! Главное, вырвался на фронт, получил назначение в боевую часть. Про дивизию эту Мокрову слыхать доводилось. Формировалась она в Петергофе из самых что ни на есть питерцев и уже отличилась в боях. Парни собрались в Двадцать пятой отчаянные, в заполошье и бешенстве боя рубили, бывало, гитлеровскую пехоту, как капусту.
Комаров внимательно посмотрел на новоиспеченного кавалерийского врача:
– Ботиночки вам сменить надо. Ладно, скажу хозяйственникам, раздобудут вам сапоги. Шпоры – тоже…
Комаров улыбнулся. Тут молодой хирург и понял, что с начальством ему повезло. Улыбка у Ивана Николаевича была светлая, сразу преобразила его хмурое с виду лицо, и Мокров подумал, как все удачно сложилось, и даже пришло к нему горделивое чувство: в кавалерию попал.
Но сапог ему не раздобыли по причине, как любят выражаться интенданты, «отсутствия наличия». Это обстоятельство доставило потом немало неприятных мгновений полковому врачу. Вид у него в седле, обутого в ботинки с обмотками, был еще тот… Ладно, хоть кобылицу подобрали Мокрову спокойную, с крестьянской повадкой: курбетов никаких на марше не выкидывала, а ежели и падала порою с седоком, то совершала сие спокойно и неторопливо, давая возможность военврачу поаккуратнее приземлиться.
А в строю старший полковой врач всегда держался в хвосте колонны, дабы не шокировать кавалеристов собственным пехотным видом. Движется, бывало, не торопясь, на ходу обретая навыки кавалерийской езды, и слышит, как бойцы кричат иногда: «Доктор, а доктор! У тебя баллон спустил…» Все ясно, значит, опять проклятая обмотка размоталась… Так до зимы и маялся, а потом выдали валенки, и вообще спешился Мокров, стал командовать медсанэскадроном в Дубовике, где разместился штаб кавкорпуса. Дивизии дрались у Красной Горки, изо всех сил рвались к Любани, а в Дубовик доставляли раненых. Поначалу их было немного, и медики легко справлялись с обработкой, благо и медикаментов хватало. Но бои продолжались, сопротивление фашистов возрастало, наши потери росли, и в медицинской службе обнаружилось слабое звено – вывоз потерпевших. На чем только не пытались отправить их в тыл! В первую очередь, конечно, на санитарных машинах. Только было машин немного, да и с проходимостью обычной. По зимним-то разбитым дорогам, по снежному крошеву на них далеко не уедешь. Возили и на лошадках, собачьих нартах, даже на аэросанях. Счет этим транспортным средствам велся на единицы, а вышедших из строя красноармейцев и командиров считать приходилось сотнями.
В кавкорпусе Гусева в основном служили ленинградцы, у многих из них остались в осажденном городе семьи. Они знали, что армия рвется к Ленинграду, чтобы разорвать кольцо блокады, и потому дрались неистово, осмысленно и трезво жертвовали жизнями, понимая, какая цель впереди, какая цена их героическим усилиям.
В конце февраля бои за овладение Любанью ожесточились, и раненых стало еще больше. Медики едва справлялись с беспрерывным потоком искалеченных людей, так надеющихся на милосердную помощь. Работали побригадно, сначала по очереди – одни режут и сшивают, другие набираются сил. Потом очередь спуталась, несли хирурги службу у столов до изнеможения, обмороков от усталости. Когда врач без сознания падал на руки санитаров, его относили в сторону и тут же тормошили коллегу, смежившего веки час назад. Он протирал глаза, встряхивался и заканчивал операцию.
Однажды Мокров находился в перевязочной, когда фельдшер Павлов, адъютант медсанэскадрона, сказал ему, что в штаб Гусева прибыл Ворошилов. Измотанный бессонными ночами, военврач не закрепил в сознании его слова, ни одной мыслишки при этом не возникло, все задавила тяжелая усталость: приехал – уехал, кто и зачем – не все ли равно…
Около шести утра Мокров решил прилечь на часок, ушел в комнатушку, не раздеваясь, рухнул на пол, успев подостлать полушубок, знал, что, едва рассветет, снова ему пурхаться в неостановимой круговерти. Спал он недолго. Застучали в дверь, и молодой голос спросил:
– Здесь командир медсанэскадрона Двадцать пятой кавдивизии? Вас вызывает товарищ Ворошилов.
Оказалось, за Мокровым пришел молодой ворошиловский порученец.
Маршал занимал большую избу, но в горнице, куда ввели командира медсанэскадрона, Климента Ефремовича не оказалось. Зато достаточно было крупных начальников с ромбами на петлицах. Михаил Мокров представился, и ему сразу же принялись задавать вопросы: как, мол, дела у него в хозяйстве. Вначале вопросы шли общие, потом Михаил сообразил, куда клонит тощий человек с двумя ромбами в петлицах: ему хотелось узнать, много ли случаев членовредительства было с начала наступления.
– Среди кавалеристов дивизии ни одного, – ответил военврач.
– Так ли это? – спросил человек с двумя ромбами. – А вот у нас другие сведения…
Мокров пожал плечами:
– Конечно, попадались и такие, но из других частей. Мы ведь всех пользуем. А среди кавалеристов не было ни одного.
– Ишь, – сказал командир с двумя ромбами, – а ты патриот своей части, доктор.
– Ничего в этом дурного не вижу, – заметил рослый человек с залысинами, он стоял у печки, и у него краснел в петлицах один ромб. – И военврач прав. По кавкорпусу Гусева мы не имеем ни одного случая членовредительства. Это факт.
– Вы, Шашков, тоже… патриот. Послушать вас да этого доктора – не армия, а сплошные герои. Хотя наша статистика показывает…
Мокрову так и не дано было узнать, что показывает статистика, которой располагал этот неприятный человек. Занавеска, прикрывавшая вход в другую комнату, откинулась, и в горницу вошел небольшого роста человек, обутый в серые солдатские валенки, защитного цвета френч. На петлицах его Михаил рассмотрел темно-зеленые маршальские звезды. Ворошилов показался военврачу стареньким и усталым, одутловатое лицо заросло густой щетиной, в которой явственно проглядывала значительная проседь.
Все находившиеся в комнате командиры вскочили, а Мокров еще больше вытянулся у косяка входной двери, от которой он так и не отодвинулся ни на полшага.
– О чем спор затеяли, товарищи? – спросил Ворошилов. – Кому здесь не нравится, что во Второй Ударной армии мало членовредителей, нет дезертиров? А по мне, этому радоваться надо. Кстати, я собираюсь официально передать Военному совету армии, что Ставка выражает удовлетворение по поводу политической работы в войсках. Ни одного случая перехода на сторону врага! Это что-нибудь да значит. Особый отдел армии…
– Товарищ маршал, – предостерегающе посунулся к Ворошилову человек с двумя ромбами и повел глазами в сторону Мокрова.
Климент Ефремович резко повернулся к Михаилу, цепким взглядом окинул его:
– Кавалерийский доктор? Вот и скажите нам: вы сами распознаете тех, кто занимается членовредительством, или действуете по представлениям особистов как эксперты?
– Когда как, товарищ маршал, – ответил Мокров. – Но чаще их сами же красноармейцы и засекают. Паршивой овце в добром стаде не укрыться.
– Слыхали? – Ворошилов повернулся к продолжавшим стоять командирам. – Отменные слова… Спасибо, доктор. Иди к раненым, возвращай их в строй. У вас, медиков, огромной важности работа на фронте.
Когда Мокров повернулся, чтобы выйти, дверь вдруг распахнулась и возник на пороге еще один командир, его Михаил знал, это был начальник Особого отдела их дивизии.
А особист дивизии, спросив у Ворошилова разрешения обратиться к Шашкову, сказал, что тот срочно нужен по неотложному делу. Обратившись к маршалу за позволением уйти, они быстро удалились.
Едва закрылась за ними дверь, Ворошилов прошел в комнату, где стояли телефоны. Обладатель двух ромбов на петлицах последовал за ним.
– Немудрено, – сказал он, – что Шашков поддержал утверждение врача о малом количестве самострелов. У нас есть сведения, что он покрывал членовредителей. Ведь это же ясно, товарищ маршал, что эффективность работы наших контрразведчиков определяется количеством выявленных и разоблаченных дезертиров, паникеров, самострелов и шпионов. И, согласитесь, проще простого заявить: дескать, в нашей армии существует особого рода патриотизм, и этим прикрыть бездеятельность и, что хуже всего, утрату бдительности…
– Ну вот что, – оборвал его Ворошилов. – Вы мне Шашкова не троньте. Я о нем побольше вашего знаю. Понятно?
– Так точно, товарищ маршал! – опустив руки по швам, ответил человек с ромбами на петлицах.
– Что там у вас стряслось? – спросил Александр Георгиевич.
Они шли в соседнюю избу, где разместился Особый отдел кавкорпуса. Шашков понимал: произошло нечто исключительное, если дивизионный особист решился вызвать его, когда он разговаривал с Ворошиловым.
– С той стороны пришел человек, Александр Георгиевич. Доставил срочное сообщение для вас лично.
– Где он? – спросил Шашков.
– У меня в отделе чаи гоняет. Едва не обморозился, пока добирался, оголодал… Мои ребята его угощают и присматривают за ним заодно.
Шашков усмехнулся:
– В избу, значит, пустил, как гостя, а охрану все же выставил?
– Так он согласно паролю свой, а там кто его знает. Вот увидите и решите, ваш ли он человек.
– Разберемся, – пообещал Шашков, прикидывая в уме, с чем мог прийти из-за линии фронта посланец.
В избе за чаем сидел в стареньком костюме человек неопределенного возраста.
– Как добирались? – спросил его Шашков, когда их оставили одних. – На немцев не нарывались?
– Бог миловал, – ответил посланец. – Партизаны меня до линии фронта провели, а тут уж я сам изловчился.
«Да, – подумал Александр Георгиевич, глядя на сидящего перед ним человека, заросшего рыжей с проседью бородой, одетого, как местный житель, – ловок ты, братец, ничего не скажешь…»
– Торопился я, – сказал посланец, – знал, что несу сообщение крайней важности. И, кажется, не опоздал… Времени в обрез, товарищ комбриг.
…Спустя четверть часа взволнованный Шашков быстро поднялся по ступенькам избы, в которой размещался Ворошилов. Климент Ефремович сидел у стола, загроможденного аппаратурой связи, и писал в блокноте.
– Что нового, чекист? – спросил он у Александра Георгиевича, когда тот, откинув занавеску, вытянулся у порога.
– Товарищ маршал, – сказал Шашков, – вам необходимо срочно уехать из этого села.
– Почему? – полюбопытствовал Ворошилов, добродушно улыбаясь Шашкову и будто не замечая его расстроенного лица.
– Немцы охотятся за вами, товарищ маршал! – воскликнул начальник Особого отдела.
– Ну и что? Они давно за мной охотятся, с начала войны. Полагаюсь на тебя, Шашков, авось не подведешь, не дашь им меня в обиду. Что скажешь?
– Я не шучу, товарищ маршал. Только что прибыл из-за линии фронта человек. Он доставил сообщение о том, что абвер узнал о пребывании вас во Второй Ударной армии и вычислил ваш путь. По всем предполагаемым пунктам вашего пребывания, в том числе и по Дубовику, будут нанесены массированные удары с воздуха.
– Когда? – спросил Ворошилов.
– Сегодня, товарищ маршал. Это может произойти в любую минуту. Поэтому я прошу вас как можно быстрее…
– Куда торопиться, Шашков, – возразил Климент Ефремович. – Чему быть – того не миновать. Не видел я ихних бомбежек, что ли?
– Товарищ маршал! – воскликнул Александр Георгиевич, и в голосе его появились умоляющие нотки. – Климент Ефремович… Поймите меня! Не могу я вас здесь оставить, не могу! Сведения достоверные, это точно… А ведь я отвечаю за вашу жизнь. Даже и не случится ничего… Вы знаете, что мне будет, если узнают: Шашкова предупредили, а он мер не принял? Да и просто по-человечески не могу согласиться с вами!
– Что с тобой будет, мне известно, – спокойно проговорил Ворошилов. – А ты мне вот что скажи, Шашков: по службе кипятишься или по-человечески?
– Как можно спрашивать об этом, товарищ маршал? – с обидой в голосе сказал майор госбезопасности.
– Ну-ну, понял тебя… Раз так надо – действуй. Тебе, брат, виднее. Передай от моего имени приказ – собираться в дорогу. Куда спрятать-то меня надумал?
– Об этом не беспокойтесь, – повеселел Александр Георгиевич. – Спрячем как надо. Сам черт не разыщет.
…Разбиравший историю с налетом на Дубовик Шашков отметил, что эскадрильи «Юнкерсов» появились над деревней точно в шесть часов вечера 26 февраля. Именно в это время маршал назначил совещание с командованием кавалерийского корпуса. Случайностью это быть не могло.
Начальник Особого отдела в первую очередь вывез из деревни Ворошилова и тех, кто его сопровождал. Успели переместить и часть штаба кавкорпуса. Командира и его комиссара в Дубовике не было, ждали их к восемнадцати ноль-ноль. Шашков позаботился, чтоб Гусева и Ткаченко перехватили по дороге выставленные загодя люди. Но в Дубовике оставалось два медсанэскадрона, тыловые подразделения корпуса. Сдвинуть с места их не успели, и бомбовый удар пришелся по ним.
…Военврач Мокров вернулся из перевязочной за час до налета, решил перекусить и отдохнуть немного, чтобы к ночи снова встать к операционному столу. Дома был его заместитель Сакеев.
– Чайку бы горячего, – сказал Михаил, – и поесть бы не мешало. Как у нас с харчами на сегодня?
– Сейчас сообразим, – ответил Сакеев, вышел из комнаты, где они размещались, и Мокров услыхал, как он говорит в сенях со старшиной. Занимали они полуподвальный этаж солидного дома на каменной основе. До войны здесь размещалась почта. Дом заметно выделялся в Дубовике размерами, и штабисты его сразу облюбовали. Только командир корпуса велел отдать помещение медицине. Наверху лежали раненые, а под ними квартировало врачебное начальство.
Но поужинать Мокрову не пришлось. Едва запустил ложку в котелок с оставшимся от обеда и теперь подогретым гороховым супом, как взвыл над головой авиационный мотор. Раздался оглушительный взрыв, дом содрогнулся, послышались другие взрывы, поглуше первого, и началось…
Сакеев бросился к двери, а Мокров, застыв с куском хлеба в левой руке и с ложкой в правой, остолбенело смотрел на заместителя, который бился плечом в заклиненную дверь. Дверь не поддавалась.
Грохнул еще один близкий взрыв.
– Давай в окно! – крикнул командир медсанэскадрона, бросая ложку в котелок, хлеб он засунул в карман полушубка.
Сакеев ногой, обутой в валенок, выбил оконную раму и вывалился наружу. Потом вскочил и бросился бежать по деревенской улице.
– Ложись! – крикнул ему Мокров. – Ложись, дурья твоя башка!
Где там! Сакеев бежал вдоль линии домов, смешно отбрасывая ноги. Вокруг рушились избы, летели вверх и в стороны обломки бревен, смрадный дым заволакивал деревню, в нем и скрылся убегающий военврач. А Мокров выбрался из окна, согнувшись, добежал до ворот и залег там, мысленно простившись с замом. Ведь тот, кто бегает во время бомбежки, куда как в большей опасности оказывается. Мокров лежал у ворот и чувствовал, как потрескивают доски, когда их пронизывают иззубренные куски металла. Ворота стали вдруг крениться, вот-вот прихлопнут его, и врач стал отползать.
Едва затихли взрывы и стал удаляться гул моторов, с запада стала нарастать новая звенящая волна. Опять загрохотало вокруг. Недалеко ухнула бомба, по спине Мокрова забарабанили мерзлые комья земли. Осмелев, он поднял голову и увидел черные края воронки. Мелькнула мысль: пробраться туда, залечь, уберечься от разрывов. Но Михаил тут же, сделав усилие, повернулся на спину и вдруг почувствовал, что одолевший его страх и оцепенение, желание слиться с землею, зарыться в нее подобно кроту удивительным образом исчезли. Мокров смотрел в небо, оно все больше и больше темнело, и думал: «Еще немного – и «Юнкерсы» уберутся восвояси». Но коршуны продолжали ходить по кругу, и когда оказывались над определенной точкой – откуда было знать Михаилу, что метят они в штаб корпуса, где должен заседать сейчас Ворошилов с командирами, – над этой точкой они сбрасывали бомбы. Но угодить в такую мишень нелегко, и бомбы разбрасывало вокруг, они падали рядом со штабом и подалее, крушили избы с размещенными в них ранеными бойцами.
После третьего захода «Юнкерсы» улетели. Командир медсанэскадрона отряхнул с себя землю и снег, кашляя от едкого чесночного смрада немецкой взрывчатки, побежал в операционную. Она уцелела. Правда, оказались выбиты стекла, врач, который делал операцию, тяжело ранен. А боец пролежал налет на столе, ждал, когда им снова займутся.
– Найдите другого хирурга! – распорядился Мокров, увидев входящего Сакеева и даже не успев удивиться тому, что тот жив. Потом узнал: отделался Сакеев пустяком – осколок сделал дырку в валенке, только и всего. – Обойду деревню, определю потери.
Пострадали от бомбежки главным образом медики. Погиб коллега Мокрова командир медсанэскадрона 87-й кавдивизии. У Михаила убили двух фельдшеров: молодую девушку Тосю Васячкину и парнишку, прибывшего на днях из пополнения. Тяжелое ранение получил старшина Иоффе. Осколком в живот ударило врача, который работал во время налета в перевязочной. А в два дома, где лежали нетранспортабельные раненые, случились прямые попадания. Живых там не оказалось вовсе…
Прикинув потери, Мокров собрал людей и организовал немедленную помощь пострадавшим. Едва медики успели перевязать новых раненых, за околицей один за другим опустились три самолета. Командир звена сказал, что в штабе фронта знают о налете, его прислали забрать тех, кто нуждается в немедленной эвакуации в госпиталь. Таких было много. Мокров едва упросил летчиков сделать второй рейс и был несказанно обрадован, когда самолеты вернулись. Все-таки шесть санитарных рейсов… Большое дело.
Ночь надвинулась быстро, укрывая тяжелым покровом разрушенную деревню. Окончательные потери подсчитали уже утром. Убито было девяносто человек. Среди них Мокров на всю жизнь запомнил двоих…
…Покинув операционную, он выбежал тогда на улицу, пересек ее и увидел на земле, против входа в небольшой домик, убитую лошадь. Она была запряжена в подводу, нагруженную красными одеялами, их получили в аптеке для части. Живот лошади был распорот. Оттуда медленно выползали кишки и вздувались кровавым шаром. Михаил обогнул бездыханную лошадь, прыгнул на крыльцо, толкнул дверь и вошел в комнату. За столом, стоявшим в углу горницы, сидели двое, опустив головы на руки.
«Вот дают, – подивился Мокров, – такую бомбежку проспали».
Он хотел разбудить парней, потом присмотрелся внимательно и вдруг понял: перед ним мертвецы.
45
Письмо покойному отцу написать Багрицкий так и не собрался.
Это странное и неосуществленное им намерение появилось у Севы еще до начала войны. Однажды он гостил у Марины Цветаевой, тогда затеялся разговор о русских писателях, живущих в Париже, и поэтесса обронила фразу о нежных и печальных письмах Алексея Михайловича Ремизова: он постоянно их писал умершей уже Серафиме Павловне, супруге.
Как будто бы никто не обратил внимания на эту деталь, лишь удивились чудачеству старого писателя, а Всеволод внутренне вздрогнул. Его оглушило и потрясло рассказанное Мариной. Багрицкий не спал до утра, думая о том, что ответил бы ему отец, если б представилась такая фантастическая возможность.
Но сам написать он так и не собрался. Всеволоду казалось, что в этом письме надо сообщить о чем-либо значительном, переломном… Началась война, и Всеволод собрался на фронт, слагая в уме первые строчки доклада отцу о боевом крещении. Но вместо переднего края была эвакуация, серые чистопольские будни. Когда он все-таки прибыл на Волховский фронт, работа в газете разочаровала молодого поэта. Реальное бытие оказалось иным, вовсе отличным от того, какое рисовало воображение. И хотя он осознавал необходимость собственного участия в общей борьбе, но вся его натура не могла и не хотела примириться с тем прикосновением к войне, какое отвела ему судьба.
Книжный мальчик, хотя и познавший изнанку жизни, Всеволод пытался видеть окружавший его мир не слабыми глазами, они и так подвели его и принесли унизительную кличку «белобилетник». Он стремился воспринимать действительность восторженным сердцем и населял Землю романтическими героями, рыцарями без страха и упрека, увенчанными звездами и летящими сквозь вражьи порядки на Красных Конях. Но вот найти собственное место в жестокой и кровавой схватке с фашизмом оказалось гораздо труднее. Возникло множество жгучих вопросов. Способен ли он глаголом жечь сердца людей, как умел это делать его отец, благородный и мужественный воин? Недаром ведь его везли в последний путь на орудийном лафете. А что делает на войне он, Всеволод Багрицкий, обладатель тетрадки незрелых стихов и должности литературного сотрудника армейской газеты?
Не о чем пока писать отцу… Может быть, потом, если свершит нечто героическое, значительное, можно будет с гордостью рапортовать отцу туда. А пока…
«Отец остался жить во мне, – думал Багрицкий, – а в ком или в чем я оставлю след на земле? Так ли я жил, чтоб быть уверенным – отец мне скажет: «Горжусь тобою, Сева». Газетных строчек в «Отваге» для этого мало. К тому же зачастую это уже не мои строки. Они исправлены, а подчас и переписаны Кузнецовым или батальонным комиссаром. Да, я получил в руки оружие, но стреляет оно плохо, порой и прицеливаются, и нажимают на спусковой крючок другие. Стихи?.. Тут бы я мог, это личное, сокровенное, только мое, но «Отвага» – не литературный альманах. И я понимаю редактора, когда он приказывает набрать слабую басню о Гитлере, а мою лирику вежливо возвращает. Бойцам сейчас не до хореев и ямбов…»
…Выполняя приказ редактора, Всеволод вместе с Ворошиловым приехал в Дубовик, но маршалу на глаза старался не попадаться. Конечно, в лицо его Ворошилов не знает, но, увидев, может вдруг спросить: кто ты, дескать, таков?.. А тогда и припомнит разговор с Румянцевым, который Сева нечаянно услышал. В сознании его не закрепилась последняя фраза Ворошилова о том, что его, молодого корреспондента, учить, воспитывать надо. Зато он хорошо помнил, как мялся, подыскивая слова, Румянцев, как оборвал его маршал обнаженно грубым вопросом: «Что, хлеб даром ест?» Узнал бы об этом отец… Нет, нет, даже помыслить о такой возможности кощунственно, греховно!
Ни комкора Гусева, ни комиссара Ткаченко в Дубовике не оказалось. Они были на переднем крае, в районе Красной Горки. Ворошилов поначалу вознамеривался ехать туда же, но потом сдался на уговоры Шашкова, согласился подождать Гусева и Ткаченко в штабе, тем более они тоже выезжают в Дубовик.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































