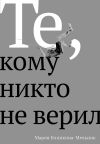Текст книги "Мачеха-судьба"

Автор книги: Станислав Мишнев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц)
– Ты чего, буржуй недорезанный, – спрашивает заплетающимся языком, – в золоте роешься? Деньги ляжку жмут?
Трафлин стал освобождаться из тисков дамы, дама потянулась за ним, да хрясть лицом в витрину. Продавец в крик:
– Грабють! Грабють! Звоните в милицию!
Дорогой Валентина спросила:
– Зачем тебе цепь?
– Ну, думаю, Марфе Карповне…
– Без намёков, слышишь?
Сияющий Трафлин стал рассказывать дома, как они с Валентиной были в магазине, как упала на стеклянную витрину баба и разбила лицо.
– Шурка. На сырьевом складе работает, шкуры принимает, – сказала тёща.
– Вот, Марфа Карповна, не обессудь, прими от нас, носи на здоровье, – зять вручил теще подарок.
Теща зябко поёжилась, пришла в смятение, оробела вся. Ушла с платьем в кухню и заплакала. Трафлин пожал плечами: обиделась? Не угодили? Валентина взяла мужа за руку, увлекла за собой.
– Пускай одна побудет, – шепнула на ухо.
Сосед физик доходчиво сравнивает запоздалое учение и сонливую сырость зари: то и другое в объятия первого встречного не падает.
И магнитное пол никогда не бывает бросовым, оно всегда востребовано!
Незаметно подползла к селу туча, вдали два раза громыхнуло, и полил дождь. В окне змеились потоки, струи шлепались на землю так, точно обрадованные босые соседи ломали клумбы, топтали свои узкие грядки, прыгали, бегали в последний раз вокруг своего дома и натужно дышали.
Марфе Карповне, заслуженной работнице здравоохранения, дали однокомнатную квартиру, Пупиным отвалили трехкомнатную. Квартиры рядом, дверь в дверь.
Семнадцатый
Ближе к Преображению погода стала паршиветь. Пошли частые моросящие дожди, температура ночами падала до семи градусов.
От дождей земля запахла хмельной теплотой.
Бывший тракторист Борис Кинсаринович Титюк сидел голый по пояс на новеньком диване за столом в своей избе. На столе стояла чашка соленых огурцов и пустая бутылка из-под водки. Орал телевизор. И только Борис хотел раскрыть рот и сказать: «Маня, слетай в потребиловку», – как, гремя костылём, в избу зашёл сосед Мокей Чупря и, опёршись на костыль, сделал вдох-выдох. Снял шляпу, сбил с неё сырость на пол.
Борис Титюк поморщился – чтобы выбить шляпу на улице об угол, так тащусь в комнату со всей сыростью, пробормотал:
– Выпить хошь?
Чупря отрицательно мотнул головой.
Титюк – хохол с крупной головой, толстый и лысый, усатый, упрямый, сам себе на уме. По словам Титюка, лучше его да Сашки Елагина в технике «никто не волокёт». Чупря – молдаванин, длинный, тощий, покладистый, общительный.
Титюку – шестьдесят пять, Чупре – шестьдесят. Титюк тридцать шесть лет отработал на трелёвочном тракторе, Чупря девятнадцать зим ползал с тросами и чокерами по вершинам сваленных деревьев – он был вторым номером механизированного звена. Волочил тросы, пока однажды зазевавшийся, плохо проспавшийся Титюк не подтащил его за ногу к щиту вместе с прицепленными лесинами.
– Садись. Вон бери табурет. Дело или просто так?
– Дело, Кинсариныч, самое что ни на есть житейское: день рождения у мамы в Преображение, вот… надо бы на могилке побывать, прощения попросить, а как?
– Да-а, – протянул Титюк, хотел встать, но не встал, спросил вызывающе: – Так чего?
Мокей вздохнул, шевельнул костылём.
– Похоронил маму у чёрта на куличках.
«У чёрта на куличках» – это бывший лесной посёлок. Последние двадцать лет его называли Шопшеньгой, по речке, что протекает рядом с посёлком.
Поселок № 17 был заложен в 1930 году волею власти. Четыре больших барака, пекарня, общая баня и «скотный двор» из жердей, еловых лап и мха. Первыми жителями поселка были раскулаченные с Поволжья немцы, казаки с Дона, украинцы. Прививались жить «враги народа» к пням и раскорчеванным десятинам, всякая связь с внешними аборигенами запрещалась под страхом выселения ещё глубже, в необжитые места.
Время шло, те из «врагов народа», кто дожил до амнистии, вернулись в родные края, посёлок стал заселяться беспаспортными беглецами из колхозов. Имя ему дали Сталинский лесоучасток. Только стали оперяться, оказалось, что товарищ Сталин подпортил своё доброе имя «перегибами и искривлениями» – переименовали в Светлый лесоучасток; добро бы освещение было справное, то сплошь керосиновые лампы, лес валили вручную «сортовками и лучковками», трелевали бревна на лошадях. «Посветил» посёлок лет пять и стал гаснуть. Переименовали, стал зваться Шопшеньгский лесоучасток. За какие-то три года ввысь пошли показатели заготовки древесины, лес стали валить бензопилами, трелевать на тракторах, начали строить хорошие дома, пошла скотина мычать и блеять, в каждом дворе залаяли собаки, за парты уселись двадцать детишек, и магазин появился, и медпункт, и дорогу начали мостить через болото. Видно, бог есть, видно есть сбереженный землей дух предков чуди заволочской.
Как бы поселок не именовали официально, он до наших дней народом зовётся Семнадцатый.
Обезлюдел Семнадцатый. Лес на тридцать-сорок верст в округе вырублен, догнивают бараки, народ переселился в посёлок Устье – километров двадцать пять по прямой от Семнадцатого. Прямо, как известно, одни вороны летают. Когда-то была узкоколейка, по ней шли платформы с лесом, нынче узкоколейки нет, рельсы, и те сданы в металлолом. Шопшеньга обмелела, рыбы нет, а когда-то по ней лес сплавляли! Болото поглотило недостроенную шоссейную дорогу.
Скрадывали этой зимой мужики лосей, говорили, что нарочно прошлись по посёлку, печальный вид бараков лишил их надменного пренебрежения к прошлому. Бараки встречали гостей в белых одеждах; оттаивая, с крыш капали капли, что слезы юности; в хвором болоте за Шопшеньгой догнивает свой век древесная падаль, на кочках перестала расти клюква, сами кочки как прыщи в коричневой шерсти. Скорее всего, вылили сверху какую-то отработанную гадость. Правда, стал подниматься сосняк по делянкам, сосняк с гордой осанкой, что есть добрый знак на будущее воспроизводство.
– Что ты присоветуешь, Кинсариныч? – спросил Мокей Чупря.
Титюк засопел, откинулся на диване, стал барабанить по столешнице толстыми пальцами.
– Бессонница меня мучает, понимаешь, всё существо моё заполнилось щемящей дрожью, и дрожь из меня не выходит, – говорил Мокей Чупря и хлопал себя рукой по костистой груди. – Лежит мать… кладбище лесом зарастает. Могилку бы почистить, сирень по углам посадить.
Мать любила сирень в цвету. Как, говорила, яблони цветут, Молдавией родной пахнет. Противоборствует во мне ощущение радости жизни и печали. Вот надо к маме, и точка! Никогда во сне маму не видал, а тут с одного два раза приснилась. Как вот тут… – Мокей всхлипнул, отёр глаза рукой. – Надо.
– Не одна она, – сказал Титюк.
– Не одна, верно. А могилки тех, у кого родни не осталось… Кресты погнили, трава дурная выше меня, должно быть… Всем бы нам на родине побывать не мешало. Мать моих детей подняла, а сколько она в лесу на обрубке сучья помёрзла, господи! Что говорит, все мёрзли, такое было время. Мы с тобой, твои ребята, мои ребята, все в Семнадцатом родились. Да, Кинсариныч, разлетелись наши деточки, сами уже родители со стажем. Я, Кинсариныч, пять скворечников сделал, думаю, их надо на наши липы приладить. А, как думаешь? По весне скворцы прилетят, зачирикают, мать услышит, а?
Вышла из горницы седовласая жена Титюка Мария, уперла руки в крутые бока и говорит:
– Да разве ты, Мокей, не знаешь нашего упрямого хохла? Ишь, как запорожец с картины, важности сто пудов. Ты вот распинаешься, а он молчит, он умнее всех.
– Маня! – Титюк всплеснул всем телом.
– Седьмой десяток Маня. Мокей, ты поспрошай народ, вдруг да согласие будет, да трактор схлопочем, да и съездим. У Веньки сороковка есть и телега исправная, у Елагиных восьмидесятка с передком, потом оба парня гостят…
– Маня!
– Поди, Мокей, поди с богом. Не сварить каши с нашим Кинсаринычем.
Гость ушёл.
Титюк был зол на жену. Крепко стукнул кулаком по столешнице и сказал, метнув глазами молнии:
– Ишь, разговорилась! Знай, сверчок, свой шесток!
– А ты не пугай, пуганая я. Захочу, уеду к которому парню в город, а ты дави пузой новый диван, требуй к себе внимания. Да что, Мокей к нему со всей душой, а он как сова из дупла: у-у-ух!
Ковыляет Мокей Чупря по Устью, с одним заговорит, с другим покурит – нет, не горят желанием бывшие шопшеньгские мужики побывать на родине.
Потный и малиновый от напряжения Сашка Елагин возился со стиральной машиной. На предложение Мокея затряс своей бородой-мочалкой, замахал руками:
– Да ты что! Гниль, бездонные грязи! Полные колеи воды стоят с самой весны! Не-е, Мокей, как представлю – ужас.
Мокей сделал какое-то суетливое движение лицом, хотел сказать, что есть же объезды, но Сашка остановил его:
– Думаешь, мне железа жаль? Не по курице шесток? Тьфу, понял? Изломаю – починю.
– Так может, съездим? – ещё раз робко попросил Мокей.
– Не поеду! И тебе не советую. Да пропади она пропадом наша Шопшеньга! Хуже всяких каторжан нас держали, лес да водка, водка да лес, в конце года премия. Вставали в шесть утра, ложились в полночь, за полночь, пока прикачает мотовоз, пока… Память ворошить не желаю!
Мокей Чупря вышел к своей маленькой полоске пшеницы. Это были его владения: бледная медь хлеба, сухощавый гараж с резным петушком на крыше, поленницы дров, маленький цветник. Сердце как-то замерло от нежности ко всему на свете. В гараже стоял мотоцикл. Мокей ездил редко, только в сухую погоду и только до райцентра. Прилаживал изувеченную ногу, совал в коляску костыль, кричал жене: «Жди меня, и я вернусь!» – и давал прощальный сигнал. Жена ездить с ним боялась. Всё равно, говорила, и сам зашибёшься, и меня зашибёшь.
Сашку Елагина Мокей уважал. Вместе ходили в школу, в один класс, и сидели за одной партой. Был тогда Сашка щуплым, вертлявым, с пегим от веснушек лицом – повзрослев, прикрыл веснушки бородой. В лесопункте было много вербованных, бывали разборки серьёзные. Сашка в компании держался чинно, знал меру в питии, из чужой сумки еду ел неохотно. Борис Титюк, бывало, не торопится развернуть свой сверток с едой, а съедал общую пищу, пользуясь ею для сытости и подтверждения равенства со всеми людьми. Бывало, опрокинет пол-литру водки, умнёт сала шматок, и обязательно надо ему задраться с кем-нибудь, подсмеяться, больно задеть самолюбие.
– Вот возьму!.. И один поеду! – тихо решительно сказал Мокей.
Так рано утром и жене сказал.
И как провинившийся школьник отвёл глаза в сторону.
Жена поспешно села на стул напротив мужа – Мокей любил сидеть в углу, в углу у него была своя библиотека – вся как-то сжалась, ссутулилась, сказала отрешенно:
– Там и похоронят… когда-нибудь.
– Это ты зря, Галка, зря!
– Не зря, – вздохнула жена. – Не зря. Я всё, Мокеюшко, понимаю.
– Так поехали, раз понимаешь! Да мы с тобой!.. Я помню, Галка, как меня со щита снимали. Кто кричал, кто от ужаса окаменел, а ты, взволнованная, спокойная, говорила: «Потерпи, потерпи, Мокеюшко, всё будет хорошо». Сколько тогда в тебе ласки было, страдания…
– Тогда другое время было, – деловито сказала жена.
– Пусть другое, – согласился Мокей.
– С этого Титюка как с гуся вода. Даже акт о несчастном случае писать не стали. Как же, он человек партийный, а ты кто? Так, на побегушках.
– Ну, пережили, и бог с ним, с актом.
– Эх, голова два уха. Да нанять адвоката толкового, да раскрутить!.. Не правда, найдут виновного! И пенсию, глядишь, повысят.
– Кто с краю виновный? И лесопункта нет, и директор давно в могиле, и свидетелей нет… Да ну их всех в болото: поехали, Галка?
– А давай! Где наша не пропадала! – неожиданно согласилась жена. – Лопату возьми, топор, веревки, ещё там чего, а я еды в котомку потолкаю.
– Скворечники, Галка, скворечники надо на липы повесить.
– А ты их разбери, долго ли на месте собрать?
– Умница!
Неожиданно Галина ощутила счастье, такое же, как когда-то неуклюжий высокий молдаванин Мокей Чупря, молитвенно и восторженно смотревший на неё целое лето, вдруг загородил ей дорогу и попросил быть его женой. Мгновение удивительной беспричинности, вот что такое счастье. Под впечатлением выкапывала корешки сирени, старалась как можно больше сохранить в них жизни.
Мокей Чупря стал собираться в дальнюю дорогу. Странное ощущение, будто неожиданное узнавание самого себя, сопровождало его. И жена, которая, казалось, дальше магазина не ступит, вдруг согласилась ехать. Ясно, что она пойдёт пешком, но пойдёт! Будет толкать мотоцикл, будет даже браниться… «Необыкновенной души человек моя Галка! Как порой раскрыться может, как характера на отчаянные броски хватает – вот тебе и ничего особенного!»
На другое утро они присели по обычаю «на дорожку», потом жена прошлась по комнате, постояла в нерешительности, зачем-то открыла дверцу маленькой печки, заглянула в неё и захлопнула. И заплакала. Приятно-теплые слёзы потекли на шею, щекоча кожу.
– Может не поедешь? – виновато спросил Мокей.
– Печку зря мы в Семнадцатом не оставили. Барак мёрзлый, теплее всего было у этой чугунной печки. Ребят я окладу возле её, а ты придёшь весь продрогший, озябший, причмокиваешь губами, где-то надо одежду просушить, валенки… Помнишь, ты валенки сушил на железных формах, что я с пекарни принесла? Приспосабливались всяко. А то, помнишь, кошка валенки столкнула, проснулись – война в Крыму, всё в дыму? Приедем на место, вымокнем, а где обсушиться, обогреться?
– Ой, Галка, и люблю же я тебя!
Слух, что Мокей Чупря со своей Галиной поехали в Шопшеньгу, быстро разнёсся по Устью.
Утром ненадолго в тёмной промоине неба встала прозрачная арка радуги. Концы её зажимали низкие и свинцовые облака, какие бывают в конце осени.
Встречаются у магазина Сашка Елагин с Борисом Титюком. Хочет Сашка Елагин пожать руку Борису Титюку, а тот, имея глухое раздражение, намеренно руку спрятал за спину и небрежно говорит:
– Ума нет, как зовут?
Титюк притопал за водкой, в доме Елагиных кончился хлеб и стиральный порошок.
Кровь ударила в голову Сашки Елагина. Пытаясь скрыть обиду, с напускным равнодушием ответил:
– Отец оплошность допустил.
Переступил с ноги на ногу, имея желание оттолкнуть Титюка с дороги, а тот обиженным голосом, будто его посрамили, а не он, говорит:
– У тебя ли, у меня ли, у верблюда ли. Про молдаванина говорю.
– Раньше был, – твёрдо говорит Сашка Елагин.
– Раньше девки были вкуснее и горушки круче. Баба у меня рвёт и мечет, будто я виноват, что Мокею моча в голову прикачнула.
Сашка Елагин глянул в ту сторону, где у всех шопшеньжан осталась частичка души, сказал:
– Молодец Мокей! На мотоцикле?
– На корове, – зло ответил Титюк.
Всколыхнулось Устье. Некий вихрь пробежал по домам. В постоянном и напряжённом труде, в дружбе рождается у людей что-то такое возвышенное, что словами сказать трудно. Где-то в уголках души каждого шопшеньжанина осталось чувство благодарности за прожитые вместе годы. Хотелось говорить, говорить, смеяться. Умерла Шопшеньга, но осталась жить в каждом.
– Вот придурки, – говорил Борис Титюк, выглядывая в окно. – Куда леший несёт на ночь глядя? Ты только глянь, Маня, что Сашка Елагин творит: трактор с тележкой поставил у магазина, сам в телегу забрался, на гармошке играет. Идиот!.. И Венька на сороковке рулит… Одурели что ли?
Титюк всё выглядывал в окно, чувствуя, как на улице творится что-то необыкновенное, высокое, словно рождается новый мир, в телегу садятся незнакомые ему люди, сильные, веселые, красивые люди, он же сейчас – лишнее звено в этом мире; желание одного инвалида Мокея Чупри теперь становится желанием многих; радость одного гармониста Сашки Елагина разделяется всеми; столько лет бок о бок он отжил с этим народом, но не знал, что они – это необыкновенный мир.
В самостоятельно размышляющей голове Титюка поездка была позорнее, чем Брестский мир. Рванувшийся назад народ забыл о внутренних мыслях, потому утомлённый полз на тракторные прицепы и валился от торжества приливающей радости: домой!
И Титюк не выдержал:
– Маня, подай костюм, в котором я последний раз на пленуме райкома партии был, – распорядился Борис Титюк. – И одевайся, что ты как черепаха!
Эй! – застучал кулаком в раму, окликая бежавшего парнишку. – Как там тебя!.. – Форточку распахнул, кричит. – Скажи, мы сейчас!
Снится мне деревня
Анна Сергеевна не дряхлая, но седая от счёта природы. Неотлучное солнце и стужа безрасчетливо расточили на её голову много белой краски. Анна Сергеевна – некрасивая старушка, красивой не была даже в юности. Замуж её никто не звал, родила сына, когда ей было почти сорок лет.
Никто в деревне, кроме соседки Вали, не знает, от кого она понесла. А было всё так просто… Душная весна, теплые потоки стекают с небес на землю. В деревне пусто. Идёт сев. Вечер. Уже поднималась короткая ночь, обещая сон и прохладное дыхание. Стук в дверь. На пороге вырос солидный, лысый, но моложавый мужчина в заляпанной грязью гимнастёрке. Оказалось, геолог. Геологи в тот год бурили скважину километрах в двадцати от жилья, искали нефть. Приехали за водкой, а машина забуксовала, вот и ищет геолог трактор, чтоб «выдрать» машину.
– Что ты, родной, да какой у меня трактор? Садись, чайку попей, утро вечера мудренее.
Попили чайку да и поладили. Открылся геолог: когда-то был женатым, когда-то был военным, повоевал с японцами. У жены были изумительные глаза, полные мольбы и блеска. Постельное ложе занял другой мужчина, толстый, небольшого роста повар. Дышал со свистом. Имел бабье лицо, а сколько искреннего певучего отчаяния и трепета выдавали его толстые губы! Жена выбрала его, несостоявшегося певца с соловьиным голосом. Толстяк обещал ей постоянство. Даже продукты обещался не покупать в магазинах, в его холодильниках «всякой всячины до выгребу». У геологов большие заработки, но деньги тяжелые; что заработает – пропьёт, а не пропьёт – отсылает дочери. Дочь у геолога училась в университете. Успела ли она полюбить случайного мужчину? Нет, не успела. Одно лишь сожаление было живо и печально в ней до сих пор: зря не попросила геолога остаться. А вдруг бы остался?
Двадцать четыре года назад сын Юрик не стал признавать за колхозом цены, точно сила людская происходит из одного сознания, подался в город. Сын с пеленок привык идти впереди других, тихий шаг сзади был для него позором. И двадцать четыре года мать ходит за пять километров на почту, ей постоянно хочется слышать родной голос. Всякий раз заранее готовится к телефонным разговорам. Уговаривает себя, что с Юриком всё в порядке, у Юрика доброе сердце, светлая голова, повторяет в уме нужные вопросы, ждёт уверенные, счастливые ответы. Всякий раз молится: только бы погода постояла хорошая. При сильном ветре, снеге и дожде связь обрывается, напрасно телефонный начальник кричит в аппаратной комнатке: «Алло, алло, дайте Ленинград! Алло, девушка!» Связь вечно была плохая. Не иначе как бесы играют телефонными проводами. В трубке шебаршит, хрюкает, вмешиваются чужие голоса. Анна Сергеевна осторожно выспрашивает Юрика, не грубит ли он начальникам, не влип ли в какую дурную историю, с кем дружит или, упаси Господи, не водится ли с плохими людьми, её сын ни на что плохое не способен, а вдруг!.. «Юрик! Получил ли ты мой перевод? Мало, да больше нет. Юрик, береги ноги, не настужай!» Первые годы звала Юрика домой, хоть бы недельку погостить, крышу перекрыть, но сын был постоянно занят.
Пуст почтовый ящик; долго смотрит на фанерную зелёную стенку, как надеясь, что взгляд её вызовёт из нутра телеграмму или открытку.
Она жила и годами видела одну и ту же, нарисованную ей картину: весна, черёмухи облиты белым молоком; вечер, от реки идёт статный мужчина в элегантном костюме, в руках большой желтый чемодан. В чемодане всякие подарки для неё. Вот мужчина ставит чемодан на стол, раскрывает его, и то подаёт ей, и другое, а она, вся в счастливых слезах, отнекивается: зачем, зачем потратил на меня столько денег? «А ты носи, мама, носи, не береги ничего! Я опять скоро приеду, опять всего навезу. Только бы ты жила, была здорова!»
Она постоянно напоминала упорному сыну, что надо уметь жить и работать с теми людьми, которые есть на свете: «и позаде, да в том же стаде».
Жизнь не шла и не катилась даже, она переваливалась, как разбитая телега, с одного боку на другой, как теченье дыхания неведомого возницы. Один день радовал и беспокоил пребыванием, ощущением новизны, другой день, серый, как продрогший воробей, равнодушно тёк мимо, третий с чувственным стеснением вставал в уме непреодолимой чёрной стеной. Что-то неизвестное по жизни нёс каждый день; как в лампе иссякает керосин, так в человеке иссякает желание жить; годы – это западающее дыхание невозвратного детства.
Места себе не находила Анна Сергеевна первые годы. Она никогда не бывала в городе, скорее страшилась города, а вот одинокая соседка Валя признавала только строгую красоту и не находила её ни в ком – отжила в городе тридцать лет и знает, что деревенских парней быстро прибирают к рукам смазливые женщины, особенно разведёнки. К разведёнкам, этим зубастым акулам, Валя питала особую неприязнь. Валя не уважала чужой жалости к себе – её сердце не надеялось хорошо жить в будущем, оно достаточно потрудилось на ткацкой фабрике, и мозг не хочет думать о смысле жизни, мозг был много раз обманут то новой квартирой, то клятвами верности одного рыжего моряка. Как-то раз её сильно оскорбил обыкновенный ряженый Дед Мороз. На новогоднем празднике, при великом скоплении веселящегося люда, положил ей на плечи руки, испытующе посмотрел в глаза и закричал: «Никакого блуда! Слышишь?! Не позволю!» А она, молоденькая девчонка, в простеньком платьице, робкая, тонюсенькая, да какой блуд, Господи? Как потом Валя вызнала, этим Дедом Морозом был председатель профкома, разведёнка Зимина, которую за глаза звали Кобылой. У Юрика крепкие плечи, широкая спина, офицерская выправка – уж ненаследственные ли гены? Да попади такой парень в поле зрения какой-нибудь Кобылы!.. Он добр, наивен, как дитя, а добрый человек всегда всем должен. Не маловажную роль играет квартирный вопрос. Пускай живёт Юрик в общежитии, пускай работает на станкозаводе и учится в вечерней школе, одно дело поздним вечером прийти к готовому столу, другое – к буханке ржаного хлеба и кружке воды.
– Валя, а вот если… – бывало загадывает Анна Сергеевна. Она мучилась неизвестностью. За стенами её избенки во все стороны раскинулось тоскливое море ожидания, вопрошающая ночь: как превозмочь забвенье сына, как расшевелить залегший мир, спрятавшийся от неё в далеком городе? С другого боку зайти, а надо ли трогать в себе истину чужого существования?
– Да перестань ты, – скажет соседка. – Не пропадёт. Для сна нужен покой, доверие к жизни, а где его взять в сухом сознании потерянности? Дерево в непогоду с тайным стыдом заворачивает свои листья, и Анне Сергеевне было как-то стыдно: её бросил сын, единственный сын, которому она отдала всё! Много деревенских парней и девчат покинули родные пенаты.
– Хоть бы на день приехал… – с жадностью обездоленности, с тоской, копившейся год за годом, говорила Анна Сергеевна.
– Ты о чём-нибудь, кроме как о сыне, думаешь? – спрашивала соседка.
– Не-а. Истомилась я размышлениями всякими. Пишет, что женился, а на ком? Вон Дуся Ягодкина, истинно ягодка налитая! Вот бы пара, так нет, понесло в этот город, на инженера, сказал, выучусь.
В глазах соседки постоянно стояло некое зверство превосходства, она на вопрос Анны Сергеевны даже отвечает от обозления, потому говорит с медлительной жестокостью:
– Да не всё ли равно?
Анна Сергеевна менялась в лице и чувствовала свою обиженную душу. Порой ей не хотелось говорить с соседкой, даже находиться вблизи её, но мозг, истомлённый думами и своей бессмысленностью, требовал общения.
– Обидно, если… Дуся со всеми прибойная, веселая, в конторе сидит, эх!
Через семь лет, осенью, к Анне Сергеевне приворотил председатель колхоза. Без лишних вступительных слов опустился на лавку, пальцем показывает, чтоб хозяйка села рядом, говорит обиженно:
– Не надо меня райкомом пугать, пуганый я.
– Что ты, родной, кого я пугаю? Живу тихо-мирно, сама всего боюсь, – говорит изумлённая Анна Сергеевна.
– Тихо-мирно… А вот сынок твой ненаглядный топор на меня точит, взывает правление колхоза к долгу и справедливости. Мало, видите ли, мы внимания уделяем ветеранам колхозного строя. Ты вот раскинь умом, Анна Сергеевна, сколько в колхозе тех, кому помогать надо? А разве тебе печь топить нечем, или огород у тебя не вспахан, сена нет, а?
– Да что ты, что ты, Федор Федорович!
Тощ и бледен председатель, при близком соседстве тянет изо рта запахом прошлой жизни. Каждый год ездит лечиться на Кавказ, а толку никакого.
– На то пошло, Анна Сергеевна, много ли твой сынок в колхозе своротил? Мой парень в седьмом классе самостоятельно в лес за дровами ездил, а твой по берегу реки с удой в сенокос ходил. Ходил, поди-ка, от грусти и тоски тщетности своей, ходил по выкошенным наволокам, где пахнет умершей травой и сыростью обнаженных мест, да всё чувствовал себя обездоленным колхозником. Смысл жизни, так сказать, искал. Нашёл, ну живи, не трави других!
– Клянусь тебе, Федор Федорович!.. Уж не знаю, с чего Юрика бросило защиты у колхоза просить для меня.
– С того бросило, что колхоз у него в черепке как мертвое тело. Не знаю, в каких начальниках он ходит, но для меня он невзрачность, унылость и некультурность.
– Уж я ему… Я скажу, ты прости меня и Юрика прости, не со зла он!
– Тот не со зла, другой не со зла… Мурик твой Юрик! Этакая котяра гладкошерстная. Ладно, проехали.
Председатель ушёл, она провожала его до калитки, и долго глядела в удаляющуюся фигуру. И всё же радостно билось сердце от истинной радости: её сын думает о ней, заботится о ней. Вот было бы у него время… Жаль, занят. Работает большим начальников на заводе, это, Федор Федорович, не какой-то малюсенький колхоз, завод-то!
Сделала выговор сыну: не гоже поклёп на людей возводить, ничем она не обижена; у колхоза привычно бьётся сердце, терпеливая спина всегда в поту. И для всех колхоз – это надежное укрытие и покой.
Потом Юрик писал в письмах и говорил по телефону, что ему снится деревня; сын Шурка пошёл в первый класс, дочка Настя катается на деревянной лошадке; голос сына крепчал, стал всё больше меняться в сторону сознания серьезности жизни, необходимой для достижения вершин положения в обществе.
Сколько ночей пролежала она с открытыми глазами? Зимой и летом она наизусть знала всё: когда соседка Валя затопляет печь, чей в неурочный час взревел трактор, куда может спешить бригадир, отчего смеются проходящие под окнами доярки, чья брешет на другом конце деревни собака, чей петух пробил зарю – и снова в окошко ползёт рассвет, а потом тьма гасит свет, и жмётся к земле всё живое, и день за днём так. Подчас ей думалось, что существует без всякого излишка жизни, опечаленно-бессознательно, ночью одно сердце сберегает силы; утром надо затоплять печь, и если сердце перестанет толкать кровь, и полена не поднять.
Юрик медленно поднимался по служебной лестнице. Там, где выскочки в прыжке одолевали две ступеньки, он долго топтался по инерции самодействующего разума, но когда решался сделать шаг, шаг получался твердым и надежным.
Анна Сергеевна незаметно приобретает ветхость отживающего мира. Домишко её немного скособочилось, нижние венцы пошли в землю, картошки последний год садит ровно ведро. Погреб давно обвалился. Из-под одного из углов избы стал медленно выезжать закладной камень. Анна Сергеевна тыкала батогом землю под стеной и углом, вздыхала: уходит из избы тепло, уходит жизнь, подступает могильный холод. Плакать она давно разучилась. Если бы камень пополз обратно под стену, она согласилась бы ничего не знать и не слышать, даже жить без всякой надежды в вожделении тщетного ума своего. Коль избе и той не надо стало опоры, значит, весь смысл жизни потерялся. Ничто ей была жизнь, ничто – сын; глаза с удивлённой любовью смотрят на фотокарточку, и непонятная сила велит забыть всё на свете: чей такой ладный парень смотрит на неё? Мучительно вспоминала, чтобы она сказала незнакомому парню, но за эти годы так много хотела сказать, что всё смешалось в памяти. Перед фотокарточкой все слова были тщетны, были одни эмоции. Скорее всего, это был геолог, зашёл попить чайку и оставил на память своё фото.
Семена на посадку ей даёт Дуся Ягодкина. Она же принесёт корзину ягод с болота, рыжиками не поскупится. Хочется Анне Сергеевне самой побывать на болоте, а Дуся отговорит: «А чего болото? На нет исходит. Грусть одна. Вода да вороний грай населяют дали».
И много на селе появилось таких домов, таких хозяев печальных, как Анна Сергеевна. Куда подевалась сытость в желудке и семейное счастье в душе? Соберутся селяне ближе к магазину, одни речи, одни рассуждения: «А вот раньше…» «До Бориска Ельцина или до Мишки комбайнера? Вот и говори конкретно, то, раньше, раньше». «А вот Федор Федорович… Кабы Брежнев ещё пожил… Хвати Америку…» «Уехали наши ребята, да и правильно. Что вот сейчас, кому мы нужны, государству? Живём по талончикам, лапу сосём, а в городах…» «Отстань! И в городах одним цветом: очереди, талоны, грабёж, скоро в Москве метро остановят. Говорят, американцам кланяться в Кремле станут, ну как в войну, американцы тоже люди, помогут своей демократией. Кабы не разъехались свои, уперлись лаптями, разве так бы жили? Анна, твой Юрка при Мишке высоко взлетел, Бориско его в Москву не зовёт?» И любо Анне Сергеевне, и обидно: знает народ, что забыл сын мать, а телефонная связь – собака лает, ветер носит. Писем от Юрика нет, открыток поздравительных тоже, телефонная связь прекратилась – упали столбы, ставить стало некому и незачем. Застывший взор Анны Сергеевны умоляюще пробежится по лицам сельчан. «Пока я не сумасшедшая и не без глаз», – медленно, с обидными нотками в голосе молвит она. «Да ты что? – забасит бывший агроном белотелый Кадушкин. – Кто тебя чем упрекает? Нынче все в одном стремени». Повеселеет Анна Сергеевна, скажет: «Всё, говорит по телефону, снится мне деревня. Должно быть, жалеет, что в город подался. Жалей, не жалей, река вспять не побежит».
В брежневские времена, кажется, вся деревня и вся земля, воспрянувшие помышлением отплатить сторицей за любовь к ним, пахли хлебом; зерно сушили на сушилках, зерно мололи на мельницах, зерно ссыпали в склады, зерно отгружали государству, на одну корову выдавали в сутки до четырёх килограммов муки. Задумчивые, бредущие по ветру волны хлебов – вот лучшее на земле зрелище! Солнце и ветер детства поднимали на дорогах пыль, жизнь была не исходящей вечностью среди спешащих, смеющихся, потных людей. Теперь же воздух прощальной памяти стоит не только над кладбищем и домишком Анны Сергеевны, он густо лёг на всё дороги, склады, заросшие одичалые поля и обмелевшую речку.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.