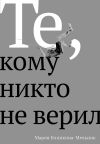Текст книги "Мачеха-судьба"

Автор книги: Станислав Мишнев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 6 страниц)
В воздухе пахло сыростью, слышались шорохи, тяжелое, усталое дыхание лошади. Набрякшее влагой небо висело над головой. Оно было похожим на сырую овчину. В лесу весна только начиналась, а в поле… «Помоги, Господи, добраться до полей! Там уж и поселок рукой подать. Нет-нет, и через поле дорога крепкая, не могла же она раскиснуть за день! Утром аж звенела по насту, не должна». Застыдилась, улыбаясь сама себе: она же комсомолка, как можно?!
Отдохнула лошадь, сама пошла, и понукать не надо.
Оля шла какое-то время за дровнями, отогрелась, села на воз. Гадает, кому же тетя Галина Изосимовна велосипед продаст? А вдруг какому-нибудь стахановцу велит директор продать? Отец сказывает, Игнат Листопад в дни стахановского месячника «Вакконом» до двух норм за смену валил. Отец Оли – совестливый человек. При нём даже мужики редко матерятся. Для него Семёныч – герой. Жалеет, что не попал на фронт, родился несколько ущербным: одна нога короче другой на пять сантиметров. Ходит неровно, как журавль, подскакивает с кочки на кочку.
Добралась до полей. Дорога, что кисель. Шпрея упирается изо всех сил. Полозья дровней сипят. Местами голая земля, грязь. Ноги погружались в рыхлый, пенистый снег. На ногах Оли валенки давно промокли, обросли грязью; жалко валенок, мать ими премировали прошлый год за ударный труд на вывозке древесины.
К реке прикачала, на реке лёд. Опять помянула Бога. Во все стороны посмотрела – нигде никого. Видит, на бугорке сквозь бурую, попревшую прошлогоднюю траву проклюнулась какая-то травка, слабенькая, чахлая, толщиной в шерстяную нитку. Села перед травкой на корточки, с умилением уставилась на стебельки. Подула, вроде травинки обрадовались, потянулись вверх; исподволь, вкрадчиво подула позёмка, зашуршали, завихрились снежные полосы; вдруг по ледяной поверхности, как по разбитому стеклу, поползли трещины.
Тут от реки показались бегущие фигурки, чего-то кричат, машут руками. Передний Игнат Листопад, его Оля признала по солдатской гимнастерке истриженой голове. Ещё подождала: чего бегут, чего кричат?
– Назад! Назад!
Куда «назад», лошадь уже стоит передними копытами на льду.
– Давай! Давай вперёд! – кричат, напирая, другие мужики.
Подхлестнула Оля Шпрею, та качнула воз с боку на бок, чуть не растянулась на льду, выправилась и ходко пошла по накатанной дороге.
– Назад! Назад! – догоняет повозку Игнат.
За узду хватает, пробует развернуть Шпрею, та упрямится, и вынужден Игнат бежать рядом, держась за оглоблю.
Тут, как из пушек, начали басисто палить вверх по течению, грохот покатился над рекой. И под ногами вздрогнул лёд.
– Давай, давай!
Большую льдину вместе с повозкой и людьми лениво понесла река.
Прыгнули на льдину два мужика, к повозке и Оле подбежали.
– Леший тебя дернул «назад» кричать! – кричит один, в пропитанной соляркой фуфайке, на Игната. – Девка, та бы одна скорее сообразила!
– Во, сейчас сообразим! Смотри, куда несёт!.. С разгону надо брать, с разгону! Лошадь за берег зацепится, а так!..
Схватил Игнат вожжи, стал хлестать ими Шпрею, подгоняя ближе к берегу. И надо же такому случиться, что льдину, где течение прижимается к самому берегу, развернуло и всей массой вытолкнуло метра на четыре по берегу. Только согнали лошадь, сами спрыгнули, льдину кто-то невидимый снова развернул, и она медленно потащилась обратно на быстрину.
– Бывает же такое, – удивленно говорит Игнат. – Как на такси, с доставкой на дом. Да-а, а говорят, Бога нет. Это, мужики, нам святой Лука пособляет.
Вытирают мужики перепотевшие лица шапками, не верят случившемуся.
– Вот-те нате… Это надо же? Сами-то, быть может, спаслись бы, но лошадь, товар… Под счастливой звездой ты, девка, родилась. Что там везёшь-то?
– Книги. Велосипед. Материю.
– А чего это у тебя в ящиках, а? Чего там соломой обложено, уж не водочка ли? – прищуривает глаз Игнат.
– Галина Изосимовна…
– Не робей, мы с Галиной Изосимовной столкуемся, – скалит зубы Игнат. – Пару пузырей за продолжение жизни надо освоить! Эй! – кричит, сотрясая бутылкой, быстро идущим по противоположному берегу мужикам. – Не завидно?! Давай к нам, кто смелый!
– Не сметь! – кричит коренастый, конопатый мужик. – Не сметь! Или приказ забыли?
Выбрались на влажную хлябь мхов, Игнат с достойной важностью обил сургуч с одной бутылки, протянул конопатому.
– За второй круг, – говорит. – Другую, считай, жизнь почали. А я на третий пошёл. А-ха-ха-а!
– Обязательно надо пить? – говорит конопатый, испытывая ощущение некой брезгливости. Подержал бутылку в руках и обратно подал, с веселой злостью добавил. – Пей, лешак тебя побери-то.
Ветер набирал силу. Весь горизонт затянули серые, дряблые, источающие холод тучи. Если бы река могла кричать, она бы кричала от захватывающей ярости, нетерпения, воли – таким сиплым и могущественным был голос реки.
Брат Толик встречал её у барака. Увидел, бредущую с книгами, закричал:
– Ура!
Оля стащила с ног размокшие валенки, с сожалением говорит:
– Мамины… Ссядутся теперь, мама заругает…
– Не ссядутся. Папка их на колодки посадит, не тужи. Папка у нас головной человек!
Складывает Оля мокрую одежду в кучу, взахлёб говорит брату, как было страшно через реку переезжать. Как набежали мужики, как лёд трещал.
Толик здоровой рукой обнял сестру, сказал задушевно и нежно:
– Отчаянная ты, Олька.
– В магазин шоколаду привезла, вот такие плитки… Ох и вкуснятина!
– Ела уже?
– Не-е, не ела, плитки же заклеены.
Мать вернулась в девять часов вечера. Усталая, промокшая, еле дошла до стола. Оля раздела её, стащила с ног такие же размокшие, какие были на ней, валенки, собрала поесть.
– Отец не пришёл? – спросила Олю.
Керосина не было. Горели в светце лучины, огарыши с шипеньем падали в корытце с водой. Отец как обычно приходил часов в десять вечера.
Стала Оля рассказывать матери, как она съездила в райцентр, мать слушала-слушала и захрапела. Оля поняла, что мать спит. Стащила мать на кровать.
Пришел отец. Разделся, ноги на табурет положил, массирует икры.
– Болят? – участливо спрашивает Оля.
– Намял, должно быть. Испугалась, когда льдина понесла вас с мужиками?
– Не знаю. Игнат кричит «назад», мужики кричат «давай», под ногами лёд трещит… А как в верхотине забухало, у меня руки-ноги задрожали.
– Удалой дьявол, этот Игнаха. Что поделаешь, ребята, кому что на роду написано. Мне вот не повезло…
– Папка, опять ты сам на себя клепаешь!
– Игнат пришёл из армии, его за сеном послали на ту сторону. Дело на восьмое ваше марта было. Мороз, иней над рекой ажурной вышивкой висит. Лошадь провалилась, воз на воде качается, а Игнат не тюха-матюха, давай лошадь за гужи тащить. Лошадь массой своей лёд ломает, метр за метром и ведь вытащил! Выпряг, гонял, пока пар не повалил. Так бы ша, застудил Шварца. Я бы так не смог… Завтра керосин обещались привезти, теперь не скоро привезут. А керосин надо! Что бы тебе бочку керосину вместо водки нагрузить… Хотя бочку бы Шпрее не утащить по такой дороге. Что и деется на белом свете: опять зима. И ветер шальной. Хоть бы бон у Ершова ручья не сорвало…
– А сорвёт? – спрашивает Толик.
Отец побил себя по шее ладонью.
– Всё понял?
– Намылят? – спрашивает Толик.
– Отрубят.
– Папка, а правда, что святой Лука в беде людям помогает? – спрашивает Оля.
– Не по печке заслонка: сказки. Тебе вперёд жить, ты комсомолка, забудь всех святых.
– А кто прошлым летом родник ниже пекарни расколупал и крестик из прутиков поставил? Вот и не знаешь. А я знаю: святой Лука приходил в ночь на Ивана Купалу, – говорит Толик.
У немногих в поселке есть радио на батареях. У Антоновых есть. Ксанфий Федорович не дозволяет Оле и Толе включать его с тех пор, как Толя расковырял одну батарею, желая вызнать, откуда идёт электрический ток. Ксанфий Федорович перед сном всегда слушает последние известия, потом говорит: «Ну, мужики, я устал и вы устали. Давайте-ка спать ложитесь, благословясь».
Велосипед директор Черноусов распорядился продать Игнату Листопаду.
– Иван Дмитрич, да на кой ему кляп? – пыталась оспорить решение директора продавец Галина Изосимовна. – Изломает, истопчет за неделю этот бугай, отдал бы Ване Егозе, ребят такая куча, вот бы радости было…
– Нельзя, Изосимовна, нельзя. Уже завтра начинаем сплав, опять на Игната вся надежда. Нужна моральная агитация, понимаешь?
– Понимать-то я понимаю, а всё-таки…
– Игнату!
Принёс Игнат велосипед из магазина, едва ли не вся ребятня с поселка собралась на смотрины, смотрят завистливыми глазами, как Игнат колеса насосом подкачивает, как сидение регулирует. Выкарабкалась из комнаты тяжело дышащая бабка Листопадиха, под вешний ветер лицо выставила. В добротной шубе, в валенках с галошами, на голове шаль с кистями. На поселке знают, что когда Листопадов раскулачивали, она в этой шали самовар прятала. Игнат из себя широкоплечий, сильный. Как суровый облик северной русской избы смягчают резные наличники по окнам, так широкая, открытая улыбка парня смягчает сердитое от природы лицо. На турнике «солнце» крутит. Одна щека глубоко вдавлена фиолетовым шрамом. На спор перебегал по плывущим бревнам реку, поскользнулся, ушёл с головой под бревна. Чудом выплыл. Ещё он смелый. Перепьют вербованные, за ножи схватятся, все бегут скорее к Игнату: растащи! Он нравится женщинам. В праздники пляшет так, что подошвы сапог отлетают. Девушки возле него до поту с круга не сходят, наперебой дробят да озорные частушки поют. Коронную Игната частушку «Я ворую лошадей, ты воруешь сани…» поют младенцы в зыбках.
– Кто у нас готов повторить подвиг Александра Матросова, а? – смеётся Игнат.
От крыльца кричит возмущенная бабка:
– Дай хоть дороге просохнуть! Куда ты в этакую грязь, есть у тебя сколько ума в голове-то или нет?
– Отсталый ты человек, бабуля. Как говорил один писатель, от ума только горе, – самоуверенно отвечает Игнат. – Ну, орда, так кто самый смелый?
Страшно. Только на картинках велосипед ребятишки видали, а сядь да упади, так засмеют, подклинивать станут: вытюкнулся?
Вышел вперёд всех парнишка Вани Егозы, десятилетний белокурый Венчик, дозволь, говорит, дядя Игнат, мне попробовать. Маленький, босой, озябший, рубашка на нём рваная, штанины закатаны.
– Не мерзнешь? – снисходительно спрашивает Игнат.
– Мерзну да одеть больше нечего, – доверительно отвечает Венчик.
– Не тужи, отец из города костюм привезёт.
– Тужи, не тужи, как мамка новая говорит, да мило взглядывай, – рассудительно говорит Венчик.
Посадил Игнат Венчика на велосипед, провёл до пекарни, обратно к бараку. Ребята шли сзади.
– А мне можно? – спрашивает Оля Антонова.
Игнат с загадочным выражением, молча гладит ладонью руль велосипеда, потом небрежно отвечает:
– Только если пойдёшь за меня замуж.
Оля прячется в стайку ребятишек.
– Ну вот, а я надежды питал… Эх, пацаны! Надоело мне холостому жить. Мать заела, бабка пилит, отец бранит. Как вы думаете, пойдёт за меня замуж ваша учительница?
Ребятишки переглядываются, топчутся: Игнат добрый парень, скалозуб… А если Екатерина Ивановна рассердится, даст от ворот поворот?
– Давно бы пора остепениться! – кричит от крыльца бабка. – У ровесников-то детки скоро за парты сядут!
– Решено: сплав кончаем, пиво закупаем и сватом идём. Но, пацаны, услуга за услугу: вы всячески должны хвалить меня вашей Екатерине Ивановне. Всячески! Помните: вежливость приятна, обольстительна и доставляет счастье окружающим. Дарю велосипед поселку! Старшим назначаю Олю Антонову. Если будете жадничать, драться, то велосипед забираю обратно! Все слышали?.. А заместителем Оли по политчасти назначаю Венчика.
– Отдаёшь что ли? – удивлённо спрашивает от крыльца бабка Игната.
– Бог дал, и Бог взял – отдаю, – с холодным достоинством отвечает внук.
– Эх, простота ты, простота. Ну да… – машет отрешенно рукой бабка. – Ужо!
Идёт сплав. На реке далеко слышны голоса. По берегам горят костры. Разлившаяся вширь труженица-река медленно несёт на своём горбу тысячи бревен. Вода уносит вдаль чувство зимней заброшенности, одиночества. С тяжелым ровным шорохом плывёт льдина, на льдине куча бревен. В какой-то момент льдина разламывается, бревна встают стоймя и плывут так, голосуя пространству, потом с грохотом опрокидываются через себя, дробя и топя обломки льдины.
Прилетел кулик из заморья, вывел деву-весну из затворья.
Сырость, слякоть.
От реки несёт холодом.
А в поселке у ребят праздник: в очередь катаются на велосипеде. В расчёт не принимается грязь, падения и ушибы, фонтаны грязной жижи, обсусленные кучи снега, главное – вперёд!
Венчик, сын Вани Егозы, сидит в отцовской фуфайке на березовом чурбаке, на ногах у него резиновые сапоги. Катающийся на велосипеде должен отдавать, пока катается, свою обувь ему, Венчику.
Чудинки
Восемьдесят лет как и не жито. От посевной до уборочной, от уборочной до посевной, одна страда подпирает другую. Вроде и время есть, а оглянуться некогда. Сегодня серебряная даль под метелью стонет, завтра полнотелая луна сватьей богатой над пашней проедет, а потом пашню дождь окропит, послезавтра… далеко, ой далеко это послезавтра!
Разъяснить доходчиво, что такое «колхоз» и с чем его жуют, нет никакой элементарной возможности. Много в объяснение вложить придётся архаичного и первобытного, это как читать все четыре евангелия одновременно, это как смотреть сентябрём на саженого воробья или сунуть горячую головню в муравейник. Один корреспондент районной газеты, должно быть захлебнувшийся ельцинской антисоветчиной, выдал статью про годы гнилого застоя, про засилье коммунистов, про окаянные замордованные колхозы и кончил тем, что коммунистов надо вешать, как рабов вешали в Риме. Ужас! Ржавый скрип! Ахинея! Полное отсутствие патриотизма! Бывало (до колхозов) отец спрашивал сына: «Чем пахнет хлебушек?» Хлопает глазёнками парнишка, а отец поднимет свою руку: «Ну-ка нюхни, чем он пахнет?» Или лет семи от роду посадить мальчишку на лошадь – давай, сынок, я пашу, а ты борони за мной, и в тридцать лет взрослый мужик помнил бы, какой он вкусный, хлеб.
Только прыгая с пятого на десятое да отбиваясь от провокационных вопросов жёлтой прессы, пристёгивая попутно слово «мать» можно, притом сильно выпрямляя извилины головного мозга, т. е. включая силу ума и воображения. Разговор у деревенского жителя гуще весенней землицы; сказать этак-то заковыристо да погодя добавить, с интересом глянуть на собеседника – тот слушает во все уши, и ответ пишется на внимающем лице, и ещё чуток посолить; печаль да немота – товарищи деревни, а крутую гору горя размывают смех, гармонь и слеза.
Греха большого не будет, если слову «колхоз» приделать дубоватое лицо. Или нет, лицом лучше наградить угрюмым и рябым, будто шилом исковырянным, уж такой разномастный покрой у этого коллективного хозяйства, будто отцы заживо расстались с детьми. Нынешнее поколение отбрыкивается, не хочет родню признавать за словом «колхоз». Вовсе не потому, что понимать и сердцем принимать не желает, ему, поколению умному и продвинутому, стыдно, видите ли, за прошлое своих предков. Дураков и в церкви бьют; бить надо, самолюбия меньше остаётся от битья.
Даём слово народу, народ правдой не погрешит. Как в сказках сказывается, растормошим деда-ведуна, пусть обозначит ориентиры, точки соприкосновения, а потом… вздохи, шорохи лет: чуди-или, брат, чуди-или.
– Ну-у, колхоз… Колодец! Истинно колодец! В колодец плевать нельзя, воды пивать. Скорее соборный колокол. На одном краю деревни баню затопили, на другом уж вымылись. Разве есть мерило, чтоб родину вычерпать? Нет его, и быть не должно. У того радость, у другого горе, у третьего под картошку загон копал да серебряный рубль нашёл, день за днём верёвка жизни свивается. Приходилось слышать, как здороваются утренние топоры? А-а, не приходилось! Петух горло продрал, и хоть день не светай, а топор… Ранней весной, когда всё живое от дремы отряхнулось, всякая травинка к солнцу потянулась, топор побудку кричит. Красна изба пирогами! Вот она, жизнь-то! Надежда! Тут с кондачка не бери, под разными углами в суть вникнуть надо. Пропойца Бориско Ельцин позором колхоз величать приказал. Не везёт нам на царей, позор и есть позор, – говорит дед, и усмешка плещется в его глазах. Думками разными налит ум. Раньше говорили, что думает богатый над деньгами, а крестьянские думки мчат его от посевной до уборочной, от одного председателя до другого… Как сквозь сон видится ему строй шагнувших в мир иной мужиков, рубленые срубы, песни слышатся, грохот конских телег, тугой свист зимней вьюги… – Всяко пожили, а больно худо при коммунистах не жили. Если по годам пройтись, по собраниям, по стройкам, мужиков разных лет послушать… мысль у меня рождается туго. Да-а, в испарину кинет, как прислушиваться сам к себе начинаешь, рук не хватает обхватить колхоз. С большого ли ума в газете выступал один продажный иуда, что коммунистов надо под дых бить? Вот времена пошли-и… – искорню вывернулся у деда вздох.
– Э-э, колхоз… закавыка, одним словом. Вот лапоть стань плести, лычко к лычку заплетаешь, рукой приглаживаешь, себя тешишь… Жили, тешили себя, что земля нам на веки вечные отдана, что народ молодой будет колхозную силу прибавлять, а тут как пошло, как поехало!..
– Дырявый мешок, вот что такое колхоз.
– Кто в колхоз с прелым хомутом входил, кто с большой ложкой, а прадед мой о шести коровах, о трех лошадях, пчелы, овцы…
– В нашей деревне раскулачили шесть хозяйств. Кто раскулачивал-то, кто? Пропойцы, вшивота, коммунисты долбанные!
– Не мешок, бесплатная кормушка для лодырей – вот что такое колхоз!
– У колхоза головы нет, голова в райкоме партии.
– А всё колхозное не наше, милая товарочка!
– Своё брюхо набить не могу, а колхозное разве набьёшь?
– Кабы не колхозы, немца не победить. Колхозы войну вытянули.
– Вытянуть-то вытянули, а сколько после войны с голоду ноги протянуло?
– Колхозу хозяин нужен. Крепкий, смышлёный, смелый. А так придёшь домой, топор али лопату кинул в угол, и гори он ярким пламенем, колхоз этот! Один ломит, другой в карты играет.
– Сообща и батька лупить можно, поодинке много не накурлыкаешь.
Утро на скотном дворе.
– Бабы, чей теленок в транспортере курбатается? Смотри ты, и жижей не захлебнулся, до ножа доживёт.
Полдень на скотном дворе.
– И не мычи, и душу не рви! Ишь, сволочь эта приезжая, как тяпкой по твоей хребтине съездила, ему бы, алкоголику, раз по харе заехать!
Ночь обмелела, звезды на небе по кулаку. На скотном дворе шумно вздыхают коровы. Сторожиха, пожилая одинокая женщина, сидит, нахохлившись, как старая ворона, на табурете. В ногах у неё электрический нагреватель. Под фуфайкой скребётся озноб.
– Леший меня привязал к этим коровам! Люди спят да храпят, я как сука бездомная!
– Жили рядом да носились врозь. Ты в канторе, в тепле, на ставке, а я на ветру; сыт ли, обут ли – рукой водителям трын-трава.
– Поглотал я пыли в этом колхозе!
– Подул я в когти на этих тракторах!
– Редко кого рублем наказали, одна говорильня.
– При колхозе всяк был заседлан под общественную нагрузку: кто в пожарной команде, кто член профкома, кто народный дружинник, член правления, член автомотовелофото, ревизор, лектор, другое дело, шевелились ли эти общественники?
– Сосед восемь тракторов измял по пьяни, девятый его самого запахал.
– Много техники шло, иные машины в ящиках в металлолом отправляли.
– Силосом да навозом так пропахла, что двадцать дней на курорте из ванны не вылезала. Нюхну подмышкой – пахну родным колхозом! Соседка врачиха через день кавалеров меняла, а ко мне на танцах ни один леший не подошёл. Может, выгляжу я не так, или что другое…
– Стану я на колхоз ж… рвать!
– Да чтоб он сгорел ярким пламенем, твой колхоз!
– С умственным трудом надо в хвост очереди вставать, к прилавку первые идут с трудом физическим!
– Колхоз не лаптями торгует!
Трое колхозников, Ваня, Вася и Федя, сидят в укромном месте (например, старый колхозный амбар), выпивают, луковицей занюхивают.
– Что, Ваня, не выдвинуть ли нам в бригадиры своего мужика?
Ваня:
– Давай Федю. Свой в доску, кулаки пудовые.
Федя отбрыкивается:
– Да вы что, ребята, какой из меня начальник? Образование – четыре класса, да сквозной коридор. Нет, нет и нет!
На собрании Ваня и Вася дружно кричат: «Фёдора давай!» Через неделю Ваня и Вася сидят за тем же амбаром. Печалятся. Ваня:
– Промахнулись мы с бригадиром, Васька.
Вася:
– Знали, что ума куриная щепоть… Голову выше ветру несёт…
Ваня:
– Надо Федьку под зад коленкой. Надо.
Вася:
– А если…
Ваня:
– Ну-у, ты это брось, без толстых намёков! Стану я лыском бегать по домам! Пускай я позаде да в колхозном стаде. А Федьку проучить пора. Всё гаду первому стакан наливаем, теперь будем наливать по остаточному принципу. Ишь, терапевт без диплома!
Пьяница сидит в вытрезвителе:
– Слышь, командир, выпускай, говорю! Я человек партийный, мне в поле пора.
– Эко дело, морду машине своротил, на Урале железа хватит!
– Умён больно! В угол плевать все мастера, ты садись за рычаги да подергай смену, другое запоёшь!
– Канторщина (такая-сякая, печная и мазаная)!
Шофер «выбивает норму». Как же, новую машину получил. Как языком «потопаешь», так и полопаешь. Надо договориться на берегу, прежде чем ехать за реку. На столе экономиста стопа нормативных справочников. Шофер справочники считает хламом, этот хлам сочиняли те, кто не знает, почем она, копеечка. Потом наши дороги или трасса «Москва – Киев»?
– Э-э (кряхтит в кулак), ты это… Я грузчиком не нанимался. Туда – оттуда… (кряхтит в кулак, сучит ногами, демонстрируя экономисту, что даже сидя на стуле он в постоянном напряжении)… В других колхозах… Часа через два экономист и шофер приходят к консенсусу: экономист едет грузчиком. Оказывается, он знает много анекдотов, будет вместо радио.
– Нероботь колхозная!
– В колхозе конского поту да бабьих слез хватает.
– Надо было колхозы распускать сразу после Брежнева. Ещё и народ был, и хлеб рос, и пили не так страшно… Жаль, в Москве тугодумы сидели. Они, конечно, и теперь сидят, травят нас заграничной химией…
– Не скажи, колхоз много ребят учил. В СПТУ, в техникумах, в институтах всем стипендию платил. Пусть маленькую, но платил. Нынче хрен ты парня в институте выучишь, он тебя с кишками проглотит, институт рассейский. Конечно, буратины своих за границу толкают, а у нищего колхозника в кармане вошь на аркане, колхозник и гнилой картошине рад.
– Колхозная вачина!
– Дай бог долгий век да собачий бег, да красные корочки!
– Чтоб в ад провалилась вся колхозная нероботь!
– Ты, зараза породистая, по институтам в платьях щеголяла, а меня под коров после пятого класса засопежили!
Месяц июль. Утро. Муж и жена сидят у окон, выглядывают, что на белом свете творится. В избе густая, придушенная тишина, лишь часы-ходики отмахивают дни до заветной пенсии. Спешит, что добрый иноходец, бригадир по улице, подневольных колхозников на работу посылает.
– Бежит, нечистый дух… Сломить бы тебе голова! Прямиком к Лизавете, Лизавета – угодница…Вроде к нам! Запирай ворота, будто что я ушёл косить!
– За батогом пенсию высидел!
– В колхозе помните, как парней в армию отправляли? Веселья море, всем миром за столами собирались. А свадьбы помните? Сейчас свадьбы втихую проводят, сначала девка брюхо наведёт, потом, вроде, белое платье ей подавай… Я за колхоз!
– В колхозе многие норовили ухватить ложку, не замечали сошку.
– Хорошо-то только при Брежневе и пожили! Мой хозяин мотоцикл с коляской на уборке выработал, стенку финскую завели, я в Германии по путёвке побывала. Нет, нет и нет! Хают колхоз одни нероботи!
– Мышей в складе тридцать лет гонял да на засеке спал!
– Всякое горе от вина. Сколько парней через вино головушки сложили… Дров привезли – за стол, в красный угол тракториста садим, пили, пока под стол не валились; огород десять минут пашем, пять часов вино жрём… Много мужиков в лесу пьянка искалечила; а помните, как за удобрением ездили? Собираются, собираются ехать весь день – до станции не близко, топлива в телегу бочку закатывают, возвращаются дня через два у кого кабина на боку, кого на чалке тянут…
Творец небесный! Ржа так не ест железо, как годами одна семья грызет другую! Зачем ты поделил колхозный люд на консервативную касту «ставочников» и касту революционных «трудяг»? Зачем было знать про роковые сроки и числа, зачем тревожить сон тех, что под крестами лежит? Бросить бы им вослед искалеченные по пьянке машины и перевернутые зерноуборочные комбайны, да, увы, проглотили металлолом доменные печи. Устыдить нечем, что разве памятью. Кто говорил, когда говорил да говорил ли вообще…
Стонут, качаются избы с незрячими окнами, тес едет с обветшалых крыш, где же рати твои, земля-кормилица? А нет их, растворились в вине, в реформах, в процессах, в партийных съездах, и голосов нет, и покоя нет, вот тишины да карканья ворон того предостаточно.
Умирает русская деревня.
* * *
Пили много. Страсть много!
Работали от снегу до снегу тоже много. Хотя большей частью вхолостую, нехотя, через силу. Без погоняла, по своей инициативе не работали, помнили, что кто вперёд забежал, тот и плеть схлопотал.
Собрания проводили часто. В зале не курили. Ораторов, уныло читающих шпаргалки ровно над покойником, обрывали:
– До ночи твои басни слушать будем?
Жили надеждами, ожиданиями: весна будет с водой, лето будет сухим, осень теплой, зима снежной. Не своевольничали. Год от года подозрительнее оглядывались сосед на соседа: чего это ты начал жить на волосину выше черты бедности?
От хорошей жизни девки рано созревали. У девок не стыли нецелованные груди, девки вовремя выходили замуж или улепётывали в город. Матери на дочерей наступали: «Я всю жизнь в навозе да около чугунов, и ты эдак жить хошь?» «Не хочу». «Так учись, не стань освистанной!»
У баб сон был крепкий, не мутен. Бабы рожали дома, цивильно рожать в районной больнице стали при Брежневе.
От Кремля шли бесконечные обещания.
Государственная Дума каждый день принимала десятки указов.
Реформаторы катили за рубеж скупать средневековые замки.
Колыхались над деревнями и городишками тени погубленных миллионов, они возникали как из глубокой, залепленной снегом ночи, текли через людские толпы, где-то в пути митинговали, сминали вековой уклад, попадали в неверный свет людских костров и вновь заглатывались печной тьмой; колхоз, эта Россия в миниатюре, жил, тужился, силился что-то понять и не мог.
* * *
Наглый занозистый колхозник по табелю о рангах – «рядовой», по реестру – «отставной козы барабанщик», по профессиональному навыку – «бери больше, кидай дальше», «собачит» бригадира. Со стороны смотреть – с живого бы шкуру содрал, дай ему волю. Гражданская война будто и не кончалась: пришли продотрядовцы, вывели мужика во двор, наган к виску приставили – давай хлеб! Дикого ничего нет, обыденная практика – «поесть начальство». Вроде развлечения. В городе бы можно в театр сходит, спектакль посмотреть, а в деревне самобытность в крови. Рядовой колхозник считает себя «пупом земли», а «ставочника» – пустота, дармоед, лодырь. Так пожирает снопы молотилка, как уёмисто идёт на приступ мужик. «Ты на работу меня посылал? Посылал. Я ведь не перечил? Не перечил. Я за тебя голос подавал на собрании, должен бы помнить. А ты где был? В больнице, якобы, гостил. У тебя гастрит, бронхит и понос. А у меня, значится, спина под мешки скроена, руки батько приделал вилы да лопату держать, брюхо долото переварит. У тебя ставка идёт? Идёт. А мне копеечку горбом заработать надо. Кто мне копеечку выведет кроме тебя, вундеркинда нашего? Гвоздь я заколотил или два загнул, ты мне восемь часов поставь. Поставь, обязан поставить. Завтра сам поди да колоти. Понял? На днях ты посылал меня соль дояркам долбить. Какое твоё дело, кормилец ты наш, я горячую воду в ящик с солью лил или кувалдой бил? Восемь бадей – так и доярок восемь…»
* * *
Бригада лесозаготовителей выезжает на заготовку древесины. Жить мужики будут в лесу дней десять. Механик выдаёт две новые пилы «Дружба», горсть цепей, тяговый трос в жирной смазке, с гордостью подаёт 10 новеньких чокеров. «Береги, – наказывает трактористу (он же старший по команде), – инженер за эти чокера в лесопункт свёз ящик водки». «Угу», – гудит тракторист. Закупили в магазине провизию, набили сумки салом, получили в конторе аванс. Готовятся основательно. Делянка за тридцать километров. И, само собой, закупается водка. Её, как известно, никогда много не бывает.
Тронулись.
Путь лежит через сельскую библиотеку и магазин в соседнем колхозе.
В библиотеке старший по команде берёт том Джека Лондона.
Приехали в лес, темно, хоть в глаз коли. Затопили печь в избушке, выпили водочки «для сугреву». «Пошли валить», – говорит старший. Мужики категорически против. Какая валка, друг дружку без огня не видят. «Значит, валить не будем?» «Не будем. Долго ли вершиной по черепушке схлопотать?» Тогда старший решительно идёт один, заводит двигатель, громыхает в делянку. Мужики качают головами: «Какой дурак, какой дуросвет… По те годы мудрил, мудрил, и в этом…» Тракторист накидывает чокер на толстенную ель, тянет лебёдкой… Дзинь – два обрывка вместо чокера. Изорвал все десять чокеров, приехал к избушке. «А теперь домой поехали. Чем трелевать будем, ремнями брючными?» Мужики против. Да дома бабы их с потрохами съедят! Тогда тракторист в куче всякого добра находит книгу Джека Лондона, толкает её за рубаху, в кабину и… раздирает тьму два колыхающихся огня.
Мужики бросают жребий: кому догонять трактор?
* * *
Бригадир с малолетней дочерью копают картошку. Дочка показывает пальчиком на соседский огород: «Папка, сосед межой крадётся». «Пускай ему». «Мамка говорит, он очень хитрый. Куда он пошёл?» «По ягоды. Видишь, веревочка белеет? Он пестерь к ноге привязал, будто что сном дела не знает, и крадётся вором». «По ягоды ходить нельзя?» «Почему нельзя, иди, коль желание есть да здоровья хватает. Сосед при жизни умер. Живёт такой тенью, чтоб никто его не видел, никто про него слова худого не брякнул». «Хи-и-итрый».
* * *
Поздняя осень 2012 года. Старый учитель идёт из магазина с буханкой хлеба. У хлипкого мостика буксует груженый лесом КАМАЗ. Учитель манит шофера, мол, перекури. Шофер усат, багров, телом ядрён. По груди до горла кучерявится шерсть. Рубаха в сплошных долларах. Доллары пачками, вилла из долларов, яхта на море под долларовыми парусами. Учитель: «Размесили вы, ребята, нам все дороги. Ведь обвалите мостик, а строить кто будет?» «Наше дело, отец, телячье. Придёт второй лесовоз, меня выдерёт». «А как не выдерёт?» «Третьим выдерём!» – зло отвечает шофер. «Крепка советская власть! Весь колхоз разворовали, по болту, по кирпичу растащили, один лес остался. Лес вывалите, что рвать будете?» «Не трави душу, правдоискатель!»
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.