Текст книги "Три певца своей жизни. Казанова, Стендаль, Толстой"
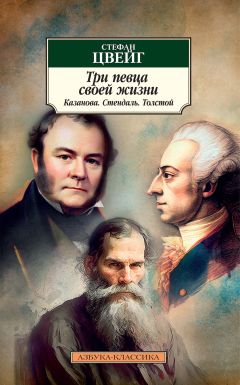
Автор книги: Стефан Цвейг
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Чудесные годы, всецело отданные музыке, женщинам, разговорам, творчеству, искусству! Годы, проведенные с возлюбленными, правда, с такими, которые позорно обманывают, как чрезмерно щедрая Анджела, или отвергают из целомудрия, как прекрасная Матильда. И все-таки годы, в которые все больше и больше чувствуешь и познаешь свое «я», каждый вечер заново омываешь душу музыкой в Скала, наслаждаешься порой беседой с благороднейшим поэтом современности, господином Байроном, и вбираешь в себя все красоты страны, все богатства художественного творчества на пространстве от Неаполя до Равенны. Никому не подчинен, никого поперек дороги, сам себе господин и в недалеком будущем – мастер! Несравненные годы свободы! «Evviva la Libertà!»[53]53
Да здравствует свобода! (фр.)
[Закрыть]
1821 год. Париж. Evviva la Libertà? Нет, невыгодно теперь толковать о свободе в Италии, австрийские власти сильно морщатся при этом слове. Не следует также писать книг, ибо если даже они представляют чистейший плагиат, как «Письма о Гайдне», или на три четверти списаны с других авторов, как «История итальянской живописи» или «Рим, Флоренция и Неаполь», то все-таки, сам того не замечая, рассыплешь кое-где между страниц некоторое количество перца и соли, а это щекочет нос австрийским властям; и тогда строгий цензор Вабрушек (лучше имени не придумать, но, Бог свидетель, так его и зовут!) не замедлит поставить в известность министра полиции Седлницкого о «бесчисленных предосудительных местах». В результате человеку свободомыслящему и свободно выбирающему себе место жительства угрожает опасность быть принятым австрийцами за карбонария, а итальянцами – за шпиона, а потому лучше, поступившись еще одной иллюзией, показать пятки. И потом, для свободы еще кое-что нужно, а именно деньги, а этот ублюдок-отец (Бейль редко именует его более вежливо) доказал теперь с полной ясностью, какой он был, при всей своей скупости и трудолюбии, круглый дурак – не сумел даже оставить небольшой ренты своему отщепенцу-сыну. В Гренобле задохнешься от скуки, а приятным прогулкам в тылу армии пришел конец, с тех пор как грушевидные головы Бурбонов жирно и лениво отпечатались на монетах. Итак, назад в Париж, в мансарду. То, что было до сих пор только удовольствием и любительством, станет отныне работой: писать книги, книги, книги.
1828 год. Салон мадам де Траси, супруги философа.
Полночь. Свечи почти догорели. Мужчины играют в вист, мадам де Траси, пожилая дама, болтает, сидя на софе, с гостьей-маркизой и с одной из подруг. Но она слушает рассеянно, все время беспокойно настораживаясь. Сзади, из другой комнаты, где камин, доносится подозрительный шум, пронзительный женский смех, сопровождаемый приглушенным мужским басом, потом вновь возмущенные выкрики «Mais non, c’est trop!»[54]54
Нет, это слишком! (фр.)
[Закрыть] – и вновь этот внезапный, быстро подавляемый, странный смех. Мадам де Траси нервничает: конечно, это несносный Бейль опять угощает дам пикантными разговорами. Умный и тонкий человек, оригинальный, занимательный; но близость с актрисами, и в частности с этой итальянкой, мадам Паста, повлияла на его манеры. Она просит извинения и спешит в другую комнату навести порядок. В самом деле, он здесь: стоит со стаканом пунша в руке, подавшись в тень камина с явной целью скрыть свою тучность, и сыплет анекдотами, от которых покраснеет мушкетер. Дамы готовы обратиться в бегство, они смеются и протестуют, но, захваченные талантом рассказчика, не в силах сдержать любопытство и волнение, все-таки остаются. Он подобен Силену, раскрасневшийся и тучный, с искрящимися глазами, отражающими благодушие и мудрость; увидев мадам де Траси, он под ее строгим взором разом обрывает речь, и дамы, пользуясь удобным случаем, со смехом покидают комнату.
Вскоре огни гаснут; лакеи с подсвечниками в руках провожают гостей вниз по лестнице; у подъезда ждут три-четыре экипажа, дамы садятся со своими спутниками; Бейль, мрачный, остается один. Ни одна не берет его с собой, ни одна не приглашает его. Как рассказчик анекдотов он еще хорош, в остальном не представляет для женщин никакого интереса. Графиня Кюриаль дала ему отставку, а на танцовщицу не хватает денег. Понемногу старишься. Угрюмо шагает он под ноябрьским дождем к своему дому на улице Ришелье; не беда, если костюм запачкается, портному все равно не заплачено. Вообще, вздыхает он, лучшее в жизни позади, нужно бы, собственно говоря, положить конец. Он взбирается сердито на верхний этаж (одышка при его короткой шее уже дает себя знать), зажигает свечу, роется в бумагах и счетах. Печальный баланс! Состояние прожито, книги не приносят никакого дохода; в течение нескольких лет его «Amour» разошелся ровным счетом в числе двадцати семи экземпляров. «Можно сказать, священная книга: никто не решается до нее дотронуться», – цинично пошутил вчера издатель. Остаются пять франков ренты в день, – может быть, и много для хорошенького мальчика, но убийственно мало для пожилого, тучного мужчины, любящего свободу и женщин. Лучше бы всего положить конец. Анри Бейль берет чистый лист бумаги большого формата и четвертый раз в этом меланхолическом месяце ноябре пишет завещание: «Я, нижеподписавшийся, завещаю своему двоюродному брату Ромэну Коломбу все, что мне принадлежит в моей квартире, улица Ришелье, 71. Прошу отвезти меня прямо на кладбище. Погребение не должно стоить дороже тридцати франков». И приписка: «Прошу прощения у Ромэна Коломба за причиняемые ему хлопоты; также прошу не скорбеть по поводу неизбежного конца».
«По поводу неизбежного конца» – друзья поймут эту осторожную фразу завтра, когда их призовут и окажется, что пуля из армейского револьвера перекочевала в его черепную коробку. Но, по счастью, Анри Бейль устал сегодня, он откладывает самоубийство до следующего вечера; а утром приходят друзья и поднимают его настроение. Разгуливая по комнате, один из них видит на письменном столе белый лист с заголовком «Жюльен». «Что это?» – спрашивает он с любопытством. «Ах, я хотел начать роман», – поясняет Стендаль. Друзья воодушевляются, подбадривают меланхолика, и он в самом деле начинает роман. Заглавие «Жюльен» зачеркивается и заменяется другим, снискавшим впоследствии бессмертие: «Красное и черное». И действительно, с Анри Бейлем с этого дня покончено: возник другой, на вечные времена, и имя ему Стендаль.
1831 год. Чивитта-Веккия. Новое превращение.
Канонерские лодки салютуют, приветственно развеваются флаги, – тучный господин в величественной форме французского дипломата сходит с парохода на пристань. Всяческое почтение! Этот господин, в расшитом жилете и панталонах с позументами, – французский консул, Анри Бейль. Переворот снова выручил его: когда-то – война, а теперь – Июльская революция. Либерализм и неуклонная оппозиция глупым Бурбонам принесли пользу: благодаря усердной женской поддержке он сразу же назначен консулом на любимом юге; собственно говоря, в Триест, но, к несчастью, господин фон Меттерних признал пребывание там автора вредных книг нежелательным и отказал в визе. Приходится, таким образом, представлять Францию в Чивитта-Веккии, что менее приятно; но все-таки это Италия, и годовой оклад жалованья – пятнадцать тысяч франков.
Стыдно, может быть, сразу же не указать на карте, где находится Чивитта-Веккия? Отнюдь не стыдно: из всех итальянских городов это самое унылое гнездо, раскаленный добела котел, где вскипает под африканским солнцем африканская лихорадка, узкая, забитая песком гавань времен древнеримских парусных судов, выпотрошенный город, мрачный, скучный и пустынный: «с тоски подохнешь». Больше всего нравится Анри Бейлю в этом ссыльном пункте почтовая дорога в Рим, потому что длина ее – всего семнадцать миль, и господин Бейль сразу же решает пользоваться ею чаще, чем своими консульскими прерогативами. Ему, собственно, следует работать, сочинять донесения, заниматься дипломатией, пребывать на своем посту, но ведь эти ослы из министерства иностранных дел все равно не читают его отчетов. К чему же тратить духовную энергию на чиновников, – лучше свалить все дела на своего подчиненного, пройдоху Лизимаха Кафтанглиу Тавернье, злобную бестию, которая его ненавидит и которой придется выхлопотать орден Почетного легиона, чтобы негодяй не драл глотку по поводу его частых отлучек. Ибо и здесь Анри Бейль предпочитает относиться к своей службе не слишком серьезно: обманывать государство, которое загоняет своих писателей в такое болото, – это, по его мнению, долг чести для всякого уважающего себя эгоиста; не лучше ли осматривать римские галереи в обществе умных людей и под всякими предлогами мчаться в Париж, чем увядать здесь медленно и верно? Разве мыслимо ходить все к одному и тому же антиквару, к синьору Буччи, и беседовать все с теми же полудворянами? Нет, уж лучше беседовать с самим собой. Разыскать в старых библиотеках и купить несколько томов хроник и лучшее использовать для новелл; в пятьдесят лет рассказывать самому себе, как ты юн душой. Да, это самое лучшее – заглянуть внутрь самого себя, чтобы забыть о времени. И таким далеким кажется солидному, тучному консулу изображаемый им робкий мальчик из далекого прошлого, что, сидя за письменным столом, он помышляет об «открытиях относительно другого». Так пишет господин Бейль, alias[55]55
Иначе (фр.).
[Закрыть] Стендаль, о своей юности, зашифровав ее, чтобы никто не догадался, кто этот А. Б., этот Анри Брюлар; и в радужно обманной игре самоомоложения забывает сам о себе, всеми забытом.
1836–1839 годы. Париж.
Поразительно! Еще раз воскресение, еще раз возврат к свету. Благословение Божье женщинам, все доброе от них! – они так неутомимо льстили великолепному графу де Моле, ставшему министром, что он соизволил наконец закрыть глаза на то противное интересам государства обстоятельство, что г-н Анри Бейль, являющийся, собственно говоря, консулом в Чивитта-Веккии, растянул, нагло и ни слова не говоря, свой трехнедельный отпуск до трехлетнего и не думает возвращаться на свой пост. Да, три года консул, вместо своего болота, сидит в Париже, предоставив орудовать на юге мошеннику-греку, и получает здесь полное содержание; у него свободное время и хорошее настроение, он может посещать общество и еще раз, теперь уже очень робко, искать любовного знакомства.
Он может делать что угодно и, главное, то, что представляется ему лучшим в жизни: ходить взад и вперед по комнате отеля и диктовать роман «Пармская обитель». Ибо при крупном окладе и не служа можно равнодушно относиться к глупым издателям, выплачивающим таким пустым болтунам, как господин Шатобриан, сотни тысяч и торгующимся с ним из-за лишнего франка. Можно позволить себе роскошь идти против течения, писать без приторной сладости и без цветочных ароматов, потому что ты свободен. А для Анри Бейля нет иного неба над землей, как свобода.
Но небо это внезапно обрушивается. Славный и снисходительный министр, граф де Моле, его покровитель – пора бы воздвигнуть ему памятник! – смещен, и в министерстве иностранных дел появляется новый властитель, маршал-солдат Сульт. Он ничего не знает о Стендале и видит в списках только консула Анри Бейля, которому платят за представительство в Папской области и который взамен этого три года благодушествует в парижских театрах. Генерал сначала изумляется, потом обрушивает свой гнев на ленивца, жуирующего вместо того, чтобы корпеть над актами. Следует строгий приказ выехать без промедления. Анри Бейль, брюзжа, облачается в мундир и совлекает с себя писателя Стендаля; усталый и недовольный, он в пятьдесят четыре года, под палящим летним солнцем, снова должен отправиться в изгнание; и он чувствует – в последний раз!
22 марта 1841 года. Париж.
Крупный, тяжеловесный мужчина с трудом тащится по излюбленному своему бульвару. Но где то блаженное время, когда он любовался здесь женщинами, кокетливо, как денди, размахивая изящной тростью? Теперь, при каждом шаге, дрожащая его рука опирается на твердую палку. Как постарел он, Стендаль, за последний год! Когда-то блестящие глаза блекло глядят из-под тяжелых синеватых век, нервный тик сводит губы. Несколько месяцев назад его впервые поразил удар, страшное напоминание о первом любовном даре, давно когда-то полученном в Милане: ему пустили кровь, мучили мазями и микстурами, и, наконец, министерство согласилось на отъезд его из Чивитта-Веккии. Но что значат Париж, восторженная статья Бальзака о «Пармской обители» и первые, робкие ростки славы для человека, которого «однажды уже коснулось ничто», к которому простерла свои костлявые пальцы смерть?.. Устало тянется печальная человеческая тень к своему жилищу, едва взирая на быстрые, блестящие экипажи, на праздно болтающих пешеходов, на кокоток, шуршащих шелком, – медленно продвигающееся черное пятно грусти на блестящем световом экране переполненной по-вечернему улицы.
Внезапно собирается толпа, теснятся любопытные: толстый господин свалился навзничь у самой Биржи и лежит, с выпученными глазами и с синим лицом, – его сразил второй, смертельный удар. Слабый хрип вырывается у него из горла, в то время как шею его освобождают от тесного воротника; его относят в аптеку, а потом наверх, в маленькую комнату отеля, заваленную бумагами, заметками, начатыми трудами и тетрадями дневников. И в одной из них находят внушенные странным прозрением слова: «Не вижу ничего смешного в том, чтобы умереть на улице, если только это не преднамеренно».
1842 год. Ящик.
Громадный деревянный ящик, подпрыгивая, продвигается малой скоростью из Чивитта-Веккии, через всю Италию, во Францию. Его везут к Роману Коломбу, двоюродному брату Стендаля и душеприказчику, который из чувства долга (ибо кто еще вспомнит о покойнике, удостоенном газетами некролога в шесть строчек) думает издать полное собрание сочинений этого чудака. Он велит вскрыть ящик; Боже, что за изобилие бумаги, испещренной притом шифрами и условными знаками, какой скучный писательский хлам! Он выуживает две-три наиболее подходящих, разборчивых рукописи и снимает с них копии; потом и этот преданный человек устает. На романе «Люсьен Левен» он делает скорбную пометку – «Не годится»; а также и автобиография «Анри Брюлар» откладывается в сторону как неподходящая; и это на десятилетия. Что же делать теперь со всем этим «fatras»[56]56
«Хламом» (фр.).
[Закрыть], с никому не нужной грудой бумаги? Коломб снова укладывает все в ящик и посылает к Крозе, другу юности Стендаля, а Крозе переправляет ящик в гренобльскую библиотеку, на вечное упокоение. Там, согласно исконному библиотечному обычаю, к каждой из отдельных рукописей приклеиваются нумерованные ярлыки, штемпелюются и вносятся в реестр: Requiescant in pace![57]57
Да почиют в мире! (фр.)
[Закрыть]
Шестьдесят томов in folio, труд всей жизни Стендаля и запечатленная им самим жизнь, стоят, схороненные по уставу, в обширной книжной усыпальнице и могут без помехи превращаться в пыль. Ибо в течение сорока лет никому не приходит в голову пачкать пальцы плесенью уснувших фолиантов.
Ноябрь 1888 года. Париж.
Население прибывает, город неудержимо ширится. В Париже восемь миллионов человеческих ног, которые не желают ходить пешком; и Общество парижских омнибусов задумывает новую линию на Монмартр. На пути встречается досадное препятствие, Монмартрское кладбище; что же, техника справится с этим препятствием, можно соорудить над мертвыми мост для живых. Правда, при этом нельзя не потревожить несколько могил; и вот, в четвертом ряду, под номером одиннадцатым, находят забытую, запущенную могилу с забавной надписью: «Arrigio Beyle, Milanese, visse, scrisse, amò»[58]58
Арриджио Бейле, из Милана. Жил, писал, любил (ит.).
[Закрыть].
Итальянец на этом кладбище? Странная надпись, странный покойник! Случайно кто-то из мимо идущих вспоминает, что был когда-то французский писатель Анри Бейль, изъявивший желание быть похороненным в таком чуждом обличье. Наскоро организуют комитет и собирают некоторую сумму, чтобы приобрести новую мраморную доску для старой надписи. И вот заглохшее имя снова зазвучало внезапно над истлевшим телом, в тысяча восемьсот восемьдесят восьмом году, после сорока шести лет забвения.
И странный случай: в том самом году, когда вспоминают о его могиле и вновь извлекают тело из недр земли, молодой польский преподаватель языков, Станислав Стриенский, заброшенный в Гренобль и отчаянно скучающий там, роется как-то в библиотеке и, увидев в углу старые, запыленные рукописные фолианты, начинает их читать и расшифровывать. Чем больше он читает, тем интереснее становится материал; он ищет и находит издателя; появляются на свет дневник, автобиография «Анри Брюлар» и «Люсьен Левен», а вместе с ними, впервые, и подлинный Стендаль. Его истинные современники восторженно узнают в нем брата по душе, ибо он трудился не для своей эпохи, а для грядущего, следующего поколения. «Я стану знаменит около 1880», – часто встречается в его книгах, в то время незначащие слова, обращенные в пустоту, ныне потрясающая действительность. В то самое время, когда прах его извлекается из глубины земли, восстает из мрака минувшего и труд его жизни; с точностью почти до года предсказал свое воскресение тот, кто внушал вообще так мало доверия, – поэт всегда и в каждой своей строке, а в этих строках еще и пророк.
«Я» и вселенная
Он не мог нравиться, в нем не было цельности.
Творческая раздвоенность является в Анри Бейле прирожденной; уже родители его представляют собой две разнородные, мало подходящие друг другу личности. Шерюбэн-Бейль – при этом имени отнюдь не следует вспоминать Моцарта! – отец, или bâtard[59]59
Бастард (фр.).
[Закрыть], как именует его злобно Анри, его ожесточенный сын и враг, являет собой законченный тип крепкого, коренастого, житейски умного, окаменевшего в денежных расчетах провинциального буржуа, каким пригвоздили его Флобер и Бальзак гневной своей рукой к позорному столбу литературы. От него Анри Бейль унаследовал не только физическое строение – массивность и тучность, но и эгоистическую одержимость плоти и духа. Иное дело его мать, Анриетта Ганьон, женщина южнороманского происхождения и с точки зрения психологии чисто романский тип. Натура южная, порывисто чувствительная, тонко музыкальная, она могла бы представлять собой персонаж ламартиновского творчества или сентиментализма Жан-Жака Руссо. Ей, рано умершей, обязан Анри Бейль своей страстностью в любви, неистовостью чувства, болезненной и почти женской нервной восприимчивостью. Непрерывно толкаемый в противоположные стороны этими двумя разнородными струями в своей крови, Анри, порождение глубоко различных характеров, всю жизнь колеблется между материнским и отцовским наследством, между романтикой и реализмом; будущему писателю навсегда суждено сохранить двойственность и расколотость мироощущения.
Как тип резко реагирующий, маленький Анри определился очень рано: он любит мать (любит даже, как он сам признается, с подозрительной страстностью преждевременно созревшего чувства) и ненавидит отца, «father’a», ревниво и презрительно, испански холодной, цинически мрачной, пытливо инквизиторской ненавистью; едва ли найдется для психоанализа более совершенный «эдипов комплекс», чем тот, что запечатлен на первых страницах стендалевской автобиографии «Анри Брюлар». Но эта преждевременная напряженность чувства внезапно обрывается: мать умирает, когда Анри минуло семь лет; а на отца своего мальчик склонен смотреть как на умершего с того момента, как покидает в шестнадцатилетнем возрасте, в почтовом дилижансе Гренобль; с этого дня он считает его умерщвленным и схороненным своим молчаливым презрением, своей ненавистью. Но и засыпанный щелочью, залитый известковой жидкостью пренебрежения, его жилистый, расчетливый, деловитый буржуа-отец Бейль пятьдесят лет еще продолжает жить под телесной оболочкой Анри Бейля и повелевать его кровью; пятьдесят лет борются в нем праотцы двух враждующих душевных рас, Бейли и Ганьоны, дух деловитости и дух романтизма, и ни тот ни другой не могут взять верх. В эту вот минуту Стендаль – истинный сын своей матери; но в следующую, а часто и в ту же самую он уже сын своего отца; то он робко застенчив, то иронически тверд, то романтически мечтателен, то настороженно деловит, то музыкально меланхоличен, то логически неуязвим; даже в неуловимый промежуток между двумя секундами жар и холод вступают в нем в яростное противоборство, бурлят и подавляют друг друга в непрестанном приливе и отливе. Чувство берет верх над рассудком, интеллект ставит препоны восприятию. Нет момента, чтобы это дитя противоречий принадлежало одной какой-нибудь сфере; в извечной войне ума и чувства редко имели место битвы более величественные, чем та грандиозная психологическая борьба, которую мы именуем Стендалем.
Следует оговорить сразу же: борьба не решающая, не насмерть. Стендаль не побежден, не растерзан своими противоречиями; от рокового исхода эта эпикурейская натура защищена своеобразным моральным равнодушием, холодным, настороженным любопытством. В продолжение всей жизни этот бдительный дух умеет уклоняться от разрушительных, демонических сил, ибо первое правило его мудрости – самосохранение; и подобно тому как на войне настоящей, наполеоновской, он всегда находил возможность оставаться в тылу, вдали от перестрелки, так и в битве душевной Стендаль охотнее держится спокойной позиции наблюдателя, чем передовых позиций, где борьба идет не на жизнь, а на смерть.
В нем нет вовсе духа последнего, морального самоотречения, свойственного Паскалю, Ницше, Клейсту, которые каждый свой душевный конфликт доводят до решающего конца; он, Стендаль, довольствуется тем, что, переживая чувственный конфликт, страхует себя духовно, созерцая этот конфликт как эстетическое зрелище. Поэтому в существе своем он не потрясается противоречиями; он даже к своей раздвоенности не питает ненависти, даже любит ее. Он любит свой алмазно-твердый, точный ум, как нечто очень ценное, потому что он дает ему понимание мира и в разгаре чувственных смятений ставит им точные и безусловные пределы.
Но с другой стороны, Стендаль любит и чрезмерность своего чувства, свою сверхвпечатлительность, потому что она отрешает его от тупых и пошлых будней, потому что эти внезапные эмоции, подобно музыке, высвобождают душу из тесной темницы тела и уводят ее в бесконечное. Точно так же ведомы ему и опасности этих двух жизненных полюсов: свойственная интеллекту способность сообщать трезвость и холодность самым высоким мгновениям – и присущее чувству стремление увлекать слишком далеко в расплывчатость и недостоверность и тем самым губить ясность, являющуюся для него условием жизни. И он охотнее всего придал бы каждому из этих душевных складов черты другого; неустанно пытается Стендаль сообщить интеллектуальную ясность своему чувству и внести страстность в свой интеллект, до конца жизни соединяя под одной напряженной и восприимчивой оболочкой романтического интеллектуалиста и интеллектуального романтика.
Таким образом, каждая формула Стендаля содержит две переменные, никогда не сводясь к одной из них; только в такой двойственности мировосприятия проявляет он себя до конца. Достижения его интеллекта, взятого отдельно, оказались бы невысоки, как и лирическое напряжение его чувства; его наиболее сильные моменты вытекают именно из воздействия и взаимодействия его природных противоречий. «Lorsq’il n’avait pas d’émotion, il était sans esprit», – говорит он себе, то есть: он не может правильно мыслить, не получив чувственного возбуждения; но вместе с тем он не может и чувствовать, без того чтобы не проверить тотчас же биение своего собственного сердца. Он обожествляет грезы, как ценнейшее условие своего жизненного чувства, и не может вместе с тем жить без противоядия их, без бдительной настороженности. Ему дорог в себе, таким образом, и острый интеллектуалист, и не знающий меры романтик, и прежде всего дорого ему вибрирующее, до истоков нервов доходящее взаимодействие этих противоречий. Подобно тому как Гёте признается однажды, что понятие, именуемое в просторечии наслаждением, «заключено для него где-то между чувственностью и разумом», так и Стендаль только благодаря огненному смешению духа и крови воспринимает всю красоту мира. Он знает, что только от постоянного трения друг о друга его контрастов возникает то душевное электричество, то пощипывание и те искры в нервных клетках, та напряженная, покалывающая, потрескивающая жизненность, которую мы и сейчас чувствуем, взяв в руки любую книгу, любую страницу Стендаля; только благодаря этому межполюсному жизненному потоку вызывает он в себе творческую светоизлучающую силу, и его никогда не слабеющий инстинкт самовозвышения страстно поддерживает необходимое высокое напряжение. В ряду своих бесчисленных и выдающихся наблюдений в области психологии он высказывает однажды замечательное: подобно тому как мускулы нашего тела нуждаются в постоянной гимнастике, чтобы не ослабнуть, так должны быть непрестанно упражняемы, развиваемы и заново образуемы и психические силы; этот труд самосовершенствования Стендаль выполнял более упорно и последовательно, чем кто-либо. Он холит и лелеет обе стороны своего существа для познания жизни с такой же любовью, как артист свой инструмент, как солдат свое оружие; неукоснительно тренирует он свое «я». Чтобы поддержать высокое напряжение чувства, он ежевечерне подогревает свою экспансивность оперной музыкой и, будучи уже пожилым, намеренно ищет для самовозбуждения новой влюбленности. Заметив признаки ослабления памяти, он, для укрепления ее, проделывает специальные упражнения; как бритву по утрам, оттачивает он на ремне самонаблюдения свою способность правильного восприятия. При помощи книг и бесед он старается обеспечить себе ежедневный подвоз новых идей; он нагружается, возбуждается, напрягается и самоограничивается в целях все более и более тонкой настроенности; неутомимо точит он свой ум, облагораживает чувство.
Благодаря такой мудрой и изощренной технике самосовершенствования Стендаль как интеллектуально, так и эмоционально достигает совершенно необычной степени душевной утонченности. Нужно обратиться к исчисляемой десятилетиями давности в мировой литературе, чтобы найти писателя с такой тонкой восприимчивостью и одновременно с таким острым умом, столь обнаженную, нервно организованную чувствительность наряду с холодным и чистым, как лед, интеллектом. Правда, такая душевная организация не достается безнаказанно; тонкость всегда означает легкую уязвимость, и то, что для искусства является благом, почти всегда обращается для художника в бедствие.
Как страждет эта сверхорганизованная натура, Стендаль, среди окружающего мира, как угрюм он, как чужд своей слезливой патетической эпохе! Столь интеллектуальное чувство такта должно оскорбляться каждым проявлением духовной ограниченности, такую романтическую душу кошмаром гнетут толстокожесть и моральная тупость среды. Как принцесса в сказке чувствует горошину под сотней перин и одеял, так и Стендаль болезненно воспринимает каждое неискреннее слово, каждый обманный жест. Всякая лжеромантика, всякое грубое преувеличение и трусливое замалчивание действуют на его изощренный инстинкт, как холодная вода на больной зуб. Ибо свойственное ему чувство искренности и естественности, его духовная мудрость страдают как от избытка, так и от недостатка чужой восприимчивости, как от пошлости, так и от напыщенности. Одна фраза, переслащенная чувством или вспучившаяся на дрожжах патетики, может испортить ему всю книгу, одно неудачное движение отравит всякое любовное приключение.
Случилось однажды в волнении наблюдать одну из наполеоновских битв: нагромождение смертей, грохот орудий, нечаянная игра заката на фоне багровых туч – все это действует на его артистическую душу неотразимо-пьяняще. Он стоит, содрогаясь от участливого волнения. И тут, по несчастью, одного из генералов осеняет мысль отметить это потрясающее зрелище каким-нибудь значительным словом. «Битва гигантов!» – говорит он, довольный, своему соседу, и это неуклюже-патетическое определение разом отнимает у Стендаля всякую возможность дальнейшего восприятия. Он торопливо уходит, огорченный, разочарованный, ограбленный, проклиная остолопа-генерала; и всякий раз, как его непомерно чувствительное нёбо приметит малейший привкус фразы или лжи в изъяснении чужого чувства, его собственное чувство такта возмущается.
Неясное мышление, многословие, всякое афиширование и выпячивание вызывают у этого гения чувствительности эстетическую тошноту; искусство современников доставляет ему мало удовольствия только потому, что оно принимает чересчур уж слащаво-романтические (Шатобриан) или псевдогероические (Виктор Гюго) позы; по той же причине не выносит он большинства людей. Но эта экзальтированная сверхчувствительность оборачивается в той же степени и против него самого. Всякий раз, когда он поймает себя на малейшем уклонении от нормы, на ненужном crescendo, на соскальзывании в сентиментальность или на трусливом размазывании и нечестности, он сам себя бьет по пальцам, как строгий учитель. Его вечно бодрствующий и неумолимый разум крадется за ним по пятам в его самых затаенных мечтаниях и беспощадно срывает с него все защитные покровы. Редкий художник столь основательно воспитывал в себе честность, редкий блюститель душ столь сурово сторожил свои затаеннейшие и извилистые пути.
Зная себя так хорошо, Стендаль лучше всякого другого понимает, что эта чрезмерная нервная и интеллектуальная чувствительность – его гений, его добродетель и вместе с тем угроза для него. «Се que ne fait qu’effleurer les autres, me blesse jusqu’au sang» – то, что лишь слегка затрагивает других, глубоко ранит его, чрезмерно восприимчивого. И поэтому Стендаль с юности, инстинктивно, воспринимает этих «других» «les autres» как полярную противоположность своему «я», как представителей чуждой душевной расы, с которыми у него нет общего языка и какой-либо возможности столковаться. Это «другое» с ранних лет почувствовал на себе в Гренобле маленький, неуклюжий, неприветливый от застенчивости мальчик, глядя, как шумно веселятся его беззаботные товарищи по школе; еще болезненнее испытал это на себе впоследствии новоиспеченный унтер-офицер Анри Бейль в Италии, когда, мучительно завидуя и не в силах подражать, он изумлялся умению других офицеров укрощать миланских дам и велеречиво, с сознанием собственного достоинства, греметь саблей. Но в то время он еще стыдился своей изнеженности, молчаливости, способности краснеть, своей застенчивости и чувствительности, считая это недостатком для мужчины, досадным пороком.
Годами пытался он – глупо и без всякого результата! – пересилить свою природу, подражать шумной и хвастливой черни и впутывался в глупейшие героические истории, чтобы только казаться похожим на этих бойких парней и произвести на них впечатление. Лишь постепенно, с трудом находит он в своей неизлечимой отчужденности какое-то меланхолическое очарование. Крайне неудачливый у женщин, благодаря своей робости и неуместным припадкам целомудрия, он начинает, со свойственными ему вниманием и остротой, допытываться у самого себя о причинах своего неуспеха; в нем пробуждается психолог. Почувствовав любопытство к самому себе, он начинает делать относительно себя открытия. Прежде всего Стендаль устанавливает, что он не такой, как другие: тоньше, чувствительнее, проникновеннее. Никто кругом не чувствует так страстно, никто так четко не мыслит, никто не создан так своеобразно, что, воспринимая все до тонкости, не способен вместе с тем добиться на практике самых ничтожных результатов. Несомненно, должны существовать и другие люди этой замечательной разновидности, «высшие существа», ибо как мог бы он понимать Монтеня, острый, глубокий ум, чуждый всему плоскому и грубому, если бы не был той же породы; как мог бы он чувствовать Моцарта, если бы та же душевная легкость не владела ими обоими. И вот в тридцать лет Стендаль впервые начинает подозревать, что он вовсе не неудачный экземпляр человеческой породы, а скорее экземпляр особый, родственный, может быть, редкой и благородной расе тех привилегированных существ, которые встречаются во всех странах, у всех народов, вкрапленные в них, как благородные камни в простую породу. Он чувствует себя их соотечественником (общность с французами он отвергает, как ставшее чересчур тесным платье), разделяющим другую, незримую родину с людьми с гораздо более тонкой душой и нервной системой, которые никогда не собираются в бесформенные толпы или деловые шайки и лишь время от времени посылают эпохе своего полномочного представителя. Для них одних, для «happy few»[60]60
Счастливое меньшинство (англ.).
[Закрыть], для проникновенных знатоков жизни с острым взором и тонким слухом, которые прочтут и неподчеркнутое и инстинктом сердца понимают всякий знак и всякое мгновение, для них пишет он, через головы своих современников, свои книги, им одним открывает он тайнопись своего чувства. С тех пор как он научился презрению, какое ему дело до шумной, громкоголосой черни, которой в глаза бросаются только яркие, грубо намалеванные плакаты, которой по вкусу только жирное и пересоленное? «Que m’importent les autres?» – какое мне дело до других, гордо говорит его Жюльен, но это крик его собственного сердца. Нет, не стыдиться того, что не имеешь успеха в таком подлом и пошлом мире, у этих тяжеловесов и тяжелодумов; нужно быть на одном уровне, чтобы соответствовать этому сброду, но, слава богу, ты существо высшее, ты единственный, особенный индивидуум, дифференцированная личность, а не баран из стада. Все внешние унижения – служебные тернии, неудачи у женщин, полнейший неуспех в литературе – Стендаль, после этого открытия, воспринимает с каким-то изощренным торжеством, как признак своего превосходства. Прежнее чувство приниженности победно переходит в надменность, тонко проявляемую и заметную только для посвященных, величественно-безмятежную стендалевскую надменность. Сознательно он отдаляется теперь все больше и больше от тесного общения с людьми и занят только одной мыслью – «de travailler son caractère», выработать себе определенный характер, свою собственную душевную организацию. Только своеобразие имеет ценность в этом американизированном, тейлоризованном мире, «il n’y a pas d’intéressant que ce qui est un peu extraordinaire» – так будем своеобразны, укрепим в себе корень самобытности! Ни один голландец, из числа помешанных на тюльпанах, бережнее не лелеял редкой, путем скрещивания полученной породы, чем Стендаль свое своеобразие и свою двойственность; он обрабатывает их своей особой духовной эссенцией, которую называет «бейлизмом», т. е. философией, равнозначной искусству сохранения в Анри Бейле того же Анри Бейля неприкосновенным.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































