Текст книги "Ван Гог. Жизнь. Том 1. Том 2"
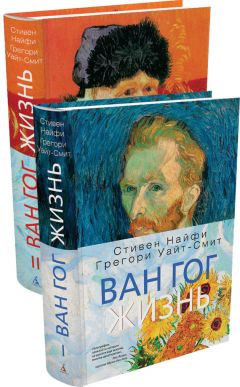
Автор книги: Стивен Найфи
Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 25 (всего у книги 110 страниц) [доступный отрывок для чтения: 27 страниц]
Рука рисовальщика
Злой, разобиженный, Винсент отправился назад, в Гаагу. Тяжкие испытания прошлых лет – бесконечные столкновения с отцом и долгая битва за Кее Вос, кульминацией которых стали рождественские события, – довели возмущенные чувства до точки кипения и ожесточили его душу, скованную теперь броней негодования. «Раньше я часто сокрушался, и печалился, и корил себя за разлад между Па и Ма и мною, – писал он. – Но теперь, когда все кончено… я не могу не испытывать облегчения».
Дерзко нарушив договоренность не возвращаться к Мауве в течение как минимум трех месяцев, Винсент поехал к кузену и стал умолять его немедленно возобновить занятия. Явно желая шокировать семью и заставить родственников поволноваться, он занял у Мауве денег – сумму, достаточную, чтобы снять комнату поблизости. Бросая вызов отцовским обвинениям в расточительности, Винсент потратил внушительные средства на обустройство своего нового жилища. Он обставил его купленной, а не взятой напрокат мебелью, заявляя тем самым о намерении обосноваться здесь надолго. Новые гравюры для украшения стен, цветы на стол – в течение первой недели все деньги были потрачены до последнего гульдена. После этого Винсент написал родителям письмо, в котором доложил обо всем содеянном, объявил о разрыве отношений и издевательски пожелал счастливого Нового года.
Винсент также не постеснялся в подробностях поведать о своей новой жизни Тео («Возможно, тебе не будет неприятно узнать, что я обосновался в собственной мастерской»), смутно намекая на вероятность нового займа у Мауве, а то и у Терстеха – в случае, если Тео не наполнит вновь опустевшие карманы. Страшась очередного позора для семьи, Тео прислал деньги, но укорил брата за дурное отношение к родителям: «Какого черта ты ведешь себя так по-ребячески и бесстыдно?.. Настанет день, и ты очень пожалеешь о том, что повел себя так бездушно». В ответ на обвинения брата взбешенный Винсент разразился длинным и яростным опровержением. «Я не собираюсь просить прощения», – заявил он. На укоризненное замечание Тео, что подобные раздоры опасны для здоровья стареющего отца, Винсент язвительно ответил: «Теперь убийца покинул дом». Вместо того чтобы смягчить требования, он заявил, что присланных денег недостаточно, и настаивал, чтобы Тео гарантировал ему дальнейшие выплаты. «Я должен знать хотя бы с некоторой определенностью, чего мне ждать», – писал Винсент.

Антон Мауве. 1878
Вот так, клокоча от злости, изводя родных демонстративным неповиновением, Винсент начал свой путь в искусстве. Искусство было для него не просто призванием, – это был призыв к оружию. Он сравнивал художественную карьеру с военной кампанией, с боем, с войной, отправляясь на которую он клялся: «Биться отважно, дорого продать свою жизнь, если придется, и попытаться одержать победу». «Настойчивость, – восклицал он, – лучше капитуляции!» Его возмущали критики – те, кто считал его «дилетантом, лентяем, нахлебником»; он обещал, что однажды грозная, «сжатая в кулак рука рисовальщика» покарает их.
Единственным, кого, похоже, не пугали не разбирающие цели воинственные выпады Винсента, оставался Антон Мауве. Щепетильный и добропорядочный Мауве всеми силами стремился сохранить благопристойность в отношениях с родственниками и не желал быть втянутым в не имевшую к нему никакого отношения семейную мелодраму, а потому радушно открыл перед бездомным кузеном двери своего дома и мастерской. «Здесь я получил и дружескую поддержку, и практическую помощь», – писал Винсент. Возможно, Мауве, который хоть и был человеком совсем другого склада и старше Винсента на пятнадцать лет, увидел в молодом родственнике смутное отражение собственного прошлого. Сын священника, он покинул дом в четырнадцать лет, чтобы стать художником, нарушив тем самым семейные планы, согласно которым должен был унаследовать отцовский приход.
Молодость Мауве-художника также прошла в нужде и попытках достичь коммерческого успеха путем создания привлекательных работ, востребованных на рынке. Подобно Винсенту, Мауве отдавался работе с почти маниакальным упорством. Порой, чтобы закончить картину, он запирался в мастерской на несколько дней. «Каждой картине, каждому рисунку он отдает частицу своей жизни», – с восхищением отмечал Винсент. Помимо работы, Мауве, как и Винсент, находил утешение в природе. Он разделял любовь своего протеже к долгим, особенно вечерним, прогулкам и был так же чувствителен к проявлениям возвышенного. Хотя литературе Мауве предпочитал музыку (во время работы он частенько насвистывал Баха), он тоже обожал сказки Андерсена и нередко читал их вслух своим детям. Подобные сцены семейной идиллии не могли не тронуть сердце изгнанника Винсента.
Щедрость Мауве по отношению к Винсенту одновременно являлась примером невероятной жертвенности со стороны одного и совершенно беспрецедентным шансом для другого. Будучи человеком исключительно закрытым, Мауве крайне редко допускал в семейный круг гостей и еще реже позволял им заглядывать в мастерскую. Учеников он не брал. Несмотря на активную деятельность и широкое признание в художественных кругах Гааги, Мауве держался в стороне от светской жизни. Гостей он приглашал по одному, предпочитая видеть среди друзей людей с утонченным вкусом, «одаренных здравым смыслом и чувством юмора». Толпа и пустая светская болтовня раздражали его. При всей любви к музыке художник отказывался посещать концерты – слишком уж расстраивал его шум, производимый публикой. Он избегал любых волнений, способных нарушить хрупкое равновесие, по его собственному выражению, «лирических» свойств его натуры.
Распахнув перед Винсентом дверь в заветную безмятежность своей жизни, Мауве предлагал ему суррогатную семью и возможность профессионально развиваться, о которой другие молодые голландские художники могли только мечтать. Мауве был не просто просвещенным наставником, но ведущей фигурой гаагской школы – направления в голландской живописи, которое за десять лет, прошедшие с того момента, когда Винсент впервые столкнулся с ним в «Гупиль и K°», обрело признание критиков и коммерческий успех. Художники гаагской школы вывели голландское искусство на мировой уровень – впервые со времен Золотого века, они привлекали все увеличивающуюся аудиторию коллекционеров, в особенности из Англии и Америки, готовых платить немалые деньги за мрачноватые цвета, ловкость исполнения и оригинальные сюжеты новой голландской живописи. К 1880 г. работы представителей гаагской школы возглавляли списки продаж в магазине фирмы «Гупиль и K°» на Платс, а самые популярные художники этого направления – и Антон Мауве в первую очередь – не успевали писать новые картины в количестве, способном удовлетворить спрос на родине и за рубежом.
Когда Винсент прибыл в Гаагу в самом конце 1881 г., Мауве, как и возглавляемое им движение, приближался к зениту славы. Критики восторгались очаровательными сценками среди лугов и песчаных дюн, выполненными маслом или акварелью, а коллекционеры охотились за ними. Собратья по цеху уже начали окружать его «ореолом благоговейного почитания», именуя Мауве художником-поэтом, гением, волшебником. В 1878 г. они удостоили его высокой чести возглавить престижное художественное общество «Мастерская Пульхри».
Всего неделю спустя после приезда Винсента Мауве предложил молодого кузена в качестве нового ассоциированного члена «Пульхри» – беспрецедентная честь для новичка (и обнадеживающий намек на радужные перспективы в будущем). «При первой возможности я стану полноправным членом», – в порыве честолюбия писал Винсент брату.
Но еще более важное ускорение на старте новой карьеры Винсент получил в уютной мастерской Мауве на улице Ёйлебомен. Почти ежедневно Винсент приходил сюда смотреть и учиться – впервые он имел возможность наблюдать зрелого художника за мольбертом. Мауве работал с молниеносной скоростью и владел кистью в совершенстве, передавая мельчайшие детали и самые мимолетные эффекты света точными, решительными мазками. Опыт и бесконечные выезды на этюды отточили его врожденные способности до такой степени, что глаз и рука работали, казалось, в полном согласии.
К моменту приезда Винсента Мауве как раз начал большую картину: лошади, тянущие (волоком) по пляжу в Схевенингене рыбацкую лодку, – художник не раз обращался к этому сюжету. Пока Мауве изображал пенистый прибой и мокрый песок, Винсент мог собственными глазами наблюдать, как мастер создает «жемчужную» атмосферу, прославившую его полотна. Живопись одни превозносили, а другие ругали за характерную приглушенную палитру. Вместо ярких, контрастных цветов художники использовали ограниченный спектр мягких оттенков, придававших картинам поэтичное и меланхоличное настроение. Представители этой школы, которую в начале ее существования насмешливо называли «серой», верили, что «тональная» живопись удачнее передает «восхитительный теплый серый» цвет их дождливой родины.
Никому не удавалось передать серебристый оттенок соленой морской воды лучше Антона Мауве. И вот теперь на глазах у Винсента Мауве создавал в своей мастерской пейзаж, буквально пропитанный этим тоном: от дымки облаков, нависших над морем, до луж, оставленных на берегу отливом, от мокрого песка до иссиня-черной лодки. «Что за великая вещь тон и цвет, Тео! – восторженно делился с братом Винсент. – Мауве научил меня видеть многое, чего я раньше не замечал».
Несмотря на многочисленные профессиональные и семейные обязанности, Мауве находил время для «зеленого юнца», указывал Винсенту на его ошибки, подсказывал, как лучше их исправить, корректировал пропорции и перспективу – иногда прямо на листе ученика. В роли авторитетного наставника Мауве неизменно сохранял уважительный тон, что идеально подходило Винсенту в его уязвимом состоянии. «Если он указывает мне: „То-то и то-то неверно“, – докладывал брату Винсент, – он тут же добавляет: „Попробуйте сделать так-то или так-то“». Педантичный Мауве превозносил достоинства качественных материалов и правильной техники и учил его справляться с типичными сложностями начинающего художника: такими, например, как проработка лиц и рук. Это были те самые практические советы, которых больше всего жаждал Винсент: цеховые секреты, которые он не успел постичь, начав учебу слишком поздно.
Отвечая на самый неотложный вопрос ученика – как создавать работы, привлекательные для покупателей, Мауве снова порекомендовал ему практиковаться в акварели. Нетерпеливый Винсент никак не мог сладить с этой деликатной (по его определению – «дьявольской») техникой, используя ее, главным образом, чтобы оттенять и расцвечивать рисунки. Но Мауве, умелый акварелист, показал ему, как без подготовительного рисунка, только с помощью легких светящихся акварельных линий и размывок создавать законченные работы. «Мауве указал мне новый путь», – восторгался Винсент. «Сейчас я совершенно поглощен этим… это не похоже на все остальное и обладает большей выразительной силой и свежестью», – восторженно писал Винсент брату.
Жаждущий одобрения после долгих лет упреков, Винсент хватался за любое проявление внимания со стороны знаменитого родственника. «Участие со стороны Мауве, – писал он, – было для меня как вода для измученного засухой растения». В порыве благодарности он расточал похвалы новому учителю. «Я люблю Мауве. Люблю его работу. И считаю, что мне повезло учиться у него». Винсент покупал наставнику подарки, подражал его манере говорить, хранил в памяти похвалы, соглашался с критикой и добросовестно передавал Тео каждое мудрое изречение учителя. «Мауве сказал, что я испорчу по крайней мере десяток рисунков, прежде чем научусь управляться с кистью… поэтому я не отчаиваюсь из-за ошибок».
Винсент был настолько очарован новым наставником, что не нуждался в иной компании. «Я не хочу чересчур часто общаться с другими художниками, – признавался он, – [потому что] с каждым днем все больше убеждаюсь в том, что Мауве умен и заслуживает доверия, так чего еще мне желать?» Он умолял Тео прислать денег, чтобы не позориться своей нищетой в глазах элегантного кузена, и обещал «одеваться получше» теперь, когда он стал постоянным посетителем мастерской на Ёйлебомен. «Я наконец понимаю, в каком направлении должен идти, – торжественно писал Винсент, – и мне не нужно таиться». Благодаря Мауве, по его словам, «начинает светать и восходит солнце».
Но долго это продолжаться не могло. Никто не был в состоянии утолять потребность Винсента в восхищении на протяжении длительного времени, и уж конечно, это было не под силу обидчивому и замкнутому Мауве. Всякий новый всплеск неуемного энтузиазма изначально обречен: за ним неминуемо следует разочарование. Уже 26 января их отношения стали портиться. Мауве навестил Винсента в его квартире на третьем этаже в пригороде Гааги. Во время визита зашла одна из «моделей» ученика – старуха, нанятая им на улице. Где еще он мог найти людей, согласных позировать за ничтожную плату?
Пытаясь замять щекотливую ситуацию, Винсент заставил злополучную старуху позировать: он хотел продемонстрировать Мауве свои навыки в работе над набросками. Но все усилия привели к окончательному конфузу; между учеником и учителем разгорелся спор. Винсент попытался списать разногласия на обычный конфликт артистических натур. «Мы одинаково взвинчены», – объяснял он Тео, и все же этот случай настолько его расстроил, что он слег с «лихорадкой и нервным расстройством».
В течение последующих недель Винсент написал несколько писем, из которых явствует, что полное примирение стало практически невозможным. Сцена в мастерской Ван Гога явно встревожила Мауве, он увидел в ней проявление дилетантизма худшего толка. По мнению Мауве, если бы Винсент действительно хотел научиться рисовать человеческую фигуру, ему следовало начать с гипсовых слепков (как предписывал традиционный метод обучения), а не тратить попусту время и деньги брата на фарс – рисовать людей с улицы! «Он говорил со мной… так, как не посмел бы худший из преподавателей Академии», – возмущенно писал Винсент.
Война была объявлена. Не дожидаясь, когда ему дадут от ворот поворот, Винсент первый пошел в атаку, обвинив Мауве в «ограниченности» и «неприязни», называя его «капризным и довольно зловредным». Он расценил претензии учителя как завуалированную попытку поставить под сомнение его, Винсента, способность стать художником: Мауве будто бы втайне не приемлет его творчество и хотел бы, «чтобы я все бросил». Эта дискуссия разрослась в нечто большее, чем просто спор о предпочтении гипсовых слепков или живых моделей, – это была битва между рисунком и акварелью, реализмом и академизмом. Заклеймив акварель «нудной» и «бесперспективной», он практически отказался осваивать эту технику, демонстративно пренебрегая мнением учителя.
В то же самое время он не скрывал, что по-прежнему работает со своей моделью, поскольку «привыкает к ней все больше, и по этой самой причине должен продолжать». Словно намеренно пытаясь довести спор до открытого столкновения, Винсент настойчиво требовал внимания со стороны родственника. Когда же Мауве отдалился еще больше, он, казалось, был неприятно поражен («В последнее время Мауве делал для меня очень мало», – жаловался он в письме брату) и искренне оскорбился, когда наставник в раздражении бросил ему: «У меня не всегда бывает охота учить вас, вы уж, ради бога, дождитесь подходящего момента».
Винсент настаивал на своем, и Мауве решил взять реванш. Он «не без злорадства» спародировал «нервную и возбужденную» речь ученика и высмеял его манеру кривить лицо в напряженной гримасе. «Он здорово умеет вытворять подобные штуки, – с болью вспоминал потом Винсент, – должен признать, это был поразительный шарж на меня, но насквозь пропитанный ненавистью». Он попытался защитить себя: «Если бы вам пришлось бродить до рассвета под дождем по лондонским улицам, дрожать холодными ночами в Боринаже, – заявил он Мауве, – и у вас тоже появились бы безобразные морщины на лице, и голос у вас тоже, наверное, стал бы хриплым».
По возвращении домой Винсент вдребезги разбил остававшиеся у него гипсовые слепки, швырнув их в угольный ящик, – таков был его ответ на оскорбления кузена. «Я примусь рисовать с этих гипсов лишь в том случае, если они сами по себе снова склеятся и побелеют, – поклялся он в приступе ярости, – и если на свете больше не будет живых людей с руками и ногами, которых можно рисовать». Напоследок Винсент вернулся к Мауве и сообщил о содеянном. «Не говорите мне больше о гипсах, – неистовствовал он, – мне нестерпимо слышать о них». Мауве немедленно отказал Винсенту от мастерской и поклялся «не иметь с ним более никаких дел в следующие два месяца».
Но окончательный разрыв наступил даже раньше – не без участия Х. Г. Терстеха. В свои тридцать шесть лет управляющий «Гупиль и K°» оказался в эпицентре художественного мира Гааги; благодаря успеху художников гаагской школы, которых он давно поддерживал, его звезда засияла еще ярче. Никто другой, даже Мауве, не мог бы быть так полезен Винсенту на старте его карьеры, как Терстех.
Поначалу Терстех всячески поддерживал своего бывшего помощника после его переезда в Гаагу, очевидно решив не вспоминать неприятный разговор, состоявшийся предыдущей весной: тогда он обвинил Винсента, что тот сидит на шее у своих дядьев, и посоветовал ему стать учителем, а не художником. Ван Гог подыграл Терстеху и сделал вид, будто тоже готов к примирению: «все прощено и забыто», утверждал он, «что было, то прошло». На самом деле, конечно, ничто не изменилось. Винсент не спускал ни одной обиды и уж тем более не мог не проверить, насколько далеко готов Терстех зайти в своей любезности. Не прошло и двух недель со дня приезда, как Винсент отправился к Терстеху и занял у него 25 гульденов – немалую сумму. В ответ последний выждал три недели, после чего пришел-таки к Винсенту сам.
И тут уж недовольство вылилось в открытый конфликт. Расчетливый и надменный Терстех не был связан с Ван Гогом семейными узами и выложил все без обиняков. Он назвал сделанные Винсентом рисунки пером – его гордость – «неприглядными» и «неходовыми» и корил его за упрямое пристрастие к неуклюжим, любительским зарисовкам с натуры. Не разделял Терстех и увлечения Винсента живыми моделями: «В Гааге нет моделей». По словам Терстеха, если Винсент действительно хочет зарабатывать на жизнь искусством, ему надо прекратить рисовать фигуры и посвятить себя акварели, желательно сосредоточившись на пейзаже. От больших форматов в духе Шарля Барга, которые предпочитал Винсент, тоже следовало отказаться и делать работы поменьше. Когда Винсент попытался в свою защиту сказать, что у его рисунков есть «характер», Терстех ответил насмешкой. Когда же художник принес толстые папки, чтобы доказать, как прилежно он работает, управляющий только отмахнулся – Винсент зря тратит время. Рисование фигуры – что-то «вроде наркотика, которым ты заглушаешь в себе чувство досады, оттого что не способен писать акварели», – сказал Терстех Винсенту.
Даже по меркам их прошлых отношений, всегда довольно напряженных, это был удар ниже пояса. У Терстеха всегда было извращенное чутье на слабости Винсента, а Винсент всегда с особой чувствительностью реагировал на упреки бывшего начальника. Задетый за живое, Винсент разразился бурной тирадой, мощь его негодования смела все убеждения, которых он придерживался еще неделю назад, и вывела его на новый, весьма рискованный путь. Называя Терстеха «безмозглым» и «поверхностным», Винсент защищал свои рисунки, настаивая на том, что «во многом они хороши». Он утверждал, что освоить рисование фигуры с модели куда важнее и сложнее, чем акварель, а главное, это куда «серьезнее», то есть способно лучше выразить глубокую жизненную правду.
Все эти неприятности вскоре привели к тому, что Винсент стал отрицать и главную свою цель, к которой он шел с момента приезда из Боринажа, – самому зарабатывать; теперь он заявлял, что ни за кем бегать не собирается: «Кто захочет, тот сам придет ко мне». Он же хотел лишь «быть верным себе», а не «льстить публике», даже если результатом этого будут «суровые, но правдивые вещи, изображенные в грубой манере». Всего месяц назад Винсент охотно принимал роль старательного новичка, жаждущего указаний, теперь же он видел себя гонимым художником, не желающим поступаться своими убеждениями. «С каких это пор художника могут заставить – или пытаться заставить – сменить технику или же свои взгляды? – возмущенно вопрошал он. – Такие поползновения кажутся мне крайне бесцеремонными». «Я не позволю себя принуждать, никто не заставит меня делать работы, в которых не видно моего характера».
В феврале разногласия перешли в стадию взаимных оскорблений. Первым не выдержал Винсент, написав Терстеху письмо с обвинениями в том, что тот якобы способствовал его разрыву с Мауве. Когда же Тео не прислал вовремя месячное пособие, художник вновь заподозрил хитрого управляющего (Терстех только что вернулся из парижской поездки) в попытке настроить брата против него. «Быть может, ты что-нибудь услышал от Терстеха или других и это повлияло на тебя?» – спрашивал он в письме к брату. Так и не дождавшись денег от Тео, Винсент отправился в галерею «Гупиль и K°» и обратился напрямую к Терстеху, потребовав выполнить данное братом обещание и выдать ему десять гульденов. Терстех присовокупил к деньгам «столько упреков – чтобы не сказать оскорблений, – возмущался Винсент, – что я хоть и сдержался, но еле-еле».
Терстех вновь принялся внушать Винсенту (как уже делал это предыдущей весной), что все его «призвание» – одно лишь позерство и нежелание трудиться. «Пора тебе самому зарабатывать на хлеб», «найди работу», «прекрати тянуть деньги у Тео», – поучал Терстех, а потом прямо заявил: «Ты слишком поздно начал». Что же до шансов на успех, Терстех с негодованием повторил свое прежнее мнение: «В одном я уверен – ты не художник». До сих пор он пренебрежительно отмахивался от результатов мучительных усилий Винсента: «ni fait ni à faire» – неряшливые, ни на что не годные работы. Но на этот раз Терстех пошел дальше: пользуясь исключительным статусом друга семьи и зная Винсента еще по Зюндерту, он вынес сокрушительный приговор: «И раньше ты ничего не добился, и сейчас будет то же самое… С этой твоей живописью будет то же, что и со всеми прочими твоими начинаниями, – полный провал».
Винсент был раздавлен. Терстех произнес «слова, способные пронзить сердце и опечалить душу», – с горечью писал он Тео, обвиняя Терстеха в беспочвенной антипатии, уходящей корнями в прошлое. «Годами он считал меня кем-то вроде никчемного мечтателя», – сокрушался Винсент. «[Он] вечно твердит одно и то же: я ничего не умею и ни на что не годен». Яростно отрицая мрачные пророчества Терстеха относительно своего будущего как художника («Живопись проникла в меня до самого мозга костей»), Винсент то с грустью недоумевал, почему Терстех «не спросит меня о том, что я могу сделать, вместо того чтобы требовать невозможного», то снова распалялся и жаждал вернуть старые добрые времена революции, когда людей, подобных Терстеху, могли бы послать на гильотину вместе с прочими злодеями старого режима.
Тео попытался унять бурю, призывая брата «сохранить хорошие отношения с Терстехом, для нас он почти как старший брат». Винсент в ответ загорелся братской ревностью. Мысль о том, что Тео может действовать заодно с этим щеголеватым выскочкой и самозванцем, спровоцировала новый виток неприязни к Терстеху. В письмах к Тео он с маниакальными подробностями перечислял скопившиеся у него за долгие годы обиды на бывшего начальника («Когда я послал ему свои первые рисунки, он прислал мне коробку красок – и ни гроша денег»). Когда же Тео потребовал взять резкие слова обратно, старший брат попросту отказался. Вместо извинений он лишь усилил свои нападки, его мишенью стали все без исключения торговцы искусством. Винсент приложил массу усилий, чтобы вбить клин между братом и искушающим его «дьяволом» Терстехом. На несколько недель он даже возобновил бредовые попытки убедить Тео бросить работу и стать художником, призывая брата отречься от вероломного управляющего гаагского филиала «Гупиль и K°» и поддержать своего настоящего брата. «Стань кем-то получше Х. Г. Т.», – увещевал Винсент. «Я хотел бы, чтобы ты стал художником».
Винсент то признавал, что ему лучше не общаться с Терстехом следующие полгода, то заявлял, будто совершенно к нему равнодушен («Терстех – это Терстех, а я – это я»), и клялся «совершенно забыть о нем». Но через несколько дней после того, как Винсент заверил Тео, что с Терстехом все кончено раз и навсегда, последний нанес неожиданный визит в его мастерскую. «Я должен заставить его понять, что он судит обо мне слишком поверхностно», – неистовствовал Винсент.
По этой схеме отношения Винсента с Терстехом будут развиваться до самой смерти художника: за вспышками ярости будут следовать вялые попытки помириться, за ними – неубедительные клятвы в полном безразличии к бывшему начальнику – замкнутый круг болезненной одержимости. События зимы и весны сделали элегантного управляющего фирмой Гупиля вечным антагонистом Винсента, столь же непримиримым в искусстве, как его отец – в жизни. В письмах Винсент снова и снова будет бередить эту незаживающую рану: он страстно желал создавать искусство, которое может продаваться, а Терстех, по его мнению, обладал ключом к этой тайне; или же его не оставлял в покое неизбежный, но невыносимый для него союз между Терстехом и Тео – эти двое были братьями в семье Гупиля, семье, из которой Винсент был изгнан. А может, в критических замечаниях Терстеха ему слышались отголоски собственных тайных сомнений?
Несложившиеся отношения с Мауве и Терстехом вряд ли можно считать исключением. Винсент ссорился со всеми. Он редко рассказывал Тео о возникающих в его жизни конфликтных ситуациях, но их отзвуки слышны в именах коллег-художников, которые, мелькнув считаные разы в его письмах, затем исчезают из них навсегда, своим неожиданным и необъяснимым исчезновением давая повод заподозрить очередную ссору. Юлиус Бакхюйзен, Бернард Бломмерс, Пит ван дер Велден и Маринус Бокс – все эти имена, упоминаемые впервые в порыве воодушевления, свидетельствуют о неудачных попытках обрести друзей.
Утверждая, что в друзьях он не нуждается, Винсент не стеснялся в выражениях по адресу собратьев-художников. Даже те, кем он восторгался, не удостаивались его внимания надолго. В феврале он посетил мастерскую Яна Вейсенбруха – патриарха гаагской школы, которого он встречал десять лет назад, работая в галерее «Гупиль и K°». Эксцентричный и общительный пожилой Вейсенбрух (прозванный Веселым Вейсом) ободрил младшего коллегу и попытался смягчить боль от разрыва с Мауве. По его мнению, известному, правда, только из письма самого Винсента, тот рисовал «чертовски хорошо». Вейсенбрух предложил Винсенту стать его учителем и наставником вместо Мауве. После этого визита Винсент писал брату: «Я считаю большой удачей, что могу посещать такого умного человека… Это как раз то, что мне нужно». Тем не менее о других визитах к Веселому Вейсу он не сообщает и к лету лишь вспоминает о нем с теплотой.
Дружба с Теофилем де Боком – Тео пытался свести с ним брата предыдущим летом – также оказалась скоротечной. У Теофиля и Винсента было много общего: оба поздно начали заниматься искусством (де Бок – в тридцать один год, до этого он служил на железной дороге), оба обожали Милле. Однако Винсент с самого начала сомневался в решимости де Бока посвятить себя искусству. Когда Теофиль выразил восхищение пейзажами барбизонца Камиля Коро, Ван Гог набросился на приятеля за то, что тот якобы предал Милле, и обвинил в «отсутствии внутреннего стержня», а потом разочарованно сообщил, что де Бок отказывается следовать его советам. «Он злится, когда ему толкуют о самых простых вещах», – писал Винсент. «Каждый раз, когда я его навещаю, у меня возникает одно и то же чувство: малый слабак». После одного из таких визитов Винсент с горечью констатировал: «Он никогда ничего хорошего не сделает – если только не изменится». В дальнейшем, если Теофиль и Винсент и виделись, то лишь случайно, встречаясь на улице.
В первой половине 1882 г. Винсент даже заявил, что не в ладах с Антоном ван Раппардом, который отказался признать поражение в эпистолярной схватке по поводу академического рисунка. В первых числах января Раппард написал Винсенту письмо, где упорствовал в своих возражениях, после чего Винсент немедленно прервал переписку. «Ничто или почти ничто в твоем письме не выдерживает критики, – раздраженно отреагировал Винсент. – У меня есть занятия посерьезнее, чем писать письма». Имя ван Раппарда не пополнило растущий список потерянных друзей лишь благодаря их удаленности друг от друга и молчанию с обеих сторон.
К тому же Винсент нашел Раппарду замену. Георгу Хендрику Брейтнеру было двадцать четыре года, ровно столько же, сколько Тео, когда в начале 1882 г. они с Винсентом начали совершать ночные вылазки в Гест, район красных фонарей в Гааге. Двумя годами ранее Брейтнера выгнали из художественной школы, и теперь, несмотря на дружбу с Виллемом Марисом и всемогущим Месдахом (у него молодой художник работал во время создания масштабной «Панорамы Схевенингена»), в гаагской школе он заслужил славу бунтаря. Поэтому дружба с маргиналами, вроде Винсента Ван Гога (как и Раппард, Брейтнер сначала познакомился с Тео), не могла испортить Брейтнеру репутацию: терять ему было уже нечего.
Как и в случае с Раппардом, сразу после знакомства с Брейтнером Винсент развернул бурную кампанию по установлению тесных товарищеских отношений. В течение первой недели-двух художники успели несколько раз выбраться на этюды и посетить мастерские друг друга, не прекращая при этом ночных прогулок. Как и в отношениях с Раппардом, Винсент ставил братскую солидарность выше художественных требований и следовал за своим младшим товарищем. Брейтнер по большей части избавился от классических основ своего образования; его восхищал суровый реализм романов Золя и братьев Гонкур. Если Винсент отправлялся в Гест за моделями, которые могли бы позировать для сельских сцен в духе Милле, для Брейтнера главной темой служил сам город. По его мнению, современные художники должны искать вдохновение не в мифическом деревенском прошлом, но в мрачной непредсказуемости реальной городской жизни. Ему нравилось называть себя народным художником.
Винсент охотно ходил с младшим товарищем в бесплатные столовые для бедняков, вокзальные залы ожидания, конторы по продаже лотерейных билетов и ломбарды, на торфяные рынки. Поначалу он использовал эти вылазки исключительно в поиске новых сюжетов для этюдов человеческой фигуры, которые воплощал потом в своей мастерской, работая с моделью. Но вскоре вслед за Брейтнером он начал делать быстрые зарисовки уличной жизни прямо на месте – витрина булочной, суматоха дорожных работ, пустынный тротуар, – прежде подобные темы не вызывали у Ван Гога никакого интереса. Результат вряд ли можно было назвать обнадеживающим. Даже когда Винсент стремился зафиксировать суету городской жизни, которая так завораживала Брейтнера, главным для него всегда оставалась отдельная человеческая фигура. Из набросков родилась как минимум одна странная уличная сцена, где младенец ползет по краю канавы, а старуха с клюкой почти сталкивается с копающим эту канаву рабочим.









































