Текст книги "Ван Гог. Жизнь. Том 1. Том 2"
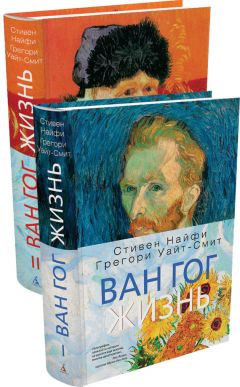
Автор книги: Стивен Найфи
Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 110 страниц) [доступный отрывок для чтения: 27 страниц]
Кое-что, однако, было ясно: Винсент не был счастлив. Он писал родителям меланхоличные письма, жаловался на работу, школу и одиночество (ученики разъехались на летние каникулы). «Винсент переживает непростые времена», – рассказывали родители Тео; «жизнь у него невеселая». «Думаю, дело в том, что он боится работать с мальчиками, – заключила Анна. – Возможно, он опасается не справиться с работой». У нее на этот счет не было иллюзий: Винсент «не сможет и дальше оставаться в этой профессии». Ему нужно найти новое направление, которое «закалило бы его для повседневной жизни» и «сделало бы его счастливее и спокойнее». Она даже предположила, что «Винсент мог бы связать свою деятельность с природой или искусством – это давало бы надежду на лучшее».
В августе Винсент нашел это новое направление, но оно не имело никакого отношения ни к природе, ни к искусству. Всего за два дня до запланированной поездки к Гарри Глэдвеллу, который проводил летние каникулы со своей семьей в пригороде Лондона, Винсент получил известие о том, что семнадцатилетняя сестра его друга погибла, упав с лошади. Совершив шестичасовой переход через весь Лондон, он прибыл к Глэдвеллам как раз в тот час, когда скорбящая семья возвращалась с похорон. Зрелище чужого горя ошеломило его. Он признавался в письме брату, что ощутил присутствие чего-то «истинно святого» в доме Глэдвеллов и ему хотелось стать частью этого, но он не сумел. «Видя столь глубокое, внушающее почтение горе, я испытал робость и стыд… Мне хотелось утешить их отца, но я был смущен», – признавался Винсент Тео на следующий день.
Лишь оставшись наедине со своим старым другом Гарри, Винсент смог войти в роль, что жаждал всей душой. Винсент писал, как во время длинной прогулки они «говорили обо всем: о Царствие Небесном, о Библии» – как когда-то, во времена их жизни в Париже. Пока они ходили туда-сюда по платформе вокзала, Винсент изливал на друга поток страстных утешений, больше напоминавших проповедь. В тот момент он ощутил, что, несмотря на обычный мир вокруг, переполнявшие его чувства «отнюдь не были обычными».
Вскоре он решил стать проповедником.
Для Винсента быть проповедником означало одно – дарить утешение. Подобно тому как основу католической теологии составляют грех и наказание, основой доктрины Реформатской церкви Нидерландов было утешение в горе. Идеей «невыразимого утешения», даруемого внимательным и заботливым Господом, пронизаны все ее постулаты. Прежде утешать, а потом обращать – вот главная заповедь проповедника в голландском форпосте веры вроде Зюндерта. Дорус Ван Гог давал своей ненадежной пастве духовное утешение и оказывал материальную поддержку. В болезни или на краю смерти страждущие уверялись, что они не одиноки в жизни земной и обретут благую любовь в жизни грядущей. Во дни повседневных забот пастор унимал тревоги и страхи своих прихожан. Не обладая воспитательной и просветительской мощью, проповеди Доруса окутывали слушателей уютным покровом «целительных слов» всем знакомых библейских историй и наставлений.
И конечно, никто более Винсента не жаждал целебного бальзама религии. С самого детства образ Христа представлялся ему скорбным, но и способным унять скорбь. Воплощением его был Христос с картины Ари Шеффера «Христос-Утешитель» (проданной через гаагский магазин дяди Сента в 1862 г.), репродукция которой висела в пасторском доме в Зюндерте. Эта картина, иллюстрирующая стих Евангелия от Луки («Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем»), в XIX в. была невероятно популярна в религиозных кругах, как и сама идея, что безвинное страдание позволяет приблизиться к Господу: лучезарный, но горестный Иисус восседает на троне в окружении поклоняющихся Ему – угнетенных и отчаявшихся, сломленных горем и отчаянием. «Горесть не приносит вреда, – писал Дорус, – но позволяет видеть вещи в более праведном свете». «„Тихая печаль“ – чистое золото», – писал Винсент.
Сквозь призму романтической литературы картина Шеффера обрела для Винсента особый смысл: она открыла ему новые формы страдания, новые мифы о спасении, новые парадоксы надежды и новое понимание возвышенного. Художественные воплощения этих идей заполнили страницы его альбомов и стены его комнаты. Задолго до того, как он начал проповедовать Евангелие, Винсент проповедовал «тихую печаль» природы и искал утешения в ее живописных и поэтических образах. Он следовал за тенью Христа в произведениях Карлейля и Элиот, которые принесли тему искупления страданием в современный мир, поклоняющийся объективному знанию. «Глубокое, невыразимое страдание, – писала Элиот в романе „Адам Бид“, – можно без преувеличения назвать крещением, обновлением, преображением».

Ари Шеффер. Христос-Утешитель. Холст, масло. 1836–1837. 183 × 247,9 см
Когда в 1875 г. Винсент в своем изгнании вновь обрел Иисуса, не покидая маленькой комнаты на Кеннингтон-роуд, в первую очередь он обратился к Христу-утешителю его детства. Христос – «главный утешитель нашей жизни», способный «наполнить радостью сердца, обитающие в юдоли слез», – писал Ренан. «Раскаяние обратится радостью», – обещал Христос Фомы Кемпийского. Отрывок стиха из Второго послания к Коринфянам вскоре стал для Винсента мантрой утешения: «Нас огорчают, а мы всегда радуемся». В этих нескольких словах для него заключалось абсолютное и универсальное выражение той алхимической формулы счастья, которую он всегда искал в религии (а позднее в искусстве). «Я обнаружил радость в печали», – писал Винсент в сентябре 1876 г. «Печаль много лучше, чем смех», – заключал он в октябре.
Обретенная надежда, что жизненные горести могут обернуться счастьем, вдохновила Винсента на покупку новой пары ботинок, «чтобы приготовиться к новым странствованиям». Кроме того, он убедил своего работодателя, его преподобие Слейд-Джонса, позволить ему посещать методистскую церковь в Ричмонде, на другом берегу Темзы. Во время еженедельных молитвенных собраний, которые Слейд-Джонс проводил в Ричмонде, Винсент начал «ходить к людям и разговаривать с ними». Вскоре он даже получил возможность «сказать несколько слов» перед собравшимися. В школе же Слейд-Джонс разрешил Винсенту уделять больше времени религиозному воспитанию и меньше – преподаванию обычных предметов. Винсент учил мальчиков, сыновей лондонских рынков и улиц в количестве двадцати одного человека, библейской истории. Каждое утро и каждый вечер они собирались вместе для молитвы; по вечерам он сидел в проходе между кроватями и в полумраке спальни читал вдохновляющие отрывки из Библии и художественной литературы.
Слейд-Джонс, которого радовало рвение Винсента, предложил ему работу помощника в конгрегационалистской церкви в Тернэм-Грин, небольшом поселении в трех милях вниз по реке от Айлворта. Винсент занимался подготовкой маленькой церкви, выстроенной из листов железа, к собраниям и службам, а также преподавал в местной воскресной школе.
Остальные учителя с радостью приняли в свой коллектив странного молодого голландца, но упорно коверкали его фамилию («мистер ван Гоф»), пока Винсент не убедил их обращаться к нему «мистер Винсент». Помимо воскресных уроков, он организовал для молодежи вечернюю службу по четвергам и взял на себя обязанность посещать больных и отсутствовавших учеников. Через некоторое время Слейд-Джонс даже поручил энергичному молодому помощнику самостоятельно провести вечернюю воскресную службу в небольшой методистской часовне в Петершеме, двумя милями выше Айлворта по реке.
В разгар всей этой благочестивой деятельности Слейд-Джонс благословил Винсента прочитать проповедь. В восторге от открывшейся перспективы, он приступил к лихорадочным приготовлениям. Свое выступление Винсент отрабатывал на еженедельных молитвенных собраниях в Ричмонде и во время уроков Библии с мальчиками в школе (по собственному признанию Винсента, иногда они засыпали посреди его рассказа, но он надеялся, что по мере обретения опыта у него будет получаться лучше). Винсент составил список любимых стихов, историй, гимнов и стихотворений, которые он записывал в тетрадь, которую называл «книгой проповедей». Судя по длинным письмам, которые Винсент писал Тео той осенью, пересыпая их, разумеется, цитатами из своей «книги», она представляла собой фантасмагорию на тему утешения, еще более странную, чем прошлые его альбомы, – наглядный пример того, как его безумному воображению представлялась деятельность проповедника. «Каждый, кто хочет проповедовать Евангелие, должен прежде всего нести его в своем сердце, – говорил он. – Ах, как бы я этого хотел!» На исходе дня он поднимался в свою комнату на четвертом этаже Холм-Корта и под взглядом «Христа-Утешителя» с репродукции на стене засыпал, по-прежнему сжимая в руках Библию.
Наконец в воскресенье 29 октября Винсент поднялся на кафедру методистской церкви в Ричмонде, чтобы прочесть свою первую проповедь. Спустя два дня он отправил Тео восторженное и подробное описание этого события, напоминающее начало какого-нибудь романа Элиот.
Был ясный осенний день, и я шел в Ричмонд пешком живописной дорогой вдоль Темзы, в водах которой отражались пожелтевшие кроны величавых каштанов, ясное голубое небо над ними и, сквозь ветви каштанов, та часть Ричмонда, что стоит на холме: дома с красными крышами, незанавешенные окна и зелень садов; над всем этим возвышается серая башня, а внизу виден длинный серый мост, возле которого на обоих берегах растут высокие тополя, и люди, его переходившие, издали казались маленькими темными фигурками.
У подножия кафедры Винсент остановился, склонил голову и произнес слова молитвы: «Авва, Отче! Во имя Твое теперь начнем». По его словам, взойдя на кафедру, он ощутил себя так, словно «выбрался из темного подземелья», и перед ним возникла волнующая картина его будущей жизни: «Отныне, куда бы я ни шел, я буду проповедовать Евангелие».
Он выбрал текст Псалтири: «Странник я на земле…» Невозможно узнать мнение прихожан о проповеди, прочитанной в тот день молодым голландцем. Как выяснить, всё ли они в ней поняли: Винсент говорил по-английски правильно, но слишком быстро и с сильным акцентом. Некоторые из присутствующих уже слышали его выступления на молитвенных собраниях и привыкли к его особенностям.
Но вряд ли кто-то из прихожан был готов к такому вулканическому энтузиазму.
Чтобы возродиться для жизни вечной, для жизни, исполненной веры, надежды и милосердия, – для жизни непреходящей – жизни христианина и Христова труженика, чтобы быть даром Божьим, творением Божьим – и только Божьим! – возложим руку свою на плуг на пашне нашего сердца, закинем сызнова нашу сеть…

Церкви в Петершеме и Тернэм-Грин. Рисунок в письме. Перо, чернила. Ноябрь 1876
Страстно желая дарить утешение, в потоке безмерно серьезных и заумных разглагольствований Винсент сыпал цитатами, надерганными оттуда и отсюда библейскими стихами и афоризмами собственного сочинения. Смелые поучения сменялись сумбурными толкованиями, скучные банальности – странными аналогиями. («Разве не приходилось нам чувствовать себя как вдова или сирота – в радости и благоденствии так же часто, если не чаще, чем в горе, – когда мыслями обращались к Тебе».) В запале он переиначивал и смешивал метафоры.
Слушателей Винсента не могла не настораживать странная исповедальность, настойчиво прорывавшаяся сквозь заунывную риторику его речи: «Мы хотим увериться, что принадлежим Тебе, а Ты нам. Мы хотим быть Твоими чадами – христианами, – нам нужен Отец, отеческая любовь, отеческое одобрение».
Стремясь «есть хлеб свой в простоте сердца», Винсент, вероятно, и проповедовать желал с той же сердечной простотой. Вряд ли у кого-то из его слушателей могло возникнуть сомнение в искренности молодого проповедника. Но даже отец Винсента, чьи собственные проповеди никогда не были образцом краткости и ясности, раскритиковал его запутанную и смутную манеру трактовки библейских текстов. Получив от старшего сына длинное письмо, написанное в то время, когда Винсент готовил свою проповедь, Дорус посетовал в письме Тео: «Если бы только он научился выражаться простым языком ребенка и перестал так нагружать свои письма библейскими цитатами». Принял Винсент критику или нет, но сам он явно осознавал проблему. «Я говорю не вполне свободно, – писал он, – и я не знаю, как звучит моя речь на слух англичан». Несколькими неделями позже он почувствовал, что обязан предупредить собравшихся: «Вам придется слушать плохой английский язык».
Но он решил ни в коем случае не сдаваться – слишком ужасной была перспектива новой неудачи. «Невозможность проповедовать Евангелие сделает меня несчастным, – писал он в ноябре, словно предчувствуя недоброе. – Если мой жребий не проповедничество… что ж, страдание будет моим уделом».
И все же для себя Винсент нашел источник душевного комфорта, который он так стремился обрести и никак не мог подарить другим.
С самого детства его пристрастием были церковные гимны. Каждое воскресенье зюндертская церковь наполнялась их торжественным монотонным звучанием, зачастую сопровождавшимся игрой матери Винсента на пронзительной фисгармонии. По словам невестки Винсента, со дня своего появления в Лондоне в 1873 г. он, казалось, был «одурманен сладкими мелодичными речами» английских церковных песнопений, которые так сильно отличались от покаянных гимнов его кальвинистской юности. «Больше всего ему нравятся орган и пение», – сообщал Дорус через месяц после прибытия Винсента в Англию. На выступлениях Сперджена в Метрополитен Табернакл Винсент не задумываясь присоединял свой голос к поющим тысячам людей и испытывал ощущение, которое один из участников действа сравнивал позднее с плаванием «в бескрайнем океане мелодии, которая поднимается, опадает, вновь набирает силу и заполняет собой все пространство». Винсент попросил Тео прислать ему книгу гимнов на голландском языке, а в ответ отправил ему два сборника английских гимнов. Один из таких сборников, в то время весьма популярный, – «Евангельские гимны и священные песни П. П. Блисса и Айры Д. Сэнки» (1875) – он носил с собой повсюду и вскоре изучил настолько хорошо, что запросто мог назвать порядковый номер особенно полюбившихся ему гимнов.
К тому времени, когда Винсент прибыл в Айлворт, именно гимны стали одним из главных утешений для его страдающей души. Он пел их каждое утро и каждый вечер со своими учениками на уроках Закона Божьего. Винсент рассказывал, что, прогуливаясь по зданию Холм-Корта, ему приходилось слышать, как кто-то из мальчиков «мурлыкал под нос отрывок из какого-нибудь гимна», и тогда в нем закипала «прежняя вера». По вечерам в своей комнате он слышал доносившиеся снизу звуки гимнов, исполняемых на фортепиано, и его охватывало чувство абсолютного умиротворения, а порой на глаза набегали необъяснимые слезы. В письмах он советовал Тео и, вероятно, практиковал сам во время своих бесконечных осенних прогулок по освещенным газовыми фонарями улицам и пустынным сельским дорогам «не стесняться петь гимны вслух… если поблизости нет ни души».
Сам он пел их опять и опять, стих за стихом, милю за милей, гимн за гимном. «Многие из них так прекрасны», – писал он.
Ему нравились слова гимнов: трогательные или строгие, нежные или восторженные, исполненные мольбы или спокойствия, печали или радости. В сборниках того времени печатались только слова и не было нот, и Винсент воспринимал тексты гимнов как поэзию, включая отрывки из них в свои альбомы и письма к родным. Но именно музыка придавала им гипнотическую силу. Несложные мелодии, написанные специально для безыскусного любительского пения и фисгармонии, на которой их легко могли сыграть уличные музыканты, очаровывали слушателей доступностью и узнаваемостью. «Их невозможно не полюбить, – писал Винсент, – особенно если часто слышишь». Во многих из них звучали те же интонации упорной жалобы, что и в письмах Винсента. И его любимый гимн – «Скажи мне весть благую» – напоминает мольбу упрямого ребенка, который никак не хочет уснуть, пока ему не расскажут сказку.
Скажи мне весть спасенья,
Что я Твое дитя;
Устал я от хожденья
По суетным путям.
Скажи мне повесть чудную,
Скажи ее мне вновь,
Скажи в минуту трудную
Мне про Твою любовь!.
И когда через десять с лишним лет Винсент будет писать, что своей живописью он хотел бы сказать «нечто утешительное, как музыка», чтобы в ней было «что-то от вечности», подразумевать он будет именно это. Можно искать предвестия будущего искусства, которое вскоре заявит о себе миру, в детстве и юности Винсента, но нигде его приближение не ощущалось так явственно, как в глубоких чувствах, простых истинах и бессмертных призывах гимнов, что звучали в комнате на четвертом этаже Холм-Корта.
В октябре Винсент получил от родителей известие о том, что его брат Тео серьезно болен. Дорус сразу же отправился к сыну в Гаагу; вскоре приехала и Анна, планировавшая остаться на все время длительного выздоровления Тео. Винсент разразился шквалом утешительных слов и гравюр. «Как бы я хотел увидеть тебя!» – писал он брату, измученному лихорадкой. Охваченный приступом ностальгии, он принялся умолять его преподобие Слейд-Джонса отпустить его на три дня в Голландию. «Кроме того, что я страстно желаю быть рядом со своим братом Тео, – говорил он, – я мечтаю снова увидеть свою мать и, если получится, съездить в Эттен, повидать отца, поговорить с ним».
Со времен отъезда из Эттена, в апреле, Винсент пережил множество мучительных рецидивов тоски по дому. Морское путешествие 1876 г. оживило в его памяти болезненные воспоминания о злополучном возвращении в Англию с Анной в 1874-м. Вид, открывавшийся из окна школы в Рамсгейте, наводил его на мысли о родной земле там, за морем. Из того же окна он наблюдал за учениками, прощавшимися с родителями, и его сердце болело за каждого из них. Чтобы поведать о своей тоске, он отправил домой рисунок с этой горестной сценой, снабдив его не менее печальным примечанием: «Многие из мальчиков никогда не забудут вид из этого окна».
Каждый ученик в Рамсгейте и Айлворте напоминал ему о Тео. Он гулял с ними, строил вместе с ними замки из песка, показывал им репродукции, укладывал в постель, а сам в письмах признавался брату: «Я бы предпочел, чтобы ты был здесь, со мной». После одной из прогулок по пляжу он отправил Тео на память два побега пляжного мха. Во время визита в Хэмптон-Корт в июне он взял перо из гнезда грача, чтобы вложить его в следующее письмо брату. В июле он некоторое время лелеял мысль переехать к брату в Гаагу и даже попросил его помочь найти работу, «связанную с церковью».
Он постоянно писал и другим членам семьи, включая сестру Анну в Уэлине, дядю Кора и кузена Мауве (Сента Ван Гога среди его корреспондентов не было), друзьям семьи (даже Терстеху) и старым знакомым, вроде Франса Сука и Гарри Глэдвелла в Париже. Посещая Лондон, он стремился к тем местам и искал встречи с теми людьми, которые напоминали ему о прошлом: начальник Обах и бывшие коллеги по «Гупиль и K°», вроде Элберта Яна ван Висселинга, Джорджа Рида и Генри Уоллиса. Винсент старался стать своим для Глэдвеллов, которые по-прежнему оплакивали кончину дочери. «Я люблю этих людей, – писал он брату. – Я понимаю их чувства».
Бывая в Лондоне, он не упускал возможности зайти к отцу Гарри в его магазин или прошагать несколько лишних миль, чтобы навестить его семью в Левишеме. Возможно, он даже сделал для них альбом – знак истинно семейной привязанности.
С семьей своего работодателя, его преподобия Томаса Слейд-Джонса и его жены Энни, Винсент пытался использовать тот же прием. У Слейд-Джонса было шестеро детей, он вел сугубо пасторский образ жизни, и его семья, вероятно, казалась Винсенту наиболее подходящей для заполнения пустоты в его жизни. Подобно дому в Зюндерте, где прошло детство Винсента, Холм-Корт представлял собой обособленный мирок; его внутренний двор затеняли громадные деревья, стены заросли виноградом, а на скотном дворе содержали домашних животных. И здесь, как прежде в доме Лойеров на Хэкфорд-роуд, Винсент старался найти для себя место. Он работал в саду, давал уроки детям Слейд-Джонса и читал им на ночь. К праздникам он, следуя ностальгической традиции, украшал дом зеленью. День за днем он усердно трудился над гостевой книгой, которую завела Энни. Заполняя мелким почерком страницу за страницей, он вписывал в нее тексты любимых псалмов, библейских стихов, поэзию и прозу – на французском, немецком, голландском и английском… С маниакальным упорством старался быть причастным к жизни семьи.
В поисках семейного тепла в ноябре он даже навестил Лойеров: не испугавшись возможной неловкости и долгого похода по мрачным улицам зимнего Лондона, он явился в дом на Хэкфорд-роуд, чтобы поздравить Урсулу с днем рождения.
Но и Глэдвеллы, и Слейд-Джонсы, и Лойеры оказались бессильны заполнить пустоту в его душе – лишь его собственной семье это было бы под силу. В октябре новости о болезни Тео вместе с мыслями о приближающемся Рождестве спровоцировали очередной всплеск ностальгии и тоски по дому. «О Зюндерт! – стенал Винсент. – Воспоминания о тебе иногда становятся почти невыносимыми».
Куда бы он ни шел, Винсент всюду видел напоминания о доме. В лондонских галереях он «с особым наслаждением» задерживался у картин с пейзажами родной Голландии. Он рассказывал ученикам истории о «земле, на которой нет холмов», где «дома и улицы так ухожены, словно это игрушки великанов из „Путешествия Гулливера“». Вновь и вновь перед его мысленным взором возникали образы путешествия в родные края: «Как приятно будет выйти из Темзы прямо в море – и увидеть вдали милые голландские берега». Охваченный воспоминаниями и мечтая о скорой встрече, он перечитывал памятные стихи своего детства и копировал сочинения давних любимцев, вроде Лонгфелло.
Сквозь сети дождя и тумана
По окнам дрожат огоньки,
И сердце не может бороться
С волной набежавшей тоски.
Охваченный желанием увидеть родных, Винсент попросил Слейд-Джонса отпустить его в Гаагу, чтобы навестить брата. На первую просьбу Винсента отпустить его в Гаагу Слейд-Джонс ответил отказом, но Винсент просил снова и снова, так жалобно, что в итоге начальник уступил. «Напиши своей матери, – сказал он. – Если одобрит она, одобрю и я».
Но мать не одобрила этой затеи. Письмо Анны с рекомендацией подождать с поездкой домой до Рождества («И пусть тогда Господь осчастливит нас этой встречей») стало для ее старшего сына сокрушительным ударом. Винсент никак не обмолвился об этом в письмах Тео (он знал, что мать их читает), но вложил свои переживания в слова проповеди, которую произнес неделю спустя: «Наш жизненный путь начинается у груди любящей матери на земле и кончается на руках Отца нашего на Небесах… Разве может кто-то из нас позабыть счастливое время нашего детства, а ныне мы покинули отчий дом – ибо так пришлось поступить многим из нас».
После того как мать не разрешила ему приехать повидаться, Винсент ко всему потерял интерес. Круговорот повседневных обязанностей в Холм-Корте, Петершеме и Тернэм-Грин теперь казался ему лишь тяжким бременем. Даже обожаемые им пешие прогулки теперь стали поводом для недовольства в письмах домой. Винсент перестал воображать себя пилигримом и жаловался, что Слейд-Джонс использует его как «мальчика на побегушках» и он вынужден мотаться туда-сюда по окрестностям, совершая бессмысленные «нечеловечески длинные походы». Не добавляло ему радости и новое задание директора школы: теперь он должен был собирать долги за обучение, наведываясь к родителям своих учеников, многие из которых были бедны. (Сам же Слейд-Джонс не торопился выплачивать Винсенту скромное жалованье, невозмутимо уверяя, что «Господь не оставит заботой тех, кто работает для Него».)
Для Винсента, одержимого только мыслью о приближающемся Рождестве и возможности наконец воссоединиться со своей семьей, время тянулось очень медленно. «Как же я жду Рождества и встречи со всеми вами! – писал он Тео. – Мне кажется, что за несколько месяцев я постарел на несколько лет». По вечерам он сидел в своей комнате, безучастно глядя на фотографии родных на стене, и прокручивал в голове дорогие воспоминания о прошлых рождественских праздниках. Одно из них – о том, как два года назад (еще до парижского позора) он возвращался в Хелворт накануне Рождества, когда луна освещала заснеженные тополя, а вдали мерцали огоньки деревни, – не покидало его.
Образы, подобные этому, – заимствованные из литературы, библейских текстов, искусства, гимнов и собственного прошлого Винсента – дарили ему долгожданный покой. Отвергнутый семьей, измученный сожалениями, он замкнулся в одиночестве собственного воображения, где эти блаженные видения, подобно тому как описывала Элиот в романе «Сайлес Марнер», «росли под воздействием множества разных сил… постоянно двигаясь и сталкиваясь друг с другом, приводя к непредвиденным результатам».
Больше других той осенью его мысли занимал образ блудного сына. Не один раз в своей проповеди он пересказывал историю прожигателя жизни, непоседливого юнца. Он был недостоин называться сыном своих родителей, однако же отец с радостью встретил его дома: «Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Эта история промелькнула в levensschets, автобиографии Винсента, и рефреном звучала в его первой проповеди. На стене своей комнаты он повесил репродукцию картины «Возвращение блудного сына» Ари Шеффера, где богоподобный отец принимал в объятия растроганного кающегося отпрыска. Такую же гравюру он просил Тео отправить матери ко дню рождения. Со свойственным ему упорством Винсент повсюду искал этот образ примирения и искупления – в изобразительном искусстве, художественной литературе и поэзии; он обращался к истории блудного сына в своих проповедях и рассказывал ее ученикам перед сном.
Все чаще в словоизлияниях Винсента стиралась грань, разделяющая реальность и фантазию. Его письма заполнила «словесная живопись», вдохновленная великолепными описаниями Элиот, сквозь призму которых повседневное обретало величие вечного. В его рассказах восход, увиденный из окна поезда, становился «настоящим пасхальным солнцем»; дом церковного сторожа, мокнущий под дождем, – прибежищем веры; тихий берег реки сулил отпущение грехов: «Каштаны, чистое голубое небо и утреннее солнце отражались в водах Темзы; трава сверкала зеленью; повсюду разливался звон церковных колоколов». Вообще, закаты и восходы, колокольный звон и шпили церквей, отраженный от воды солнечный свет и огоньки, мерцающие в темноте, прочно обосновались в его словесных полотнах. Стремясь добавить картинам природы утешительной силы, Винсент смешивал свои наблюдения с воображением, не смущаясь изменять и приукрашивать реальность, допуская противоречия и запросто игнорируя все, что не соответствовало замыслу. Его описание лондонских трущоб полностью обошло вниманием неприглядные стороны: грязь, нищету, преступность и страшную перенаселенность; Винсент замечал лишь благочестивых живописных бедняков, субботним вечером мелькавших в свете газовых фонарей и с нетерпением ожидавших дня отдохновения – «главного утешения для жителей этих бедных кварталов».
Образы, заимствованные из литературы и искусства, претерпевали такие же изменения: он упрощал или усиливал их ради того, чтобы наделить их способностью дарить душевный покой. Он произвольно менял названия стихотворений и картин. Он игнорировал несимпатичных ему персонажей и авторские идеи, противоречащие его собственным убеждениям. По примеру иллюстрированных книжек его детства он для большего эффекта подбирал слова к изображению, а изображение к словам. Он вписывал подходящие строки из литературных произведений и библейских текстов прямо на поля гравюр, которые, по воспоминаниям его бывшего наставника, оказывались в результате «буквально испещрены цитатами». Это бесконечное наслаивание словесных и зрительных образов доставляло ему такое удовольствие, что постепенно превратилось в главное средство познания окружающего мира и способ выживания в нем.
Прихожане методистской церкви Ричмонда одними из первых могли заметить путаницу, царившую в голове Винсента. В завершение своей первой проповеди он рассказал им о «великолепной» картине Боутона «Путь паломника». На самом деле картина, которую, скорее всего, имел в виду Винсент, называлась «С Богом! Пилигримы, отправляющиеся в Кентербери во времена Чосера». Он видел ее в Королевской академии в 1874 г. Его описание также не имело ничего общего с пейзажем на картине Боутона. Плоский горизонт и туманное небо превратились у Винсента в ослепительное зрелище холмов и гор на фоне живописного романтического заката («Серые облака с серебряными, золотыми и багряными прожилками»), а невысокие стены укрепленного города – в позаимствованный у Беньяна Небесный Град на вершине горы, озаренный лучами заходящего солнца. Девушка в белом одеянии, которая на картине Боутона дает путникам напиться, в воображении Винсента обернулась ангелом в черном, персонажем сказки Андерсена.
В этом смешении искусства, литературы и Священного Писания главную роль играл сам Винсент, его личность. На картине, созданной его воображением, ангел дарует утешение не группе людей, но одинокому пилигриму, обессиленному после долгого пути. Персонажи изъясняются его любимыми стихами, и неунывающий пилигрим продолжает свой путь, верный завету: «Нас огорчают, а мы всегда радуемся».
Лишь таким способом, объединив реальное, изображенное и воображаемое, Винсент мог подобраться к истинному источнику своего горя и в то же время единственному источнику утешения – к своей семье. В проповедях и сказках на ночь он отождествлял себя с тем одиноким пилигримом на картине Боутона, он чувствовал себя блудным сыном и хотел бы, чтобы снова и снова отец принимал его в свои объятия, как на картине Шеффера. Образы его родных, да и его собственный, смешивались с образами литературных героев и персонажами живописных произведений: так, брат Тео представал в образе героя-революционера, дядя Сент – в образе бюргера Золотого века с гравюры Рембрандта, а мать и отец – в образе нежных, заботливых родителей из стихотворения Джордж Элиот. Любая картина из жизни счастливой семьи напоминала ему о детских годах в Зюндерте; он воображал себя то жестоко разлученным с любящей семьей рекрутом из произведения Консианса, то пастором-диссентером из «Феликса Холта» Элиот, то пилигримом Беньяна.
В конце концов, для Винсента в этом и заключалась утешительная сила искусства и религии: и то и другое служили ему источником образов примирения и искупления, благодаря которым он мог в новом свете увидеть собственную жизнь, полную горечи и неудач. Подчеркнуто личный, исповедальный характер проповеди Винсента наверняка поразил его слушателей. «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего?» – громко вопрошал он словами пророка Исаии. Постоянное смешение Отца Небесного и земного отца, Сына Божьего и человеческого сына придали самому христианству в устах Винсента автобиографический характер. «В природе каждого истинного сына, – писал он, – действительно есть что-то от того сына из притчи, который „был мертв и ожил“».









































