Текст книги "Ван Гог. Жизнь. Том 1. Том 2"
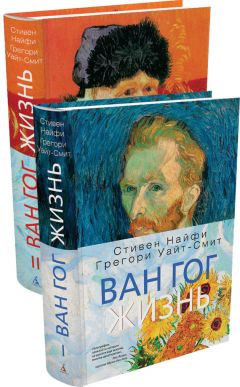
Автор книги: Стивен Найфи
Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 31 (всего у книги 110 страниц) [доступный отрывок для чтения: 36 страниц]
Весь следующий год Зёйдерланд был частым гостем в квартире на Схенквег – насколько это позволял распорядок дома призрения, постояльцам которого разрешалось выходить всего три дня в неделю и отсутствовать лишь до захода солнца. За пятьдесят центов в день (все деньги старик обязан был отдавать богадельне) Винсент наконец заполучил модель, которую мог рисовать сколько угодно. С терпением библейского Иова Зёйдерланд часами стоял неподвижно, и художник имел возможность запечатлеть его во всех мыслимых позах и ракурсах: стоя, сидя, внаклонку, на коленях – анфас, со спины, сбоку. На рисунках старик порой выглядит согбенным и усталым, а иногда демонстрирует настоящую солдатскую выправку. Адриан Якоб позировал с тростью, цилиндром в руке или совсем без головного убора. Иногда Винсент давал ему реквизит – платок, стакан, чашку, трубку, метлу, грабли, иногда просил изобразить человека за едой или чтением или занятого домашними делами. Иногда старик позировал вместе с Син, ее матерью и детьми для «семейных портретов».

Старик с палкой. Карандаш. Сентябрь—ноябрь 1882. 50 × 30 см

Старик во фраке. Карандаш. Сентябрь—декабрь 1882. 48 × 26 см
Хотя пенсионерам было запрещено носить «вне дома какую-либо верхнюю одежду, кроме той, что выдают попечители», по просьбе Винсента Зёйдерланд послушно переодевался в костюмы разнообразных «типов». Рубаха, шляпа и корзина для торфа превращали его в крестьянина, лопата – в углекопа, зюйдвестка – в рыбака, кирка – в шахтера, трубка и свободная блуза – в художника. Винсент усаживал его за стол, складывал ему руки в молитве и рисовал его в образе благословляющего трапезу отца семейства, потом вешал на сутулые плечи холщовую сумку и раз за разом запечатлевал в образе сеятеля.
Зёйдерланд держал каждую позу со стоическим терпением рабочей лошади (Винсент всегда восхищался этими животными). Винсенту редко удавалось заполучить модель больше чем на один-два сеанса и даже в таких случаях приходилось торопиться закончить рисунок, прежде чем лопнет терпение натурщика. Поэтому безропотная покорность Адриана Якоба явилась для Винсента настоящим даром свыше. Теперь он мог не только пробовать новые позы, но работать над каждой из них, переделывая до тех пор, пока не добивался желаемого результата, – учитывая отсутствие у Винсента систематического художественного образования, это было особенно важно. У художника появилась возможность уделять больше времени удачным наброскам и концентрировать свою феноменальную наблюдательность на игре теней в складках пальто или в заломах на башмаках. Винсент вернулся к большому формату и смелым линиям «Скорби», которую по-прежнему считал лучшим своим рисунком, но прибавил энергичную штриховку, свойственную английским гравюрам из его коллекции.
За долгие зимние месяцы, проведенные в мастерской на Схенквег, Винсент привязался к своей терпеливой, послушной и совершенно глухой модели. Подобно старикам-пенсионерам из «Последней поверки» Геркомера, Зёйдерланд, должно быть, напоминал Винсенту одного из неприкаянных «славных ветеранов» эпохи Милле и Диккенса. Бездомный, одинокий, не имеющий детей, друзей и средств к существованию, Зёйдерланд, как и сам Винсент, подобно Робинзону Крузо, потерялся в равнодушном океане жизни. Винсент часто упоминал его в письмах как «старика из богадельни» и называл weesman – «сирота».
Страсть к рисованию, вновь охватившая его, чувство привязанности к ван Раппарду и тоска по прошлому неизбежно должны были слиться воедино и превратиться в очередную манию. В конце октября Раппард прислал письмо, которое сработало как спичка, поднесенная к стогу сена. В письме содержался краткий пересказ статьи Губерта Геркомера. Со свойственной ему не только в живописи, но и в словах эмоциональностью Геркомер восхвалял английских иллюстраторов (не забыв и себя), уверяя, что именно благодаря им черно-белая иллюстрация достигла наивысшего подъема. Его пламенные речи словно сошли на страницу прямиком из собственных размышлений Винсента. Геркомер отдавал дань прежним достижениям в области гравюры на дереве; по его смелому заявлению, иллюстрации, печатавшиеся в одной только «The Graphic», являли собой столь же «правдивое и полноценное» художественное высказывание, что и все картины на стенах всех музеев мира.
В «энергичных словах» Геркомера Винсент нашел подтверждение тем доводам, которые сам приводил в защиту своего непризнанного искусства. По мнению Геркомера, искренность художника значит больше, нежели ловкое владение кистью, смелость важнее опыта, а сила духа важнее выучки. Он отстаивал «моральные преимущества» рисунка над другими формами, ставил рисовальщиков выше всех прочих художников, предпочитал тон цвету, а рвение – тщательности. Его слова превратили отчуждение Винсента и его тоску по несбыточному в знаки доблести. Геркомер предостерегал от опасности «пагубного конвенционализма» и сокрушался по поводу декадентских тенденций в современном искусстве (даже в самой «The Graphic»), яростно нападая на «дурацкую школу» импрессионистов, придуманную «незрелыми» художниками, готовыми писать «все и вся, что только видят в Природе, без оглядки на красоту, без интереса к выбранной теме».
Немец по рождению, Геркомер вырос в Америке и для закрытого клуба английских художников оставался аутсайдером. Описание начала его художественной карьеры – Геркомер был всего на четыре года старше Винсента, – как в зеркале, отражало самые сильные страхи последнего. Геркомер тоже пережил нищету и презрение. Как и Винсент, он был не в состоянии платить за жилье, с трудом находил модель и подвергался гонениям. Сама его манера выражаться на английском языке – неуклюжая, вычурная и так напоминавшая английский Винсента – была близка его голландскому собрату. «Вся статья – поразительно здравая, сильная, честная… Она вдохновляет меня – сердце радуется, когда слышишь такие речи».
Полемический пафос Геркомера, то распаляя, то обнадеживая Винсента, раздул в нем преданность черно-белому рисунку до масштабов апостольской проповеди. Как и пятью годами ранее в Амстердаме, искреннее увлечение уступило место оголтелости фанатика. В письмах Винсента после долгого перерыва вновь появились упоминания изображений на религиозные темы, а заодно высокопарные пассажи, отсылающие непосредственно к Священному Писанию («По трудам их узнаете их, и не будет красноречивее всех тот, кто говорит правдивейшие слова. Вспомни о Милле, вспомни о Геркомере»…). Свою коллекцию репродукций он называет «чем-то вроде Библии», утверждая, что она приводит его «в благочестивое настроение». Подобно новому Савонароле, он бесконечно протестует против декадентства и упадка, царящих в новом искусстве, против вырождающегося современного общества, против наплыва поверхностного и условного, против возвышения материального величия над величием моральным.

На пороге вечности. Карандаш. Ноябрь 1882. 50 × 31 см
Той осенью, открыв путь к спасению, Винсент исступленно работал над рисунками у себя в мастерской, используя в качестве натурщиков не только Син с семьей и «сироту» Зёйдерланда, но и других стариков из богадельни, детей из сиротского приюта и работников из плотницкой мастерской по соседству. Работал он и на улице, делал наброски лошадей – платил хозяевам, чтобы те удерживали животных на месте, пока он не закончит. «Я работаю изо всех сил, – докладывал он брату, объясняя баснословный расход бумаги. – Чем больше их делаешь, тем лучше понимаешь, сколько еще нужно сделать». Отдавая дань новоявленному Фоме Кемпийскому, Винсент начинает серию портретов наподобие цикла Геркомера «Народные типы», выполненного по заказу «The Graphic». Нарисованные с моделей, но задуманные как галерея распространенных, узнаваемых типов (Шахтер, Рыбак, Крестьянин), портреты Геркомера привлекли внимание Винсента за несколько месяцев до знакомства со статьей художника. Экземпляры «The Graphic» с иллюстрациями из этой серии он посылал Тео еще в июне.
В середине октября, приблизив перспективную рамку к модели, Винсент делает несколько большеформатных погрудных портретов Син, ее матери и Зёйдерланда. Надевая на позирующих разные головные уборы – шляпу, шапку, чепец, зюйдвестку, – он придавал им узнаваемые черты определенного типа в расчете, что это сделает образ универсальным. Не утруждая себя задачей передать портретное сходство («тип выкристаллизовывался из многих индивидуальностей», – сообщал он Тео), он создавал густо затененные, мрачноватые и довольно ходульные зарисовки характерных персонажей. Лишь считаные работы, выполненные в ту зиму, – портрет десятилетней сестры Син, с остриженной из-за вшей головой и настороженным взглядом, и книгопродавец Йозеф Блок, с напряженным выражением лица и нетерпением в глазах, – намекают на нечто более глубокое, чем то, что предлагали зрителю бесстрастные светские иконы Геркомера.
В ноябре, по-прежнему под впечатлением геркомеровской «Последней поверки», он тоже попытался передать на бумаге пафос неотвратимости смерти. Острое осознание того, что каждый человек смертен, настигло художника еще во время его печального пребывания в Боринаже. Среди своих работ он отыскал рисунок, выполненный год назад в Эттене: закрыв лицо руками, на стуле сидит несчастный старик, угнетенный тяготами жизни и ее тщетностью. Винсент усадил Зёйдерланда в ту же позу, установил перспективную рамку и набросал абрис надломленной, придавленной горем фигуры. Со времен «Скорби» ни один рисунок не стоил ему стольких усилий, ни один не был нагружен таким количеством смыслов. «Я пытался выразить… то, что кажется мне одним из убедительнейших доказательств существования quelque chose là-haut,[39]39
Нечто возвышенное (фр.).
[Закрыть] – объяснял он брату в комментарии, больше похожем на проповедь. – В бесконечно трогательном жесте этого жалкого старика… есть нечто благородное, нечто великое. Не может быть, чтобы и это тоже пошло на корм червям».
Но никакая картина спасения не была полной для Винсента, если не давала надежды на примирение с семьей: семья была источником, питавшим все его мании. Но и здесь пример Геркомера обнадеживал Винсента. Его кумир не просто сам был знаменитым, преуспевающим иллюстратором, но пророчил успех и достаток художникам, вроде Винсента, «в эпоху, когда признание и вознаграждение за труды не заставят себя долго ждать». Все в той же статье Геркомер авторитетно заявлял, что художник, специализирующийся на печатной графике, может неплохо заработать на жизнь и не тревожиться относительно продаж. Почему? Да потому, что в новую эпоху буржуазного потребления (эпоху «утилитарности и спешки», как он ее называл) гравюры на дереве неизбежно будут пользоваться бо́льшим спросом, нежели остальные формы изобразительного искусства. Дешевые, легко тиражируемые и «понятные большинству публики», они сулят «удовольствие и моральное удовлетворение» массовому зрителю, а массовый зритель всегда «шумно требует еще и еще того, что ему по нраву».
Подобные обещания для Винсента, задумавшего рискованный художественный проект, были точно манна небесная. Несмотря на все препирательства с Мауве и Терстехом, Винсент не расстался с вывезенной из Боринажа идеей – начать самому себя обеспечивать. Переписка с Тео неизменно полна метаний между высокопарными рассуждениями о миссии художника и торжественными заверениями, что коммерческий успех не за горами. Слова Геркомера звучали обещанием освободить Винсента от необходимости мучительного выбора. Посредством дешевой в производстве серийной гравюры простое и искреннее искусство может напрямую обращаться к людям и не зависеть от «пагубного влияния» торгашей, вроде Терстеха; искренний, чистый сердцем художник может пожать лавры успеха, не жертвуя собственной душой.
Прочитав статью Геркомера, Винсент через несколько дней приступил к созданию образа, который должен был воплотить идеальный баланс успешности и верности себе. Мысленно ориентируясь на невероятно популярную «Последнюю поверку», Винсент решил «создать черно-белое произведение искусства на эффектную тему, которое привлечет внимание и обеспечит репутацию». И тогда он сумел бы, подобно Геркомеру, побороть презрение коллег, неприятие родственников и безразличие окружающего мира.
В конце октября Тео невольно подыграл брату, описав в письме новинки в области литографии – традиционного способа массового производства оттисков, отодвинутого на второй план более современными технологиями, вроде фотогравирования. Поскольку литография подразумевала выполнение рисунка непосредственно на литографском камне (с которого затем делались оттиски), считалось, что эта техника максимально передает манеру художника, а также сообщает особую выразительность и бархатистость черному цвету. Препятствием, особенно для молодых художников, была сложность (и дороговизна) работы жирным литографским карандашом на известняковых пластинах. В своем письме Тео рассказал брату о новой технике, которая позволяла художникам наносить рисунок литографским карандашом на особую бумагу и уже затем механически переносить его на камень, минуя, таким образом, самый сложный и дорогостоящий этап процесса. «Если это правда, – немедленно откликнулся Винсент, – пришли мне все, что сумеешь раздобыть, насчет того, как работать с этой бумагой, и постарайся достать мне пару листов, чтобы я мог попробовать». Брат не спешил с ответом, и Винсент сам приобрел бумагу в типографии Смулдерса. За считаные часы он успел вернуться домой, перенести на лист один из набросков Зёйдерланда и вернуть его для печати потрясенному приказчику в типографии. Оттиск привел Винсента в такой восторг, что, не дожидаясь реакции Тео, он задумал изготовить целую серию подобных оттисков, «грубых, но дерзких», и заказал у Смулдерса шесть каменных пластин. Образцом должны были послужить «Полевые работы» Милле – культовые образы возвышающего душу труда, которые когда-то стали для Винсента путеводной звездой и помогли выбраться из черной страны. Он начал с рисунка «Женщина с мешками угля», еще одной версии рисунка «На пороге вечности», а в качестве следующего листа серии задумал изобразить «небольшую процессию» женщин-шахтеров.

Женщины-шахтеры. Акварель, бумага. Ноябрь 1882. 32 × 50 см
В порыве энтузиазма Винсент уже воображал, как задуманный альбом литографий обеспечит ему работу иллюстратора или, по крайней мере, создаст ему «имя в… редакциях журналов». Винсент планировал перебраться в Англию и там попытать счастья: был убежден – когда начнется возрождение литографии (по его мнению, это должно было случиться со дня на день), английские газеты и журналы будут «испытывать нехватку умелых рисовальщиков». В Лондоне он планировал встретиться с самим Геркомером, а также с издателями знаменитой «The Graphic». «Не думаю, что к ним каждый день приходит художник, готовый сделать иллюстрацию своим призванием», – писал он. Два из тех рисунков, которые Винсент повторил для воспроизведения с литографского камня, были названы по-английски: «Скорбь» (Sorrow) и «На пороге вечности» (At Eternity’s Gate).
Воображаемая картина скорого успеха была столь убедительной, что развеять ее было не под силу никаким препонам. Винсент с самого начала надеялся, что его блестящий план приведет к еще более тесной дружбе с Антоном ван Раппардом, который, разумеется, тоже сделает несколько рисунков для задуманной серии. Стоило Раппарду выразить осторожные сомнения, Винсент тут же выдвинул новый, еще более грандиозный замысел: собрать группу художников-единомышленников. Каждый будет участвовать в масштабном предприятии как своими иллюстрациями, так и деньгами, и все они станут работать вместе, как когда-то, в дни расцвета газеты «The Graphic», делали английские иллюстраторы.
На всех этапах этого заведомо нереального предприятия Винсент яростно отстаивал свою идею: бредовые фантазии немыслимым образом сочетались с практическими выкладками, вдохновение с рассудительностью – все это впоследствии станет его художественным кредо. Он рассматривал свой проект ни больше ни меньше как моральный долг и, пытаясь привлечь на свою сторону брата, прибегал к революционной риторике в духе 1793 г.: «Нужно не рассуждать, а действовать… Впереди великие дела… En avant et plus vite que ça».[40]40
Наступать, и как можно стремительнее (фр.).
[Закрыть] Винсент во всех подробностях разрабатывал манифест этой мнимой группы художников-революционеров, определяющий не только художественную программу (материалы, темы и цены), но и порядок распределения расходов и прибыли между участниками, процедуру голосования, долю каждого в общем котле материальных ценностей.
Но затея провалилась. Грандиозные планы пали жертвой безудержного прожектерства. Тео, который давно научился общаться со своим неуемным братом посредством дозированных пауз, прямо ни разу не высказался по поводу авантюры с альбомом. По правде говоря, и сам Винсент не до конца верил в коммерческий успех своего начинания, переходя от уверенности к сомнениям порой в одном и том же письме. Не менее часто он менял и свое отношение к известности, то надменно отвергая общественное признание («Такие вещи меня совершенно не волнуют»), то – в ответ на просьбу рабочих Смулдерса повесить экземпляр одной из его литографий в магазине – принимаясь восхвалять способность «человека с улицы» понимать искусство и планируя украсить литографиями «дом каждого крестьянина и рабочего» (с тем, чтобы несколько недель спустя вновь с презрением отзываться о вкусах общества).
Даже собственное творчество подводило его: никакая техника не могла устоять под натиском его искусства, вобравшего всю его страсть, тоску и желание себя оправдать. Из всех техник литография оказалась особенно коварной. Результаты разочаровывали его на каждом этапе. Двойной перенос – с рисунка на камень и с камня на оттиск – вносил в творческий процесс массу неожиданностей. Неприятные сюрпризы вызывали у него вспышки раздражения. При печати чернила расплывались и оставляли кляксы, изображения получались смазанными. Литография была столь же беспощадна к ошибкам, как и акварель: стоило жирному литографскому карандашу коснуться бумаги, пути назад уже не было. Винсент пытался стирать карандаш скребком для камня, но такого не выдерживала даже самая плотная бумага, от которой оставались одни лохмотья. Он пробовал «усилить» рисунок автографическими чернилами, но, стоило смочить бумагу для перевода изображения на камень, чернила растворялись, оставляя «вместо рисунка сплошное черное пятно». Тогда Винсент попытался вносить поправки прямо на камне, используя в качестве ластика перочинный нож. В конце концов он стал дорабатывать детали и фон на полученных оттисках пером и чернилами.
Винсент без конца жаловался брату, как много рисунков «пропадает при переносе»: оттиски казались ему менее выразительными, чем оригиналы, они были лишены «живости» и «нюансов тона». Винсент находил неудовлетворительными даже лучшие из них, худшие же называл неудачными и провальными. Оттиски, которые Винсент отправлял Тео, он сопровождал извинительными надписями от руки. В последних числах ноября, всего четыре недели и шесть изображений спустя, Винсент объявил о кончине проекта, признавшись брату: «Недовольство скверной работой, череда неудач и технические трудности вгоняют тебя в ужасную хандру».
Решающий удар неожиданно нанесла редакция «The Graphic». В рождественском номере 1882 г., публично ответив на горестные стенания Геркомера, редакция газеты развенчала пугающие прогнозы художника относительно нехватки профессиональных рисовальщиков. «Помимо наших профессиональных художников, – похвалялась редакция, – у нас не менее двух тысяч семисот тридцати разбросанных по всему миру корреспондентов, которые присылают нам беглые наброски или искусно сделанные рисунки». Эта статья в пух и прах разбила остатки доводов в пользу коммерческой жизнеспособности задуманного Винсентом проекта. Единственное, что ему оставалось, – это послать Тео экземпляр газеты с редакционной статьей, сопроводив ее потоком яростных слов осуждения.
Последние надежды рухнули. «Это печалит меня, убивает всякое удовольствие от работы, я расстроен и вообще нахожусь в полной растерянности и не понимаю, что делать, – откровенно признался Винсент. – Когда я начинал, я думал, что стоит только мне освоить то или это, как я получу заказ, встану на верный путь и найду свое место в жизни».
Тем временем у него дома, на Схенквег, дела обстояли тоже далеко не безоблачно.
На смену летним штормам пришла суровая зима. Перенесенная болезнь давала о себе знать всю осень. Он жаловался на «жуткую слабость» и «вялость», чувствовал себя «совершенно разбитым», легко уставал, часто простужался и плохо спал. Его изводили приступы мучительной зубной боли, резко отдававшейся в голове и ушах. Глаза порой болели так, «что даже просто на что-то смотреть требовало усилия». Плохое питание и, вероятно, злоупотребление алкоголем усугубляли его недуги. Встречая его на обледеневших гаагских улицах, знакомые замечали воспаленные глаза и ввалившиеся щеки – по его виду можно было предположить, будто Винсент «пустился во все тяжкие… явно пошел по кривой дорожке».
Стоило пройти эйфории от рождения ребенка, как Винсент стал замечать, что с новой семьей не все ладно – сигналы бедствия прорывались сквозь завесу данного им обета молчания. Жизнь на Схенквег утратила былую беспечность. Туманные рассуждения в письмах иносказательно говорили, что Винсента постигло разочарование: «Необходимо снова взять себя в руки и набраться мужества, даже если дела пошли совсем не так, как ты предполагал». Намерения еще раз сто нарисовать колыбельку Винсент больше не высказывал.
Снова и снова провозглашая намерение во что бы то ни стало двигаться вперед, Винсент с трудом преодолевал приступы усиливающейся депрессии – в такие дни, по его словам, «жизнь окрашивается в цвет помоев». «При мысли о том, как обстоят дела, на сердце у меня становится тяжко», – признавался он брату. Временами он, казалось, терял интерес к работе, жаловался на ее невыносимую монотонность и, глядя на кипы набросков, мрачно заявлял: «Они меня не интересуют… Все кажутся никуда не годными». Даже драгоценная коллекция иллюстраций и та утратила утешительную силу. После того как Винсент заботливо развесил по стенам очередную пачку гравюр, его охватило «печальное чувство – „зачем все это?“»
С приближением Рождества Винсент вновь обрел решимость заполнить пустоту, оставленную старой семьей, при помощи новой. Надежду этим усилиям придавала привязанность к малышу Виллему. Винсенту казалось, будто он видит «во взгляде младенца нечто более глубокое, беспредельное, вечное, чем океан». Он заставил Син позировать с ребенком на руках, пытаясь воплотить образ искупления. Для Винсента, как и для Диккенса, в искуплении заключалась вся суть рождественской истории. «Сирота» Зёйдерланд позировал в роли читающего Библию или молящегося: этими двумя рисунками художник намеревался «выразить особый дух Рождества». И сам он, вероятно, сидя у камелька, читал «Рождественскую песнь» Диккенса, которую, как признавался Раппарду, «перечитывал почти ежегодно с тех пор, как был мальчиком».
Но у Диккенса была и другая рождественская фантазия – «Одержимый», ее Винсент тоже перечитал той зимой. По мере приближения годовщины ссоры с отцом и изгнания из Эттена Винсент все больше напоминал одинокого героя этой повести, жаждущего забыть все прошлые печали, обиды и невзгоды.
Горечь постоянных неудач, чувство вины, неисполненного долга преследовали его день и ночь: «Чувство такое, что вот-вот наскочишь на риф». В своем отражении в зеркале Винсент видел «прокаженного» – несостоявшегося художника, неудачника. «Впору издали кричать людям, как делали в прежнее время прокаженные: „Не подходите ко мне – от меня вам будет лишь горе и вред!“» К концу года Винсент признал крах своего грандиозного художественного проекта и смиренно повинился брату: «Прости, что так и не сумел сделать в этом году ни одного пригодного для продажи рисунка. Даже не знаю, в чем загвоздка».
В первый день нового, 1883 г. из Парижа пришло неожиданное признание, позволившее Винсенту приподнять завесу молчания над своими усилиями создать подобие семьи на Схенквег. Тео завел любовницу. В порыве солидарности Винсент рассуждал о проблеме, с которой теперь столкнулись оба брата: «Мы оба – и ты, и я, каждый в свое время, увидели на холодной, бездушной мостовой фигурку печальной, несчастной женщины, и оба не прошли мимо». Ухватившись за возможность вновь утвердиться в правах старшего брата, Винсент в письме к Тео прочел ему лекцию о превратностях и, главное, переменчивости любви, о вечной смене «увядания и расцвета… приливов и отливов… В любви… случаются минуты упадка и бессилия» – обо всем этом Винсент знал не понаслышке. Но от мудрых наставлений Винсент, прежде связанный обетом молчания, очень скоро перешел к исповеди, повествуя брату о своих столь долго скрываемых обидах и горестях.
Из писем Винсента знал о них и ван Раппард. «У меня были неприятные переживания, – описывал Винсент свою жизнь с семейством Хорник, – порой просто скверные». Непрерывный плач малыша Виллема нарушал и без того неспокойный сон художника. Дочь Син слонялась без дела; истинное дитя улицы, она ко всему относилась с недоверием и неизменно служила громоотводом во время скандалов. Сестра Син оказалась «невыносимым, злобным и порочным созданием». Вместе они «пустят меня по миру», возмущался Винсент. Сама Син за долгий период выздоровления расплылась и обленилась. Даже когда она снова начала позировать – лишь урывками, настаивая, чтобы Винсент платил ей за работу наличными, – она прекратила что-либо делать по дому. Несговорчивость этой женщины могла распространяться и на прочие супружеские обязанности: Винсент признавался, что уже не испытывает к ней «страсти», только «бесконечную жалость».
Он критиковал ее за невеселый нрав и невоспитанность – те самые качества, которые он превозносил полгода назад, усматривая в них особые приметы безвинной жертвы общества. Его раздражала ограниченность Син, неспособность оценить книги и искусство – с этим изъяном тяжело было примириться, когда весь мир отвернулся от Винсента. «Если бы я не искал искусство в повседневной жизни, я, вероятно, счел бы эту женщину глупой», – признавался он в минуту жестокого прозрения и туманно намекал на нечто из прошлого Син, что нанесло жестокий удар его любви – погубило ее. «Когда Любовь мертва, – вопрошал он, – может ли Сострадание по-прежнему жить и бодрствовать?» Он мрачно намекал на пропасть, возникшую между ними: «Я не могу здесь довериться ни единой душе».
В разгар этой мелодрамы Винсент стал постепенно терять свое влияние на Антона ван Раппарда. Началось все с очередного спора о слабости рисунка в литографиях Винсента. Но поскольку участие Раппарда в проекте служило доказательством жизнеспособности всего предприятия, Винсент воздерживался от реакции на замечания друга до самых рождественских праздников. Изоляция, от которой он так страдал, лишь усугубила свойственную Винсенту в любых отношениях навязчивость. Винсент посылал ван Раппарду книги и стихи, давал профессиональные советы, рассыпался в комплиментах и заверениях в дружбе. Самым настоятельным образом он предложил Раппарду обмениваться визитами в мастерские друг друга и планировал совместные поездки на этюды, даже предлагал другу вместе отправиться в Боринаж. «Я считаю любовь, равно как и дружбу, не только чувством, – писал Винсент, – но, прежде всего, действием».
Постоянно взывая к «духовному единению», Винсент мечтал о привязанности, которая превосходила бы обычную дружбу: «Когда разные люди преданы одному и тому же делу и вместе работают, они обретают силу в единении». Это была та связь, к которой он без конца призывал Тео, не в силах избавиться от наваждения: двое на рейсвейкской дороге – два брата, связанные воедино общими чувствами и мыслями; освященный искусством союз «двух достойных людей… с общими намерениями и целями в жизни, ведомых единым серьезным замыслом». И хотя его сомнительная репутация свела на нет мечту о благородном объединении художников – реинкарнации «The Graphic», Винсент по-прежнему надеялся на слияние «человеческих сердец, которые ищут одного и чувствуют одинаково. Таким все подвластно!» – восклицал он.
Стремление обрести подобное духовное единство с Полем Гогеном шестью годами позже приведет Винсента к катастрофическим последствиям.
Утопические образы семейных или дружеских связей не оставляли места компромиссу. В деспотичном мире Винсента Раппард не мог проявлять независимость или в чем-то превосходить своего друга. «Мы находимся примерно на одном уровне, – писал он Тео, – я не пытаюсь соревноваться с ним как с живописцем, но не позволю победить себя в рисунке». «Я презирал бы дружбу, в которой обе стороны не прилагали бы усилий, чтобы держаться на одном уровне», – провозгласил он, поднимая на пьедестал идеальный и вечный союз равных.
Ни одна дружба не могла бы долго существовать в условиях таких непомерных требований. В марте 1883 г. Раппард заявил о намерении представить свою картину на выставке в Амстердаме – и тут же последовала размолвка. В ответном письме Винсент разразился шквалом протестов. С яростью отвергнутого возлюбленного он порицал саму идею выставлять работы. Ссылаясь на свою осведомленность и опыт работы в «Гупиль и K°», Винсент яростно клеймил выставки: это чистый обман, дешевая профанация единомыслия и сотрудничества во времена, когда художникам больше всего не хватает «взаимной симпатии, единства стремлений, сердечной дружбы и честности отношений».
Раппард отреагировал на эту тираду самым неприятным образом – просто не заметил ее. Его картина «Художники» экспонировалась на Международной выставке, которая открылась в Амстердаме два месяца спустя. Винсент, естественно, попытался наладить испорченные отношения. В мае ему наконец удалось организовать долгожданный обмен визитами. Но сделанного было уже не исправить. Винсент еще пытался что-то предпринять, но через два года все было кончено. Больше они с ван Раппардом никогда не общались.
Чувствуя охлаждение со стороны ван Раппарда, Винсент стал искать других, более сговорчивых компаньонов, вроде Хермана ван дер Веле – зятя управляющего лавкой по продаже красок, где Винсент нередко покупал в долг материалы для живописи. Работая учителем в местной школе, ван дер Веле в совершенстве владел умением подбадривать, не одобряя, – Винсент же с готовностью принимал отсутствие критики за похвалу. «Рассматривая мои наброски, он не торопился сказать: „Это или то неправильно“», – описывал он один из визитов ван дер Веле в его мастерскую. Той весной, получив одобрение нового друга, Винсент наконец оставил в покое напряженные одинокие фигуры и «народные типы», которые так занимали его всю зиму.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































