Текст книги "Ван Гог. Жизнь. Том 1. Том 2"
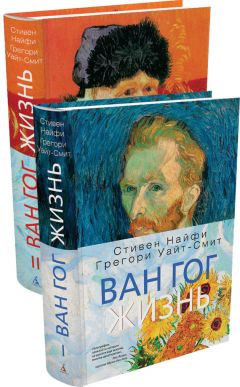
Автор книги: Стивен Найфи
Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 30 (всего у книги 110 страниц) [доступный отрывок для чтения: 36 страниц]
Вечный сирота
Рыбаков на берегу, должно быть, удивляла одинокая фигура странного человека на вершине дюны, внимательно наблюдавшего, как они сражаются с морем. Едва ли он был праздным путешественником – для осмотра достопримечательностей погода выдалась слишком суровой. Там, где стоял незнакомец, песок был исхлестан дождем и ураганным ветром. Каждое лето небольшую рыбацкую деревушку Схевенинген наводняли горожане с их передвижными купальными кабинами, но за бушующей природой они предпочитали наблюдать из укрытия – с веранд отелей и из окон своих номеров. Втаскивая на берег плоскодонки для ловли креветок, пока их не разметало бурей, рыбаки, скорее всего, и вообразить не могли, что одинокий человек, наблюдающий за ними с продуваемой всеми ветрами возвышенности, – художник.
Винсент был готов к встрече со стихией. Несмотря на теплую августовскую погоду, собираясь в дюны, он надевал толстые штаны, чтобы не пораниться об острую прибрежную осоку. В качестве табурета использовал грубую рыбацкую корзину – иногда отбрасывал ее в сторону и рисовал, стоя на коленях, сидя или даже лежа на песке. На случай ненастья – такого, как в тот день, – на ноги Винсент надевал крепкие башмаки. В намокшей от дождя, прилипшей к телу льняной блузе он казался себе «похожим на Робинзона Крузо».
До Схевенингена Винсент был вынужден добираться пешком: с бесчисленными материалами и приспособлениями, которые он брал с собой, художник едва ли смог бы зайти в вагон парового трамвая. Сразу после отъезда Тео Винсент, с пачкой денег в кармане, немедля отправился покупать материалы для живописи: новую коробку красок, палитру, кисти и краски в тюбиках (они появились недавно, освободив художников из плена мастерских). Еще он приобрел новый акварельный набор, значительно усовершенствовав процесс работы, – до этого ему приходилось, мирясь с неудобствами, смешивать краски в блюдечках. Нагруженный громоздкой перспективной рамкой, натянутым на подрамник холстом с пришпиленной к нему бумагой, да еще в придачу хлебом и кофе (провизией на день), он пешком преодолевал неблизкий путь от Схенквег до моря – испытание не из легких даже в хорошую погоду.
Но в шторм все усилия теряли смысл: непогода стирала вид в перспективной рамке, краски и кисти покрывались слоем песка всякий раз, когда Винсент открывал коробку. Натянутый холст норовил улететь с каждым порывом ветра. Подобные катаклизмы не раз заставляли художника искать убежища в трактире за дюнами. В конце концов он стал оставлять там бо́льшую часть своих материалов. Как только буря стихала, Винсент выдавливал на палитру краски, рассовывал по карманам тюбики и снова бросался в бой: одной рукой крепко держа холст, другой – сжимая палитру и пару кистей, он карабкался по мокрым, открытым всем ветрам дюнам. «Ветер дул так сильно, что я едва мог устоять на ногах, – описывал он эту сцену Тео, – и почти ничего не видел из-за песчаной пыли».
Казалось, буря придает ему сил: в противостоянии стихии Винсент ощущал себя по-настоящему живым. Блуза хлопала на ветру, но это не мешало ему стремительными движениями руки от палитры к холсту запечатлевать на нем наплывающие серые тучи и темное, изборожденное волнами море. В исступлении он накладывал краску «жирно, пастозно» – ни отсутствие опыта, ни бесполезность перспективной рамки нимало не беспокоили его. Это был истинный акт творения, куда более подходящий буйному темпераменту художника, нежели работа над натюрмортом в тихой мастерской Мауве (до того времени – единственный его опыт работы масляными красками). Как минимум дважды буря загоняла его обратно в помещение – холст оказывался облеплен «толстым слоем песка», так что приходилось соскребать краски и начинать сызнова, повторяя сюжет по памяти. В конце концов Винсент оставил холст в трактире, «время от времени возвращаясь на берег за свежими впечатлениями».
В этом безумии, когда творческий порыв сливался с буйством природы, Винсент сделал для себя поразительное открытие: оказывается, он мог писать красками.
«Когда я пишу, – признавался он Тео, – я чувствую, как цвет придает моим работам качества, которыми они прежде не обладали, – широту и силу». После недолгих сомнений он со свойственными ему импульсивностью и самозабвением бросился осваивать новую технику. В какой-то месяц Винсент написал не менее двух десятков пейзажей – море, леса, поля, сады. Он работал «с раннего утра до поздней ночи», «почти не прерываясь, чтобы перекусить или утолить жажду».
Приключения, сопутствовавшие его работе, доставляли Винсенту какое-то мальчишеское удовольствие. Убежденный, что в сырую погоду все выглядит лучше, Винсент кидался в поисках сюжетов для своих картин под каждый ливень и опускался на колени прямо в грязь. На одной из его картин – девочка в белом платье стоит под деревом, положив руку на ствол; лесная подстилка передана густыми мазками коричневого и черного с таким сладострастным правдоподобием, что «ты чувствуешь запахи леса». Он наслаждался осязаемостью и податливостью масла – как это было не похоже на акварель! Он щедро размазывал краску по холсту или бумаге («Не стоит жалеть!» – восклицал Винсент) и безжалостно соскребал ее в случае неудачи. Словно остерегаясь слишком долгих раздумий, он выдавливал краску из тюбика прямо на холст и смешивал цвета прямо тут же, на холсте, энергично орудуя кистью.
Результаты поражали его самого. «Вне всякого сомнения, никто не догадается, что это первые в моей жизни этюды маслом, – с гордостью писал Винсент брату. – Сказать по правде, это меня немного удивляет – я ожидал, что первые мои вещи будут из рук вон плохи… но, по-моему, они действительно удались». «Я сам не знаю, как я пишу. Я сажусь перед чистым холстом в том месте, которое мне чем-то приглянулось, и смотрю на то, что у меня перед глазами». Живописные этюды казались Винсенту столь удачными, что сменили на стенах его мастерской драгоценные зарисовки фигур. В письмах он взахлеб описывает и сюжеты, и все оттенки своей палитры. В живописи, по мнению Ван Гога, «есть нечто бесконечное», он воспевает подвластные ей «скрытые созвучия контрастов цвета», доходя до недавно еще немыслимого заключения: «Живопись – более благодарное занятие, чем рисование». Она «восхитительно передает настроение», восторгался Винсент, словно впервые взяв в руки кисть. «Живопись настолько близка мне, что трудно представить, как я мог бы теперь не заниматься ею постоянно». «У меня душа живописца», – провозгласил он.
А потом вдруг взял и отказался от живописи. Почти месяц героических усилий, безжалостного расхода красок, клятвенных заверений, что он решительно настроен двигаться вперед и ковать железо, пока горячо, – и на этом все внезапно кончилось. В оправдание столь стремительного разворота Винсент приводил множество аргументов. Главный – и наименее убедительный – стоимость материалов. «Хотя мне нравится это занятие, из-за чрезмерных расходов я пока не буду писать столько, сколько мне хочется и сколько от меня требуют мои устремления».
В действительности все, конечно, обстояло куда сложнее и трагичнее.
Мечта Винсента сбылась. Страстное желание иметь свою семью, уединенный островок в стороне от реального мира, воплотилось в жизнь. Никто не навещал его, да и ему самому не к кому было пойти. Дни напролет он проводил на этюдах, и даже его постоянным моделям не было смысла тащиться к художнику в мастерскую. Коллеги и знакомые, начиная с Мауве и Терстеха, совершенно его оставили. Они «считают меня изгоем», понимал Винсент. «Смотрят на меня сверху вниз и считают ничтожеством». Встретив Винсента на улице, они презрительно насмехались над ним. Если же Винсент первым замечал кого-то из них, то старался незаметно избежать столкновения. «Я намеренно уклонялся от встречи с теми, кто, по моим представлениям, стыдился меня».
Поначалу Винсент делал вид, будто подобная изоляция его не заботит, и заявлял, что не понимает, почему желание окружающих общаться с ним оказалось «недолговечным, как горящая солома». Иногда он винил во всем свою грубую внешность, неумение общаться или чрезмерную чувствительность. Иногда давал волю параноидальным подозрениям, воображая, будто о нем «думают невесть что и распространяют самые странные и скверные слухи», и жаловался на неспособность художников по-братски поддерживать друг друга. Но иногда ему все-таки приходилось признать очевидное: «Они считают, что я веду себя глупо».
Постепенно становилось ясно, какой ценой оплачено его иллюзорное семейное счастье: Винсент оказался в полном одиночестве. Осваивая новые художественные территории, он особенно остро переживал отсутствие общения с наставниками и коллегами. Вспоминая Мауве, Винсент попеременно то приходил в ярость, то горько сожалел о потере учителя. «Я часто ощущаю потребность попросить у кого-нибудь совета», – признавался художник. «Каждый раз, когда я думаю об этом, на сердце у меня становится тяжко». Винсент страстно желал наблюдать, как работают другие художники, и мечтал, «чтобы они принимали меня таким, каков я есть».
Подобные размышления порой приводили его к самым мрачным выводам. Так, к примеру, чтение саги Эмиля Золя о вырождении семьи заронило в его голову мысль о наследственном проклятии и неотвратимости судьбы. «Что я такое в глазах большинства? – жаловался Винсент. – Ноль, чудак, неприятный тип, некто, у кого нет и никогда не будет положения в обществе, – словом, ничтожество из ничтожеств». В поисках утешения мысли его вновь и вновь возвращались к истории Робинзона Крузо, потерпевшего кораблекрушение моряка, «который не утратил мужества в своем одиночестве».
Даже на любимой Гест, вдали от буржуазных предрассудков семьи и коллег-художников, Винсент не чувствовал себя в своей стихии. Потрепанная одежда, странные манеры и непонятные приспособления у него в руках привлекали нежелательное внимание со стороны не только отчаянных уличных сорванцов, но и простых прохожих, которые не отказывали себе в удовольствии высказаться. «Ну и художник!» – услышал как-то Винсент позади себя. Странного человека, яростно царапающего карандашом по огромному листу бумаги, не раз просили покинуть общественные места – столовые для бездомных, вокзалы. Однажды на картофельном рынке кто-то из толпы «выплюнул мне на бумагу жевательный табак, – в отчаянии сообщал брату Винсент. – Видя, как я рисую бессмысленные для них крюки и загогулины, они, наверное, думают, что я просто сумасшедший».
Со временем Винсента стало выбивать из колеи уже само присутствие людей рядом. «Ты не представляешь себе, как это утомляет и нервирует, когда вокруг тебя вечно толпятся люди, – жаловался он. – Иногда это настолько меня раздражает, что я бросаю работу». В конце концов Винсент стал избегать людных мест либо выходил на этюды до рассвета (в четыре утра летом), когда на улицах можно было встретить лишь подметальщиков.
Не находил он утешения и среди родных. Вынужденный скрывать от родителей правду о своей жизни, Винсент чувствовал, как надежда на сближение с ними тает с каждым днем. «Это хуже, чем совсем не иметь дома, не иметь ни матери, ни отца», – писал он. В августе семья пастора Ван Гога переехала в Нюэнен, городок в шестидесяти с лишним километрах от Эттена, где Дорус получил новое назначение. Мечта Винсента о возвращении в зюндертский дом теперь стала совсем иллюзорной. Он пытался возобновить переписку с родителями, но его скрытность омрачала любой обмен любезностями. Не мог он обсуждать с ними и свою работу. «Боюсь, может случиться, что отец и мать так никогда и не оценят мое искусство, – безнадежно заключил Винсент. – Для них оно всегда будет разочарованием».
Пропасть лишь увеличилась, когда в конце сентября отец неожиданно нанес сыну визит. Не имея возможности спрятать Син и ребенка, Винсент сделал вид, будто Син – просто несчастная больная мать, которой он помогает из сострадания. Никаких разговоров о любви или свадьбе – исключительно христианский долг. По возвращении в Нюэнен Дорус отослал сыну пакет с женским пальто, продемонстрировав, что поддерживает благотворительное начинание сына. Однако же ни отца, ни сына эта история не ввела в заблуждение. Почти год спустя Винсент признал, что визит отца лишил его последних сомнений относительно позиции родителей: «В той или иной степени они стыдились меня».
Обещание Винсента молчать о Син не только делало противозаконной их совместную жизнь, но и отдаляло его от Тео – единственного, кому было до него дело. Поскольку тема Син и ребенка была под запретом, письма Винсента брату стали более редкими, формальными и состояли теперь из туманных намеков и двусмысленных околичностей. Каждый гульден, истраченный на Син (на ее младенца, старшую дочь или мать), усугублял чувство вины, которое Винсент и так всегда испытывал, принимая деньги от Тео. К этим невидимым долгам теперь добавились и затраты на масляную живопись – куда более значительные, нежели прежние расходы на бумагу, карандаши и уголь. «Все так дорого стоит, – жаловался он, начиная заниматься живописью, – и так быстро заканчивается». Не способствовало экономии и то, что в живописи Винсент действовал тем же методом проб и ошибок, которым руководствовался в рисовании. «Многое из того, за что я берусь, не удается, и тогда приходится начинать сначала, а весь труд идет насмарку», – объяснял он брату.
Последний удар настиг Винсента в сентябре, когда Тео захотел увидеть один из этюдов маслом, относительно которых брат проявлял такой энтузиазм. Поначалу художник отказывался, прикрываясь расплывчатыми рассуждениями о том, насколько разительно этюд отличается от законченной работы. «Я считаю, что работа над этюдами сродни севу, – а я мечтаю о времени жатвы».
Но никакими уловками нельзя было скрыть правду: Винсент потерял уверенность в себе. Когда же он наконец сдался и отослал Тео этюд (корни дерева), сопроводительное письмо состояло из сплошных извинений и самокритики. Прошло всего пять недель с того дня, как он писал: «Никто не догадается, что это первые в моей жизни этюды маслом». Теперь же Винсент в отчаянии сетовал на отсутствие опыта («Я взял в руки кисть слишком недавно») и просил брата не судить этюд слишком строго: «Если же этюд разочарует тебя, ты должен принять в соображение, как недавно я начал писать». Он умолял Тео «не судить будущее по одной этой работе» и завершал письмо отчаянным призывом проявить снисхождение: «Если, взглянув на него… ты не пожалеешь, что дал мне возможность работать, я буду только рад и не утрачу мужества продолжать».
Насмешки толпы, издевательства коллег, охлаждение со стороны брата и проблемы, связанные с новой семьей и новой техникой, заставили Винсента искать прибежища в ностальгии по прошлому. Гонения он объяснял «скептицизмом, равнодушием и холодностью» современной жизни, ее упадком, скукой, недостатком страсти. С удивительной для человека двадцати девяти лет горечью он оплакивал утраченную юность и проклинал фабрики, железные дороги и сельскохозяйственные машины, которые, по его мнению, лишали Брабант его «суровой поэтичности». «Жизнь моя, – писал он Тео, – теперь не такая радостная, какой была тогда».
Как всегда, охваченный ностальгией Винсент погрузился в воображаемое прошлое. Он снова перечитывал Андерсена, путеводную звезду его детства. Отложив Золя, он вернулся к романтическим сочинениям Эркмана-Шатриана, удалившись на сотню лет во времени и еще дальше – в мировосприятии. В воображении художника эпоха Великой французской революции всегда рисовалась потерянным раем героев и благородных идеалов, и теперь он вновь жадно туда устремился: «Мне думается, что в то время было больше сердечности, веселости и живости, чем сейчас».
Что касается искусства, то и здесь Винсент воспылал любовью к веку ушедшему, заключив для себя, что как художник явился слишком поздно, ведь все самое главное уже случилось. В то время, когда импрессионисты Моне, Ренуар и Писсарро устраивали седьмую групповую выставку в Париже, Гоген вынашивал планы их превзойти, а Мане лежал на смертном одре, Винсент все тосковал по временам Милле, Коро и Бретона. Искусство, по его словам, пришло в упадок, «непостоянство и пресыщенность» явились на смену страсти. Художники предали сам дух Революции – «честность и простодушие», а главное – братство. «Раньше я воображал, что художники составляют нечто вроде сплоченного кружка или объединения, где царят теплота, сердечность и гармония». Но искусство никогда больше не возвысится до таких высот: «Невозможно подняться выше вершины… В искусстве вершина достигнута».
В поисках утраченного рая страсти и солидарности Винсент, по обыкновению, обратился к своей коллекции гравюр. Прежде они составляли весь его мир, теперь указывали путь. Благодаря этим аккуратно рассортированным, с любовью развешенным по стенам черно-белым репродукциям Винсент мог ощутить себя желанным гостем в сообществе художников, пусть это только в воображении. В его коллекции были самые разные работы: от ренессансных аллегорий Дюрера до современных фантастических городских пейзажей, но после злоключений последних месяцев особое значение приобрели для него работы английских иллюстраторов.
Еще в 1840-е гг. редакции лондонских газет начали нанимать художников, чтобы с их помощью оживить печатные страницы выразительными и запоминающимися образами. Благодаря новой состоятельной публике торговля гравюрами превратилась в грандиозный бизнес – и та же публика весьма бойко раскупала иллюстрированные газеты и журналы, в которых печатались зарисовки на злобу дня, портреты известных людей, необычные пейзажи и модные новинки. К 1873 г., когда Винсент прибыл в Лондон, иллюстрированные еженедельники шли нарасхват. По мере того как их аудитория росла и вкус ее развивался, росли и требования к иллюстрациям. Технические усовершенствования в области печати изображений – те самые, благодаря которым Адольф Гупиль и Сент Ван Гог сколотили свои состояния, – позволили издателям достигать такой точности в деталях и градациях тона, о каких нельзя было и мечтать в прежние времена, когда рисунки приходилось по старинке вырезать на буковых досках в зеркальном отражении по отношению к будущему оттиску. Мало того – появилась возможность помещать иллюстрации на двухстраничном развороте, что производило поразительный эффект в эпоху, привыкшую к малоформатным книгам и иллюстрациям величиной с почтовую марку.
Как только общество начало осознавать, в какую цену ему обходится растущий достаток буржуазии, иллюстрированные издания стали фиксировать постыдные следствия нового экономического порядка, а заодно наивные викторианские способы решения этих проблем посредством веры и милости к ближнему. Работая в компании Гупиля, Винсент имел возможность наблюдать бурный интерес, который неизменно вызывали у публики изображения людей, отторгнутых обществом. Правда, в то время он не считал это искусством. На выставке в Королевской академии в 1874 г. Винсент увидел картину Люка Филдса «Очередь в ночлежный дом» – мрачное изображение лондонских бедняков, толпящихся у дверей ночлежки холодной зимней ночью. Эта картина произвела в обществе эффект разорвавшейся бомбы, перед входом в Академию даже пришлось устраивать баррикады – иначе толпы желающих увидеть картину было не сдержать. Винсент, в письме рассказывая брату о выставке, упомянул тогда лишь несколько портретов молодых девушек, которые нашел «прелестными».
Теперь же, десять лет спустя, когда он сам оказался всеми отринутым, Винсент объявил эти драматичные образы и их создателей истинными наследниками духа 1873 г. «Для меня английские рисовальщики – то же, что Диккенс в литературе. У них точно такое же благородное, здоровое чувство». Он называл их «народными художниками» и превозносил их произведения в тех же эпитетах, которые использовал применительно к собственным работам и самому себе, защищая себя от нападок: прочные, основательные, грубые, смелые, с чувством и характером, не прилизанные. В поддержку своего мнения Винсент приводил слова Коро: «Есть картины, в которых ничего нет и тем не менее есть все». Тот факт, что эстеты, вроде Мауве и Терстеха (и Тео), считали работы этих авторов пошлыми и старомодными, а коллеги-художники из «Мастерской Пульхри» ими пренебрегали (такие картинки годны, чтобы «коротать время в кафе»), лишь подстегивал страсть Винсента к подобным изображениям. Он жаждал уберечь их от забвения и несправедливого осуждения – спасти, как он спасал Син. Кто может защитить отвергнутое искусство лучше художника, который и сам отвергнут?

Люк Филдс. Очередь в ночлежный дом. 1874. Холст, масло. 136 × 244 см
Винсент начал собирать работы английских иллюстраторов почти сразу после приезда в Гаагу в январе 1882 г., хотя долгие годы игнорировал их, предпочитая французские и голландские гравюры. В отличие от последних «англичане» были не только доступными по цене, но еще и служили примером посильной художественной задачи. Все виденное Винсентом прежде и близко не напоминало неловкие наброски, привезенные им из Эттена и Боринажа. Поэтому в Гааге он срочно разыскал букинистов, обеспечивших ему бесперебойные поставки отдельных гравюр и целых номеров «The Graphic», «Punch», «The Illustrated London News», – напечатанные в них репродукции Винсент вырезал и вешал на стену.
К лету 1882 г. Винсент уже маниакально охотился за работами художников-иллюстраторов – в галерее фаворитов Винсента англичане даже потеснили на время Милле и Бретона. «У этих англичан совершенно особые чувства, восприятие, манера выражения, к которым надо привыкнуть, но, уверяю тебя, изучать их стоит труда, потому что они – великие художники», – объяснял Винсент, словно бы оправдывая самого себя. В конце концов он приобрел подшивку газеты «The Graphic» за десять лет – с 1870 по 1880 г. – более пятисот номеров, переплетенных в двадцать один том. По словам Винсента, английские рисовальщики привлекали его как «нечто прочное и основательное, что дает опору в минуту слабости».
В мае, накануне отъезда в традиционный летний вояж на этюды, в Гааге проездом остановился давний друг Винсента Антон ван Раппард. Раппард также давно увлекался коллекционированием репродукций и иллюстраций. Но не только это было причиной возрождения дружеских чувств. За пять месяцев, прошедшие с тех пор, как Винсент прервал общение с Раппардом, произошло немало: Кее Вос отвергла его ухаживания, родители изгнали из дома, всесильные дядья отвернулись от него, Мауве отлучил от себя, а могущественный Терстех обвинил во всех грехах. Для униженного и всеми отвергнутого Винсента дружба с Раппардом могла стать той ниточкой, что связала бы его с приличным обществом. Друг появился как раз вовремя: всего за несколько недель до его приезда Винсент решил признаться Тео в тайной связи с Син, и это признание грозило нанести серьезный урон его отношениям с братом.
Такого чувства товарищеской близости, которое овладело Винсентом после визита Раппарда, художник не испытывал целых семь лет – со времен парижских чтений Библии в компании Гарри Глэдвелла. На этот раз его «евангелием» стала черно-белая гравюра, святыми – художники-иллюстраторы. Винсент посылал Раппарду бесконечные списки любимых сюжетов и, по-видимому, ожидал от Раппарда того же. Демонстрируя поистине энциклопедические познания, Винсент перечислял граверов, указывал период, стиль, школу. Друзья обменивались книгами: Раппард, в частности, прислал Винсенту книгу «Рисунок углем» («Le fusain»), написанную Матье Меснье под псевдонимом Карл Робер и восхваляемую в одной из современных рецензий как «исчерпывающее практическое пособие по рисованию пейзажа углем… предназначенное для тех, кому ничего не известно об этом предмете» (в пылу дружеского энтузиазма Винсент не счел такой подарок обидным). Винсент регулярно выискивал в своей коллекции дубликаты, которые можно было бы отослать сотоварищу (судя по всему, рассчитывая на ответный жест Раппарда). Когда дубликаты закончились, он пересмотрел целую кучу старых номеров газет и журналов в надежде найти еще что-нибудь. Винсенту хотелось, чтобы их коллекции полностью совпадали.
В лице Раппарда Винсент обрел не только товарища, одержимого той же страстью, но и одного из тех немногих, кто сочувствовал ему и был готов поддержать в выполнении миссии, казавшейся маловыполнимой. «Он понимает, к чему я стремлюсь и с какими трудностями сталкиваюсь», – писал Винсент брату после майского визита Раппарда. Когда же друг тепло отозвался о его рисунках (особо одобрив работы, аналогичные тем, что он выполнил по заказу дяди Кора, и несколько листов с обнаженной натурой), Винсент растаял от благодарности: «Больше всего мне хочется, чтобы люди получали удовольствие от моей работы: это так радует меня… Если никто никогда не говорит тебе: „Это или то вышло верно“, чувствуешь себя обескураженным, удрученным и раздавленным… Какое счастье сознавать, что другие и впрямь уловили что-то из того, что ты пытаешься выразить».
На далекого друга Винсент мог проецировать все свои огорчения, недовольства, разочарования и страхи, накопившиеся в эту полную раздоров и раздумий долгую зиму: оскорбительное поведение гаагских собратьев-художников, навязчивая идея, будто Мауве и Терстех могут сыграть с ним «одну из своих обычных шуток», и, конечно, изнурительный неблагодарный труд.
В воинственном запале Винсент пытался вовлечь Раппарда в свои баталии не только с художественным сообществом, но и с самим современным искусством: «Думаю, что нам было бы полезно сосредоточить свое внимание на художниках и произведениях прежнего времени, скажем, эпохи, окончившейся лет двадцать-тридцать тому назад, так как иначе о нас впоследствии справедливо скажут: „Раппард и Винсент тоже должны быть причислены к декадентам“». Консервативного и покладистого Раппарда, должно быть, озадачивало и забавляло, когда Винсент принимался оплакивать их общую участь изгоев и парий от искусства. «На нас с тобой смотрят как на неприятных, вздорных, ничтожных и, главное, ужасно скучных людей и художников», – писал Винсент, движимый иллюзией общности. «Мы не должны заблуждаться, надо готовиться к непониманию, презрению и клевете». В то время как Раппард наслаждался покоем и уютом родительского дома в Утрехте, вращался в кругу многочисленных друзей и охотно вступал в самые разные художественные клубы и объединения, Винсент призывал друга вести жизнь уединенную, полностью посвятив себя искусству. «Чем больше общаешься с художниками, тем слабее становишься сам как художник», – убеждает он. «Фома Кемпийский, помнится, где-то замечает: „Чем более я был среди людей, тем менее чувствовал себя человеком“».
Среди всех этих маниакальных увлечений, самооправданий, приступов ностальгии и жажды обрести единомышленника для живописи просто не оставалось места. В середине августа Винсент узнал, что Раппард привез из летней поездки альбом, полный зарисовок человеческой фигуры. Син к тому времени уже оправилась настолько, что снова могла позировать. Упомянутый в письме к Тео «этюд фигуры мальчика в гризайли: уголь, масло и совсем немного цвета, – только чтобы дать тон», ознаменовал возвращение к рисунку.
В середине сентября Винсент провозгласил новую цель: «Группы людей… очередь за бесплатным супом, вокзальный зал ожидания, больница, ломбард, зеваки или фланеры на улице». Подобные изображения, составлявшие основную массу иллюстраций в «The Graphic» и других изданиях, по словам Винсента, требовали «бесчисленных подготовительных этюдов и зарисовок для каждой фигуры», иными словами – еще большего количества моделей. Увы, через несколько недель новая инициатива потерпела крах – всякий раз, отправляясь на этюды в места скопления людей, Винсент сталкивался с их враждебным отношением. Другой причиной неудачи было решение использовать акварель (вероятно, в угоду Тео), притом что сам Винсент находил эту технику самой неподходящей для передачи динамики человеческой фигуры.
Несмотря на то что Винсент не отрекся от живописи открыто, все в мастерской художника свидетельствовало об этом. К концу сентября он вновь засел у себя на Схенквег: вооружившись карандашами и углем, окруженный своим семейством моделей, он штамповал по дюжине этюдов в день («Каждый мало-мальски пригодный этюд требует как минимум полчаса»). Винсент по-прежнему периодически заявлял о своей любви к живописи, цвету и пейзажу – преимущественно, чтобы развеять опасения Тео насчет продаваемости своих работ, но практически все, чем он теперь занимался, было связано с черно-белыми гравюрами, которые питали его дружбу с Раппардом. Все холсты, оставшиеся от нескольких недель занятий живописью, Винсент пустил на занавеси для окон, чтобы устроить в мастерской свет, более подходящий для рисования моделей.

Губерт фон Геркомер. Воскресенье в военном госпитале Челси (Последняя поверка). Деталь. Гравюра. 1871
После неудачи с групповыми сценами Винсент выбрал в качестве источника вдохновения другую знаменитую иллюстрацию из «The Graphic» – «Воскресенье в военном госпитале Челси» Губерта фон Геркомера. Изображение старика-ветерана, умирающего на скамье во время собрания однополчан, было опубликовано в 1871 г. и имело такой шумный успех, что Геркомер создал живописную версию сюжета; картина обрела международную известность под более сентиментальным названием «Последняя поверка». (К слову, это одна из картин, которые Винсент видел в Лондоне в 1874 г. и никак не прокомментировал.)
В сентябре Раппард начал работу над серией рисунков в Утрехтском институте для слепых – проект обещал дать немалое количество однотипных душераздирающих образов. Почти в то же самое время, словно решив поддержать начинание друга, Винсент принялся подыскивать натурщиков в гестской богадельне. Он обращался со своей странной просьбой ко многим старикам, но лишь один – Адриан Якоб Зёйдерланд – стал его постоянной моделью.
Винсент вполне мог знать имя своей модели, но нигде его не упоминал. Да и сам Зёйдерланд вряд ли смог бы на него отзываться – старик был глух на оба уха. Как и остальные пенсионеры из Голландского дома призрения реформатской церкви в Гааге, Адриан Якоб носил на рукаве регистрационный номер – 199. Одет он был в униформу, в которой ходили все пенсионеры: фрак и цилиндр. Потрепанный костюм «джентльмена» сообщал каждому прохожему, что перед ним человек нуждающийся. В холодные дни Зёйдерланд расхаживал в длинном двубортном пальто, напоминающем те, в которые одеты ветераны на картине Геркомера. Несмотря на пальто шинельного покроя и медаль на лацкане, семидесятидвухлетний Зёйдерланд мало напоминал солдата или человека благородного происхождения. Нечесаные седые волосы торчали из-под цилиндра и падали на воротник, а под цилиндром скрывалась абсолютно лысая макушка. По обеим сторонам лица кустились густые бакенбарды. У него был широкий крючковатый нос, большие оттопыренные уши и маленькие глаза с тяжелыми веками. Винсент называл его echt – «настоящий».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































