Текст книги "Ван Гог. Жизнь. Том 1. Том 2"
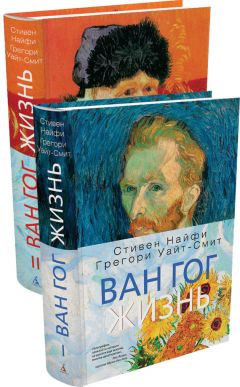
Автор книги: Стивен Найфи
Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 28 (всего у книги 110 страниц) [доступный отрывок для чтения: 36 страниц]
В реальности Винсента образы рассказывали истории. Для человека, воспитанного на детских книгах эмблем и иллюстрированных учебниках, изображения навсегда сохраняли способность вести повествование. В Англии во время уроков он показывал своим ученикам гравюры. При подготовке к экзаменам в Амстердамский университет он использовал иллюстрации в качестве учебных пособий и подбирал иллюстрации к тем текстам, где их не было. В бытность свою священником он заполнял поля гравюр на религиозные сюжеты бесконечным благочестивым повествованием, состоящим из библейских цитат и поэтических фрагментов. Винсента неизменно восхищали серии гравюр, где история рассказывалась посредством последовательно изображенных эпизодов («Жизнь лошади», «Пять возрастов пьяницы»). Позднее он часто будет рассуждать, каким образом развесить свои работы так, чтобы вместе они создавали более выразительное целое.
В письмах к Тео Винсент описывал картины с упоением рассказчика, разворачивающего перед слушателями свою историю:
[Старик] сидит в своей хижине у очага, где в сумерках слабо тлеет кусочек торфа. Хижина, где сидит старик, тесная, старая, темная; крошечное окошко закрыто белой занавеской. Рядом с его стулом сидит собака, состарившаяся вместе с хозяином. Человек и собака – давние друзья; они смотрят друг другу в глаза. Старик медленно вынимает из кармана брюк кисет и раскуривает трубку.
В собранной им коллекции было немало гравюр, подобных этой (Йозеф Израэлс. «Молчаливый диалог»), сюжет которых Винсент кратко формулировал в названии или подписи: «У врат смерти», «Рука помощи», «Надежды и страхи», «Свет прежних дней», «Снова дома». И в своих собственных ранних работах, таких как «Скорбь», Винсент отдавал дань викторианской моде на искусство, которое рассказывало истории и преподавало уроки. Самый первый рисунок обнаженной натуры, посланный Тео в апреле 1882 г. и изображавший женщину, сидящую в постели, напряженно выпрямившись, сопровождал пояснительный текст:
У Томаса Гуда есть стихотворение о богатой даме, которая не может уснуть, потому что днем ходила покупать платье и видела, как бедная швея, бледная, изможденная, чахоточная, сидит в душной комнате за работой. И даму теперь мучит совесть из-за собственного богатства, и она беспокойно мечется в ночи.
Винсент назвал свой рисунок «The Great Lady» – «Благородная дама». Без названия – независимо от того, написано оно под рисунком или нет, – ни один образ не был для него завершенным. Он решительно отвергал работы авторов, пренебрегавших этой абсолютно необходимой, по его мнению, нарративной составляющей, – к примеру, мрачные «мистические» видения своего друга Брейтнера.
В реальности Винсента изображение непременно должно было обладать особым смыслом. Любой образ, не выходящий за пределы непосредственного впечатления от предмета, не имеющий более глубокого значения, более широкой соотнесенности, отметался Винсентом как эфемерная поделка, набросок, нужный лишь художнику в процессе бесконечного поиска чего-то более «благородного и серьезного». Чтобы обрести смысл, изображение должно было оставить в стороне конкретику наблюдаемого мира и «сосредоточиться на том, что заставляет нас думать». Изображение, в котором есть «нечто большее, чем натура», по мнению Винсента, «есть высшее в искусстве».
Для воображения, пронизанного метафорами и средневековыми представлениями об имманентности, особым смыслом может обладать любой предмет. Даже тянущие лодку старые лошади на картине Мауве, по мнению Винсента, воплощали в себе образ «возвышенной, глубокой, практической, безмолвной философии»: «Смиренные, тихие, готовые ко всему… Они примирились с тем, что еще надо жить, надо работать, а если завтра придет их время отправиться на живодерню – что ж, ничего не поделаешь, они готовы и к этому». Мир Винсента был наполнен многозначительными образами вроде этих замученных кляч: странствующие паломники, дороги с деревьями по обеим сторонам, затерявшиеся в глуши уединенные хижины, шпили церквей на горизонте, пожилые женщины, стоически шьющие при свете очага, отчаявшиеся старики, семьи за обеденным столом и целые легионы рабочих. «В „Сеятеле“ Милле больше души, чем в обычном сеятеле в поле», – заявлял художник.
В реальности Винсента образы рождали эмоции. Атмосфера в его семье, да и сама эпоха, в которую ему довелось родиться, были пронизаны сентиментальностью. Винсент обращался к изображениям не только за вдохновением и наставлением. По его мнению, искусство должно быть личным и сокровенным: изображать нужно то, что трогает душу. Винсент разделял не только викторианское пристрастие к мелодраматическим сценам – бдениям у постели умирающего, слезным прощаниям, радостным встречам, но и любовь к вездесущим слащавым виньеткам: маленькие девочки с корзинками, дедушки и бабушки с внуками, флиртующие влюбленные, цветы, котята – все эти образы обрели такую популярность, что породили целую индустрию, тиражировавшую их на поздравительных открытках. «Чувство» Винсент полагал непременным атрибутом любого великого произведения искусства и высшей целью собственного искусства считал создание «рисунков, способных кого-то тронуть».
В реальности Винсента даже пейзажи должны были что-то говорить сердцу. Секрет красивого пейзажа заключался, по его мнению, «главным образом, в искреннем чувстве и правдивости». Он восхищался барбизонцами, их «проникающим в душу» умением слиться с природой. Природа – от утешительных видов речных берегов и вересковых пустошей до причудливых видений Карра и Мишле – всегда была для Винсента источником образов и эмоций. В его коллекции пейзажных изображений, собирать которые он начал с самого раннего возраста, преклонение романтиков перед совершенной и величественной Природой уживалось с викторианским пониманием наполняющего ее чувства. Предполагалось, что каждое время года и суток, любые погодные условия имеют свою эмоциональную окраску. Картины называли просто: «Осенний эффект», «Вечерний эффект», «Эффект рассвета», «Эффект снега». Такие названия давали эмоциональный сигнал, сродни подписи под гравюрой; сигнал этот успокаивал и обнадеживал, как детская сказка: рассвет обозначал надежду, закат – умиротворенность, осень – меланхолию, сумерки – томление.
В реальности Винсента смыслу и чувству должна была сопутствовать простота. В собственной работе он стремился найти образы, которые будут понятны практически любому, отсюда стремление упростить каждый образ, свести его к «существенному и намеренно оставить едва намеченным все второстепенное». При всей утонченности восприятия и широте интеллекта Винсент предпочитал образы, не стремящиеся озадачить или увести от истины. Будучи слишком серьезным для иронии, из всего изощреннейшего Карлейля и глубокомысленнейшей Элиот он усвоил лишь наиболее прямолинейные уроки. В любом, даже самом масштабном, романе он порой видел только какого-нибудь одного героя, чаще из второстепенных персонажей, чем-то напоминающего ему себя самого. Он никогда не изменял своей детской любви к басням и притчам, особенно к сказкам Андерсена, и склонности к ярким образам и простым историям. Диккенсовские сказки для взрослых он воспринимал как случаи из жизни, лишь изредка позволяя себе заглянуть в темные глубины души англичанина. Диккенса он читал так, как если бы это был Золя, Золя – так, как если бы он был Диккенсом, вписывая обоих столь непохожих авторов в границы своего упрощенного воображаемого мира.
Желание постичь простые истины подчиняло себе и визуальный мир Винсента. Он любил карикатуры, начиная с политической сатиры в британском «Панче» и заканчивая карикатурами двух величайших французских иллюстраторов XIX в. – Поля Гаварни и Оноре Домье, чьи язвительные, порой безжалостно насмешливые изображения тщеславных буржуа и фиглярствующих чиновников были не менее человечны, чем образы тяжкого труда крестьян у Милле. «[В них] есть суть и мудрая глубина», – писал Винсент. Подобно Домье и Милле, Винсент разделял викторианское увлечение «типами». Физиогномика с ее идеей, будто поведение человека можно объяснить через его физические качества, была одной из удобных псевдонаучных методик, возникших в результате социальных, экономических и духовных сдвигов в XIX в. Она пронизала все области массовой культуры – от френологии с ее дворовым шарлатанством до высокого искусства «Человеческой комедии» Бальзака. Книги столь любимого Винсентом Диккенса были подлинной библией для тех, кто верил в типы: внешнее и внутреннее поведение, поверхностное и сущностное в них неразрывно связаны.
Винсент был воспитан в культуре однозначных противопоставлений: католик – протестант, богач – бедняк, город – деревня, хозяин – слуга. Он стал горячим приверженцем типологии задолго до того, как сам начал рисовать фигуру. Если можно каталогизировать жуков и птичьи гнезда, почему бы не проделать то же самое с людьми? «У меня есть привычка очень тщательно приглядываться к внешности человека, для того чтобы добраться до его истинного духовного содержания», – делился он с Антоном ван Раппардом. Считывать характер и социальное положение по тому, как люди одеты, Винсент явно научился у матери. От нее же он унаследовал прочную веру в стереотипы. Все евреи у него торговали книгами или ссужали деньги, а «негры» (любые люди, чей цвет кожи отличался от белого) тяжело работали. Американцы («янки») были грубыми и тупыми, скандинавы – дисциплинированными, жители Ближнего Востока («египтяне») – загадочными, южане – темпераментными, северяне – флегматичными.
Именно такие схематичные образы населяли и мир Винсента: «неотесанные» рабочие с «широкими и грубыми» лицами, молодые дамы с тонкими чертами и торжественные священники, скрюченные старики и дюжие крестьяне. Новые заповеди физиогномики и френологии, фигуры персонажей Домье и Гаварни, хрестоматийные типы Милле и английских иллюстраторов лишь подтверждали усвоенные в детстве шаблоны.
Эту-то «реальность» и проецировал Винсент на окружающий мир со все возраставшим пылом. «Я вижу мир, – признавался он, – который сильно отличается от того, что видит большинство художников». В его реальности каждая деталь должна была иметь значение. Заметив группу людей, собравшихся в ожидании у лотерейной конторы, он назвал сцену «Бедняки и деньги». Таким образом, «эта группа приобрела для меня более глубокий смысл», – пояснял он. Во время прогулок Винсент отмечал лишь эффекты («Вся природа во время таких снежных эффектов – это какая-то неописуемо прекрасная „Black and White Exhibition“»[34]34
«Выставка графики» (англ.).
[Закрыть]). Это была реальность, пронизанная чувством. О смерти друга могло быть упомянуто вскользь, зато его портрет открывал шлюзы эмоций.
Это была реальность бескомпромиссной простоты. Даже самые возвышенные страсти должны были вписываться в простые формулы, как подписи под гравюрами, будь то слова апостола Павла из Второго послания к Коринфянам «нас огорчают, а мы всегда радуемся» или «aimer encore». Повседневные заботы в этой реальности представлялись «petite misères de la vie humaine»,[35]35
Маленькие горести человеческой жизни (фр.).
[Закрыть] а самые непостижимые загадки – «quelque chose là-haut».[36]36
Что-то высшее (фр.).
[Закрыть] Всю последующую жизнь любой кризис или увлечение неизбежно сводились к лаконичной формуле. Словно пришпиливая жуков в коробке или раскладывая гравюры в папке, Винсент втискивал мир в категории. Он избегал двусмысленностей и распознавал метафоры там, где остальные замечали лишь суровую повседневность.
Глядя на людей, Винсент видел только типы. Все они, начиная с привлекательного, аристократичного ван Раппарда и заканчивая уличной проституткой Син, были не более реальны, чем персонажи в книге или фигуры на листе бумаги, навсегда приговоренные судьбой пребывать в рамках своего типа («Я вижу вещи как рисунки пером»). Кроме Син, ни одна из моделей, прошедших через его мастерскую на Схенквег за два года, не удостоилась ни одного наблюдения, выходящего за пределы чисто физического описания. Винсент неоднократно рисовал сирот, но никогда не комментировал обстоятельства их жизни. «Один паренек в кресле-каталке, с длинной тонкой шеей, был великолепен» – это все, что он написал о позировавшем ему юноше-инвалиде.
Винсент видел в людях типических персонажей, и он ожидал, что они будут действовать как типические персонажи, он судил их поступки как поступки типических персонажей. Богатые люди, вроде дяди Сента, должны были думать исключительно о деньгах – «ничего другого и ждать нельзя»; люди духовного звания, как его отец, «должны вести себя скромно и довольствоваться малым». Бедные должны помогать друг другу, женщины и дети (но не мужчины) должны «учиться экономить». Женщины из буржуазной среды, несомненно, должны быть развиты культурно, но не интеллектуально, женщины из низших классов – ни так ни сяк. Рабочие никогда не должны бастовать, но лишь «работать до потери сил». Почему? Да потому, что они, точно персонажи в романе, просто не могут действовать иначе.
И главное, художники должны вести себя как художники. В своем дерзком противостоянии миру Винсент снова и снова апеллирует к предначертанной судьбой участи своего «типа», чтобы охарактеризовать и оправдать себя. Если он не искал приличного общества, то лишь потому, что «раз ты художник, значит откажись от всех иных социальных претензий». Страдания от «временных припадков слабости, нервозности и меланхолии» были результатом «особого устройства любого художника». Если он вел беспокойную жизнь и чуждался условностей, то это потому, что «так лучше с точки зрения моей профессии», «я бедный художник». Даже «уродливое лицо и поношенный костюм», по утверждению Винсента, служили признаками его типа. Если же он отказывался переменить свое мнение относительно любви к Кее Вос, рисования фигур, использования моделей или женитьбы на Син, то все это из-за того, что был тем, кем был, а иным художник и быть не может. «Я отнюдь не намерен мыслить и жить не так страстно, как сейчас», – заявлял он. «Я – тот, кто я есть».
В этом нарисованном пером мире было свое место и у Син Хорник. Для Винсента, как и для всей его эпохи, не было типологии более строгой, нежели классификация женщин (в этом отношении трактат Мишле «Женщина», несмотря на лучшие побуждения автора, надел оковы на представительниц женского пола). В идеальном воплощении женщина была хрупким, неразвитым существом, изначально слабым и эмоционально неустойчивым, самим Творцом предназначенным для любви. Без любви женщина превращалась в объект жалости. «Она падает духом и теряет свое очарование», – писал Винсент. Образы печальных, беспомощных, нелюбимых женщин приобретали в викторианском сознании некий натуралистический пафос: жены солдат, уходящих на войну, бездомные девушки, безмужние матери, скорбящие вдовы. Вид одинокой, обделенной любовью женщины – на гравюре ли, на церковной скамье – глубоко трогал Винсента: «Еще мальчиком я нередко с бесконечной симпатией и почтением вглядывался в каждое поблекшее женское лицо, на котором словно было написано: „Жизнь меня не баловала“». Другим идеалом женственности, способным растрогать его до слез, были заботливые матери. В коллекции Винсента всегда имелись подобные образцы сентиментальности XIX в., и сам он начал создавать яркие образы материнства из обрывков детских воспоминаний задолго до того, как взял в руки карандаш.
И наконец, беременная проститутка соединяла в себе беспомощность всех женщин, вместе взятых, страдание тех, кто лишен любви, и простодушную наивность материнской любви. По типологии Винсента лишь немногие из ступивших на путь проституции в самом деле были соблазнительницами. Падшие женщины в большинстве своем были жертвами нелюбящих мужчин или слабости собственной натуры. Он верил, что любую женщину можно с легкостью обмануть и еще легче бросить, особенно ту, у которой нет средств; без мужской заботы ей всегда «угрожает опасность потонуть в омуте проституции» и пропасть навеки. Немолодая мать-проститутка, какой была Син, соединяла в себе все клишированные поводы для жалости. «Моя несчастная, слабая, измученная женушка», – называл ее Винсент, испытывавший «потребность любить существо несчастное, покинутое или одинокое». Не помочь такому трижды покинутому созданию было бы «чудовищно», заявлял он. «Для меня в ней есть нечто возвышенное».
Рисунок за рисунком Винсент помещал Син в рамки этой сокровенной типологии. Он рисовал ее то как погруженную в меланхолию молодую вдову в черном, то как заботливую хозяйку дома, мирно склонившуюся над шитьем. Винсент рисовал ее в образе матери (сестра и дочь Син выступали в роли детей). Намечая черты лица лишь несколькими беглыми штрихами, он представлял ее благополучной, окруженной уютом и теплом домашнего очага: вот она подметает пол, читает молитву, несет чайник, идет в церковь. Взятые вместе, все эти грубые наброски карандашом и углем представляют собой первые опыты рисования портрета – в последующие годы подобные работы будут рассказывать о художнике и его внутреннем мире более красноречиво, нежели о модели или о реальном мире.
Живя отшельником в своей мастерской на Схенквег в окружении проституток, позирующих в качестве идеала материнства, сирот в роли чистильщиков обуви, бродяг в роли крестьян Милле и стариков в образе рыбаков, можно было держать реальный мир на расстоянии. Сама мастерская становилась по очереди богадельней, крестьянской лачугой, рыбацкой хижиной, деревенским трактиром, столовой для бедняков. Ставни и муслиновые шторы позволяли Винсенту управлять светом, падавшим из окна; целью было не только воспроизвести таинственные контрасты иллюстраций в английской еженедельной газете «The Graphic» или теплый, смягченный свет рембрандтовской гравюры, но и отгородиться от мира.
Окна всегда играли в жизни Винсента особую роль. Как наблюдатель и аутсайдер, он еще в детстве, в родительском доме, застолбил себе место у окна, выходящего на рыночную площадь в Зюндерте. И двадцать девять лет спустя он не покинул место наблюдателя. Он любовно описывал вид, открывавшийся из окон каждого из его новых жилищ, а иногда и зарисовывал его, как в Брикстоне и Рамсгейте. Эти описания часто исполнены тоски и ностальгии, точно так же, как и описания гравюр на стенах.
Из этих подробных рассказов становится понятно, что Винсент днем и ночью часами сидел у окна, незаметно наблюдая за жизнью незнакомых людей – от амстердамских докеров до рабочих на железнодорожных угольных складах рядом с мастерской в Гааге. В любом помещении – реальном или изображенном – его всегда занимало расположение окон, а вид из окна прочно войдет в его собственную систему образов. С 1881 г., когда он регулярно стал заниматься обустройством сменяющихся мастерских, Винсент без конца жаловался на недостаточно хорошие окна и тратил на их усовершенствование гораздо больше своих скудных средств, чем было необходимо для решения художественных задач.
Вид из окна был среди первых рисунков, сделанных Винсентом по приезде в Гаагу: беспорядочная мозаика отгороженных друг от друга задних дворов, которые с высоты третьего этажа были видны Винсенту все разом. В мае, когда дядя Кор заказал вторую серию сцен из городской жизни, Винсент вернулся к своему окну и нарисовал тот же вид, любовно проработав мельчайшие детали: на первом плане – двор дома, где жил он сам, с развешанным бельем, плотницкий двор за ним. Скрупулезная тщательность выдает в рисунке результат долгого пристального разглядывания и вуайеристской отрешенности, выработанной годами тайных наблюдений. «Можно рассмотреть все вокруг, – с гордостью писал Винсент об этом рисунке, – заглянуть в каждый уголок и трещину». Прачки и плотники существуют в этом тщательно детализированном беспорядке бесплотно, словно призраки, не замечающие, что за ними наблюдают.
Подглядывание явно доставляло Винсенту удовольствие. Отправляясь в богадельню в поисках моделей, он тайком занимал место у окна и делал зарисовки всего, что удавалось увидеть на территории заведения. Среди шума и суеты улицы Гест он стремился устроиться на безопасном расстоянии, чтобы наблюдать, самому оставаясь незамеченным. «Хорошо было бы иметь свободный доступ в дома, – признавался художник, – так, чтобы заходить в них и без всяких церемоний садиться у окошка». Летом, переехав в другую квартиру в соседнем здании, Винсент из окна, которое теперь располагалось выше, немедленно первым делом еще раз зарисовал ту же сцену. «Ты, наверное, представляешь себе, как я сижу у своего чердачного окна в четыре утра, – отчитывается он Тео, – и изучаю луга и плотницкий двор с перспективной рамкой».

Вид из окна мастерской в Гааге (На задворках Схенквег). Гуашь. Май 1882. 28 × 47 см
Покидая мастерскую, Винсент, образно говоря, брал свое окно с собой. Впервые он узнал о перспективных рамках из трудов Армана Кассаня, французского живописца и литографа, автора нескольких книг для профессиональных художников и любителей. В первый приезд из Боринажа Винсент ознакомился с книгой, написанной Кассанем для детей, «Руководство по основам рисования». Кассань рекомендовал использовать «корректирующую рамку» (cadre rectificateur) – небольшую прямоугольную рамку из картона или дерева, разделенную нитями на четыре равных прямоугольника. Держа рамку перед глазами, рисовальщик мог обособить выбранный объект и лучше рассчитать его пропорции.
Но прошло больше года со дня его приезда в Гаагу до того момента, когда Винсент заказал у плотника такое приспособление. Он всегда стремился к простым решениям, и «черная магия» верных пропорций давно его раздражала. Метод Кассаня, как ему казалось, мог ему помочь – сделать неуправляемую руку послушной и открыть тайны искусства, востребованного покупателями. Заказанная им рамка была небольшой (около 29 × 18 см), но вряд ли ее можно было назвать карманной, как у Кассаня. А вместо двух перекрещивающихся проволок Винсент натянул десять или одиннадцать, соорудив решетку из маленьких квадратиков, – словно окно с мелкой расстекловкой, сквозь которое можно было без конца всматриваться и скрупулезно переносить каждый контур в такую же решетку, начерченную на бумаге.
Для того чтобы одновременно держать рамку и альбом для зарисовок, нужна была ловкость эквилибриста, но Винсент, исследуя окрестности Схенквег, блуждая по городским улицам, направляясь к дюнам Схевенингена, неизменно брал с собой этот небольшой прямоугольник. Где бы он ни оказался, он доставал рамку и «корректировал» мир. «Думаю, ты можешь себе представить, как упоительно направлять этот окуляр на море, на зеленые луга, – восхищался Винсент. – …Через него можно смотреть, как через окно». Чтобы отсечь мир за пределами рамки, он прищуривал глаза (этому приему его мог научить Мауве), пока перед взглядом не оставалась только размытая, разлинованная проволочками сцена в рамке.
С каждым рисунком результат все больше воодушевлял Винсента. «Линии крыш и каналов разлетаются вдаль, точно стрелы, выпущенные из лука», – хвастался он Тео, описывая одну из удачных попыток. Винсент брал рамку на чердак, чтобы оттуда рисовать виды шумных дворов позади дома и «бесконечность нежной, ласковой зелени, плоские луга на мили и мили вокруг». Затея понравилась ему настолько, что он заказал еще две рамки – побольше и покрепче, последняя была по-настоящему роскошной – с металлическими уголками и специальными ножками для неровной поверхности – «великолепный прибор». Винсент работал с рамкой и в мастерской: «спокойно глядя» через свое «маленькое окошко», он рисовал Син и других моделей «достоверно и с любовью».
За месяц до рождения ребенка Син Винсента занимало лишь одно – семья. Наконец он обрел семью, готовую его принять. «Она увидела, что я не груб», – писал он о Син почти удивленно, – и «хочет остаться со мной, что бы ни было». Письма к Тео этого периода изобилуют образами материнства, в то время как Винсент продолжал утаивать ключ, способный раскрыть их смысл. Ежедневно, рассаживая натурщиков в мастерской, он пытался воплотить занимавшую его идею тройственной и нерушимой связи между мужчиной, женщиной и ребенком, высказанную Мишле в его сочинении «Женщина».
Глядя лишь сквозь рамку своего «окошка», Винсент решительно отсекал все остальное. Даже когда его вражда с Мауве и Терстехом поставила под угрозу финансовую помощь от Тео, он продолжал щедро тратить деньги на свою воображаемую семью: покупал лекарства для Син и обновки для будущего ребенка, платил за жилье ее матери. На средства, присланные Тео для оплаты мастерской, он пригласил к Син доктора. Это спровоцировало очередной кризис: хозяин дома пригрозил выселить художника. Буря еще не миновала, когда Винсент начал убеждать Тео в необходимости переезда в соседнюю, бо́льшую по размерам квартиру. С каждым письмом Винсент усугублял свою ложь.
Винсент, как некогда в Боринаже, вновь был охвачен лихорадочным желанием о ком-то заботиться. Он целиком посвятил себя спасению падшей женщины; на нее он поставил все. Он заставлял ее принимать ванны и совершать длительные прогулки, следил, чтобы она пила «укрепляющие лекарства», ела «простую пищу», дышала свежим воздухом и достаточно отдыхала. «Я отдал ей всю любовь, нежность, заботу, на которые был способен», – писал Винсент, представляя свои отношения с Син как образец христианского милосердия. Винсент поехал с ней в Лейден, когда женщина отправилась регистрироваться в родовспомогательное заведение. Винсент взял на себя переговоры от имени Син с больничным персоналом и во всем остальном тоже вел себя как ее муж.
Задавшись целью вернуть к жизни «несчастное создание», Винсент перестал следить за собственным ухудшающимся здоровьем. После тревожных январских приступов головной боли, лихорадки и слабости («Молодость моя миновала», – причитал Винсент) весной он почти ни словом не упоминал в письмах о своем здоровье, демонстративно пренебрегая необходимостью решать проблемы: «Я не сдаюсь и, несмотря ни на что, продолжаю работать».
Тео, вероятно, был изрядно удивлен, в начале июня получив от брата письмо с сообщением: «Я в больнице… У меня то, что называют „триппер“».
Но даже болезнь не могла помешать Винсенту жить в своем вымышленном мире и поколебать его благоприобретенное ви́дение семейной жизни. Вероятнее всего, болезнью его наградила именно Син, однако в больницу он явился в наилучшем расположении духа; для оказавшегося в такой ситуации двадцатидевятилетнего мужчины, ни разу в жизни ничем серьезным не болевшего, это было довольно необычно. Общая палата на десять коек, грубые санитары, отнюдь не утруждавшие себя частым опорожнением ночных горшков, – все это показалось ему «не менее интересным, чем зал ожидания для третьего класса». «Как бы я хотел сделать здесь несколько набросков», – признавался он. Врачи заверили Винсента, что у него легкая форма гонореи и лечение займет всего несколько недель (пилюли с хинином от лихорадки и сульфатное спринцевание, чтобы подавить инфекцию). Несмотря на строгое предписание соблюдать постельный режим, в больнице Винсент читал Диккенса и изучал книги по перспективе. Когда санитары уходили, он тайком выбирался из кровати, чтобы выглянуть в окно. «Вид здесь как с высоты птичьего полета», – писал он.
Винсент всегда с удовольствием находился в обществе врачей. («Я в своей стихии, и это в какой-то степени утешает меня в том, что я не стал медиком», – призна́ется он годы спустя в Арле.) В больнице Винсента навестил Итерсон – бывший коллега по «Гупиль и K°», подбодрить его заходили также кузен Йохан и даже раздражающе верный правилам общественного долга Терстех. Но настоящей поддержкой были для него визиты Син. «Она регулярно навещала меня, – с гордостью писал Винсент брату, – и приносила копченое мясо, сахар и хлеб». В одно из таких посещений, 13 июня, в больничном коридоре, где Син ожидала, когда посетителей начнут пускать к больным, она встретилась с невысоким седовласым священником, шагавшим в сторону палаты, – как духовное лицо его пропустили незамедлительно. Это был отец Винсента.
Для Доруса Ван Гога это была первая встреча с сыном после судьбоносного рождественского разговора, и он, скорее всего, не обратил ни малейшего внимания на невзрачную беременную женщину в коридоре. Дорус приехал из Эттена, чтобы помириться с сыном, как только получил известие о том, что он в больнице. «Я предложил Винсенту пожить у нас после выписки, – сообщил он Тео, – чтобы он мог немного набраться сил». Прежде Винсент наверняка не упустил бы шанса в очередной раз попытаться уладить семейные разногласия, если бы случайное слово вновь не разожгло резкие противоречия, ставшие причиной стольких конфликтов. Но теперь все его мысли были сосредоточены на новой семье, а не на старой.
Дорус заметил, что в течение всего разговора Винсент «беспокойно поглядывал на дверь, будто ждал кого-то и не хотел, чтобы я столкнулся с этим человеком». Предложение вернуться домой сын отверг со словами: «Я хочу вернуться к работе». Позже он вспоминал неожиданный визит отца как посещение непрошеного потустороннего гостя из диккенсовских историй. «Мне это показалось очень странным, – писал он Тео, – скорее похожим на сон».
Но Син больше не могла приходить. 22 июня, готовясь разрешиться от бремени, она легла в другую больницу, в Лейдене; роды ожидались трудные и опасные. Почти сразу после прекращения ее визитов у Винсента случился рецидив. Причиной ухудшения своего состояния он считал разлуку с Син. Винсент был переведен в другую палату, ему назначили более интенсивное лечение и прописали новый режим. Чтобы отвести мочу и промыть воспаленный канал, врачи вводили в пенис катетеры все большего размера. Инфекция и раздражение делали процесс сложным и болезненным. Расширение канала причиняло сильную боль, которая и после завершения процедуры долго не оставляла его.
Несмотря на все это, Винсент практически не жаловался. Другая боль – воображаемая – казалась ему куда более реальной. «Что наши мужские страдания, – писал он из больницы, – по сравнению с теми чудовищными муками, которые женщинам приходится терпеть в родах».
Вскоре образ Син, в муках производящей на свет свое дитя, завладел им окончательно. В конце июня, накануне родов, Винсент сетовал в письме брату: «Она еще не разрешилась, ожидание длится уже много дней. Меня это крайне тревожит». Отвага и терпение Син лишь подогревали его возбуждение. Он должен был поехать к ней. 1 июля, не долечившись как следует, «вялый и слабый» от лекарств, он покинул больницу и вместе с матерью и девятилетней сестрой Син отправился в Лейден. Они прибыли туда точно к тому часу, когда к пациентам больницы еженедельно допускали посетителей. «Можешь себе представить, как мы волновались, – написал он в тот же день Тео, – справляясь у больничных санитаров о ее состоянии, мы не знали, что услышим в ответ. И как обрадовались, когда нам сказали: „Вчера вечером начались роды… но вам нельзя с ней долго разговаривать“… Никогда не забуду это „вам нельзя с ней долго разговаривать“, ведь могло быть „вы никогда не поговорите с ней больше“».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































