Текст книги "Ван Гог. Жизнь. Том 1. Том 2"
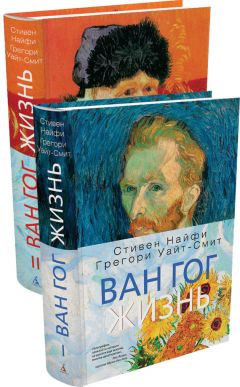
Автор книги: Стивен Найфи
Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 34 (всего у книги 110 страниц) [доступный отрывок для чтения: 36 страниц]
Территория этой дальней провинции простиралась почти до самой северной границы Нидерландов. Дренте давно стала частью личной географии Винсента. Осенью 1881 г. Мауве предлагал ему совершить в этот регион совместную поездку, отменившуюся затем по причине болезни мэтра. В 1882 и в 1883 г. в Дренте ездил Раппард, оба раза возвращаясь с багажом путевых рассказов и новых работ, которые Винсент видел потом в мастерской друга в Утрехте. Опираясь только на эти свидетельства, Винсент представлял себе далекую Дренте «похожей на Брабант времен моей юности». И действительно, окончательно определился Винсент лишь тогда, когда в Гааге появился вновь направляющийся в Дренте ван Раппард. Усмотрев в этом возможность вернуть расположение семьи, Винсент вообразил, что в Дренте Раппард сможет чаще навещать его, и изобретал способы, которые позволили бы им «извлечь пользу из общества друг друга». Он представлял, как они с Раппардом вместе основывают «что-то вроде колонии», куда другие художники смогут приезжать и «проникаться безмятежностью природы на вересковой пустоши».
А еще Винсент думал увезти с собой Син. «Я хотел бы поселиться с ней в каком-нибудь другом месте, скажем, в маленькой деревушке, где она забыла бы о городе и поневоле видела бы вокруг только естественную жизнь», – рассуждал он, соединяя мечту о спасении с новой мечтой о побеге в деревню. В пылу спора художник пытался защитить свою иллюзию семейной жизни от безжалостной логики Тео. «Если я брошу эту женщину, она, наверное, сойдет с ума, – убеждал он, – да и малыш искренне привязан ко мне». Страстно желая оправдать себя перед Син, Винсент даже начал вновь задумываться о женитьбе («Я бы женился на ней даже сейчас»).
Но судьбу свою Винсент связал с Тео, а Тео был непреклонен. Вину за окончательный разрыв Винсент, естественно, переложил на Син: всему причиной, по его версии, стали ее предательство, возврат к прошлым порокам, нежелание разорвать отношения с кошмарными родственниками. 2 сентября Винсент усадил ее в гостиной квартиры на Схенквег и выложил ей суровую правду – все то, что сам до этого услышал от Тео. «Мы поняли, что впредь нам нельзя оставаться вместе, ибо мы сделаем друг друга несчастными», – докладывал он в письме брату. Винсент призывал ее следовать «правильным путем», но сомневался, сумеет ли она это сделать. На будущее он дал ей тот же самый благоразумный совет, что столько раз сам получал от брата: «Найди работу».
Сомнения и сожаления терзали Винсента до самого отъезда из Гааги, который был запланирован на воскресенье 11 сентября. До последней минуты он лелеял мечту о том, что Син присоединится к нему или он сам сможет остаться, – даже когда уже расплатился с долгами благодаря деньгам, присланным дядей Кором, и договорился с хозяином дома о временном хранении обстановки квартиры на чердаке. Винсент спешил с отъездом, пребывая в убеждении, что «каждая новая неделя отсрочки заставляет его все сильнее запутываться в терниях здешней жизни». От предложения брата побольше узнать о Дренте заранее Винсент отказался – так не терпелось ему пуститься в путь. Художника обнадеживали рассказы Раппарда: «Здешние места обладают ярко выраженным характером: фигуры напоминают мне твои этюды». Винсент просил Тео прислать еще денег, чтобы иметь возможность уехать «как можно скорее… чем скорее, тем лучше». В противном случае (если бы у брата вдруг не хватило средств на поездку до Дренте) он готов был отправиться «куда угодно», лишь бы можно было сделать это немедленно и оказаться подальше.
Когда деньги наконец пришли, Винсент уехал на следующий же день. Он пытался до последней минуты сохранить свой отъезд в тайне от Син, но она, с годовалым Виллемом на руках, все же пришла на вокзал попрощаться. От этого зрелища у Винсента чуть не разорвалось сердце. «Малыш был так нежен со мной, – описывал он Тео момент прощания, – и, когда я уже сел в поезд, он все еще был у меня на руках. Мне кажется, мы простились с чувством невыразимой грусти с обеих сторон».
Винсент предпочел считать, что унизительный отъезд из Гааги был обусловлен «долгом». «Моя работа – это мой долг, – писал он в ночь накануне отъезда, – долг более важный, чем обязательство перед женщиной, а первая не должна страдать из-за последней». Но в действительности причины побега оставались неизменными: очередная «приемная» семья вновь толкала его к семье настоящей. Последние письма из Гааги пронизаны тоской по Тео. К следующему визиту брата в Гаагу Винсент обещал вернуться из Дренте и вступить в Общество акварелистов, в котором состояли и Мауве, и Терстех, а после – отправиться в Лондон в поисках оплачиваемого места. Он надеялся вернуть благосклонность дядьев. «Главное теперь – много писать, – объявил Винсент. – Это и безмятежность природы в конечном итоге принесут нам победу – не сомневайся».
Винсент уехал из Гааги в надежде вернуть расположение Тео. В болотах Дренте, как ему казалось, братья могли восстановить тот мистический союз, который когда-то заключили на рейсвейкской дороге. Это было бы искуплением грехов, которое можно было сравнить лишь с тем, что манило Винсента с еще более далеких пустошей. Жена, семья, дом, искусство – все это Винсент принес в жертву ускользающей мечте об идеальном братстве. Вскоре настанет очередь Тео совершить то же самое.
Глава 20Воздушные замки
Путь от Гааги до Дренте на поезде занимал семь часов. За окнами надвигалась тьма, на сиденье рядом с Винсентом лежала карта Дренте – он не раз изучал ее в те несколько недель, которые потребовались, чтобы подготовиться к отъезду. В качестве конечного пункта своего пути он выбрал «большое белое пятно, где нет названий деревень» – там заканчивались каналы и дороги. Расположенный рядом водоем носил название Zwarte Meer – Черное озеро («Имя, которое заставляет задуматься», – вздыхал Винсент). Поперек «белого пятна» значилось лишь одно слово: Veenen – «торфяные болота».
Когда рассвело, за окном Винсент увидел унылый пейзаж с расстилающимися до самого горизонта бесконечными торфяными топями. «Что привлекательного можно найти в этом краю, где, куда ни глянь, одни болота, – писал о Дренте за три года до этого другой путешественник. – Что надеяться найти здесь, кроме мучительной монотонности?» Все это мало напоминало песчаные пустоши Зюндерта или живые дюны Схевенингена. На здешних холмистых топях выживали только те деревья, что местные жители высаживали вдоль дорог, – высокие, тщедушные пришельцы, отчаянно цепляющиеся за любую кочку. На плотной темно-коричневой почве – густой каше из мертвых растений, такой же темной и светонепроницаемой, как ее древний родственник уголь, – не росло почти ничего, кроме влаголюбивых мхов. Как и уголь, торф можно было использовать в качестве топлива – в краю, где зимы долгие и холодные, а деревьев мало, это было жизненно важно. Местные жители годами собирали драгоценное горючее ископаемое, лишая ландшафт остатков сурового величия. Куда бы Винсент ни взглянул, повсюду виднелись болота, покрытые сетью каналов (скорее, даже канав), которые служили для транспортировки добытого торфа. Его слоями срезали по краям трясины – этот процесс оголил холмистые пустоши Дренте точно так же, как добыча угля выпотрошила землю Боринажа.
Винсент сошел с поезда в городке Хогевен, на карте отмеченном красной точкой (за что он и был выбран в качестве цели пути). «На карте Хогевен обозначен как город, – писал он брату, – но в действительности он им не является (здесь даже нет башни)». Рабочий городок на краю бескрайних болот, Хогевен был застроен простыми современными кирпичными зданиями, которые так ненавидел Винсент. В те времена, когда Хогевен еще являлся центром добычи торфа, часть главного канала была расширена, благодаря чему в городе появилась импровизированная «гавань». Но к концу XIX в. торф из близлежащих болот был выбран, и армии обнищавших рабочих двинулись дальше на восток. Те немногие, кто остался в городе, жили за счет транспортировки сухого торфа с болот на рынок. Каждый день груженные топливом баржи одна за другой прибывали в гавань, некоторые из них буксировали вдоль берега лошади, другие – люди. Женщины и дети, в перемазанных грязью отрепьях, прыгали в воду и принимались разгружать торф. По краям канала тощие коровы пили грязную воду, а выше, по песчаному берегу, шли старики, направляя к баржам тележки, в которые были впряжены еще более тощие собаки.
Перед царящей здесь вопиющей нищетой вынужден был отступить даже хваленый голландский порядок. Годы экономической депрессии, нанесшей особенно тяжкий ущерб сельскохозяйственному производству, нечеловеческие условия труда и равнодушие властей (даже содержание собак здесь облагалось налогом) уничтожили последние признаки цивилизованного общества и породили анархию. «Люди здесь оставлены на произвол судьбы, – сокрушался местный проповедник. – Они практически одичали». Провинции Дренте дорого обошлась государственная политика по переселению преступников и нищих в самые суровые регионы страны, где амстердамские инвесторы использовали их в качестве дешевой рабочей силы. На этой бесплодной земле, заселенной людьми с опустошенными сердцами, возникла страна в стране – глухая и безнадежная, с высоким уровнем детской смертности, безудержным ростом алкоголизма и преступности без намека на раскаяние, – дикая пустыня посреди государства, где уже пять тысяч лет царил порядок.
«Здесь, куда ни пойдешь, повсюду красиво. Степь необозрима», – восклицал Винсент.
В Дренте Винсент нашел обещанную себе и брату сельскую идиллию: край осенней прелести и нравственной самобытности, место, столь же безупречное, как Брабант из их совместных воспоминаний. Покинуть иллюзию семейного счастья, в которую столько было вложено, можно было только ради райского миража. Была ли Дренте подобным раем на самом деле или нет, но Винсент описывал местные болотистые пустоши как «восхитительные» и «невыразимо прекрасные»; воздух здесь был так же «свеж и живителен», как в Брабанте, а ландшафт «так полон благородства, достоинства и торжественности», что хотелось остаться здесь навсегда. «Я очень рад, что оказался здесь, – писал Винсент, – здесь просто великолепно».
Жалкие хижины из дерна, где крестьяне ютились вместе со скотом, он нашел «очень красивыми». Примитивные баржи, груженные торфом, напомнили Винсенту некогда виденные братьями на Рейсвейкском канале; разгружавших их несчастных женщин он сравнил с живописными крестьянками Милле. Владелец меблированных комнат рядом со станцией показался ему «настоящим работягой»; усталые, измученные заботой лица горожан – «физиономии, напоминающие свиней или ворон», привели в восхищение. В медлительной угрюмости местных жителей он видел «здоровую меланхолию».
«Чем больше я узнаю окрестности, – уверял Винсент брата, – тем больше мне нравится Хогевен». «Чем дольше я живу здесь, тем более красивыми нахожу здешние места».
Пылая энтузиазмом, вскоре Винсент сообщил о намерении предпринять путешествие на барже в самое сердце великой торфяной страны, где в то время подходили к концу сезонные заготовки. Он собирался пересечь торфяную топь насквозь и достичь границы с Пруссией: «Дальше, вероятно, можно встретить еще более прекрасные пейзажи».
Идиллические описания неизменно сопровождались ссылкой на любимых пейзажистов Тео – от представителей Золотого века до барбизонцев. Пустошь он описывал не иначе как «растянувшиеся на мили и мили пейзажи Мишеля или Теодора Руссо, ван Гойена или Конинка» или же Жюля Дюпре. Подчеркивая романтическое очарование своего нового пристанища, с особой настойчивостью Винсент упоминал Жоржа Мишеля, чьи пейзажи с клубящимися штормовыми небесами давно были любимы обоими братьями. Письма изобиловали детальными словесными картинами на самые разнообразные сюжеты; как никогда поэтично, Винсент описывал все, что видел перед собой: от возбуждающих желание местных женщин до суровой красоты болот.
Необъятная, выжженная солнцем земля темнеет на фоне нежных лиловатых тонов вечернего неба, и лишь последняя тонкая темно-синяя линия на горизонте разделяет небо и землю… Мерцающее небо от грубой земли отделяет темная полоса соснового леса, у нее красноватый тон – рыжевато-коричневый – бурый, желтоватый, но везде с лиловыми отсветами.
Затем Винсент принялся переносить эти образы на холст. Спустя год стойкого сопротивления он сдался на уговоры Тео и вновь взял в руки кисть: «Ты прекрасно знаешь, что, насколько это возможно, живопись должна стать главным моим занятием». Поклявшись написать «сотню серьезных этюдов», с мольбертом и красками Винсент отправился на поиски живописных пейзажей, запечатлев которые он смог бы раз и навсегда убедить Тео в прелестях Дренте. Он писал хижины сборщиков торфа (сооружения из скрепленного палками дерна), силуэты которых вырисовывались в сумеречном тумане; красные закаты над березовыми рощами и топкими лугами; бескрайние пустоши и трясины под необъятным, написанным широкими мазками небом; пустые горизонты… и ни одной фигуры. Художник прославлял «серьезный, спокойный характер» этих мест и объяснял, как важны для его передачи те самые свет, цвет и тщательность, которые Тео так жаждал видеть в его работах.
В этом то ли реальном, то ли вымышленном артистическом раю Винсент обрел надежду на новое начало. В течение нескольких недель он переслал часть картин в Париж, отважно порекомендовав брату показать их торговцам. Он предвкушал, как вернется в Гаагу триумфатором, автором «характерных видов природы», которые должны были непременно «встретить сочувствие» у покупателей, особенно в Англии. Он сравнивал себя с персонажем романа Альфонса Доде «Фромон-младший и Рислер-старший» – «погруженным в свою работу… простым парнем… беззаботным и наивным, которому немногое нужно для счастья» и которому тем не менее в итоге везет. На холсте он воплотил свое новое видение искупления грехов в старом как мир образе сеятеля, бредущего по зыбким торфяным топям Дренте и бросающего семена в бесплодную трясину.
Но и Винсенту было не под силу долго поддерживать эту иллюзию. Вскоре его настигло одиночество – «эта особая мука». На необозримых просторах местных пустошей можно было «часами не встретить ни одной живой души, кроме, возможно, какого-нибудь пастуха, его овец, его пса, и пес в этой компании наверняка оказался бы самым занятным созданием», писал путешественник, посетивший Дренте в 1880 г. Почту в эти отдаленные места доставляли долго, и письма приходили нерегулярно. «Я настолько оторван от мира», – жаловался Винсент. Как бы ни вдохновляла его природа, как бы ни была она прекрасна, этого было недостаточно. «Должны же быть человеческие сердца, которые ищут того же и чувствуют то же самое». В Хогевене он не нашел себе единомышленников. В замкнутом местном мирке странный пришелец был встречен надменно и с подозрением. Когда он шел по улице, прохожие останавливались и глазели на него, принимая за «нищего уличного торговца». Когда же он начал стучаться в дома к незнакомым людям в поисках живописных сюжетов, так же как когда-то делал в Эттене, по городу поползли слухи, что приезжий не в своем уме. Винсент болезненно переживал недоверие местных жителей («Меня правда беспокоит, что я так плохо умею ладить с людьми»), но и сам отвечал им тем же. Городок он называл гнусным, утверждая, что люди здесь не способны вести себя «так же разумно, как, например, их свиньи».
Взаимная враждебность лишила Винсента и того единственного общения, которое было доступно ему в Гааге, – работы с моделями. Направляясь в Дренте, он был убежден, что сможет найти здесь больше моделей, готовых позировать за самые скромные деньги, – как это было в Эттене. Но за прошедшие с тех пор два года он окончательно утратил облик и манеры амбициозного художника из буржуазной среды. Сражения с Мауве и Терстехом, месяцы изоляции в мастерской на Схенквег, лихорадочное состояние тела и души изменили его. Винсент стал более резким, нервным, озлобленным и, постоянно находясь на взводе, легче впадал в гнев и панику. Да и сборщики торфа и бурлаки на баржах мало напоминали наивных брабантских крестьян. После того как слухи о странном поведении приезжего облетели весь город, люди осмелели. Менее чем через две недели после приезда Винсент мрачно сообщал брату: «Они смеялись и дразнили меня, и я не мог закончить начатые этюды с фигурами из-за того, что модели отказывались позировать».
Переживаемые унижения он относил на счет отсутствия приличной мастерской, а местных жителей обвинял в неспособности «услышать разумные, рациональные просьбы». Как прежде в Гааге, Винсент бурно возмущался людьми, «которых хотел бы заполучить в качестве моделей, но не смог». Все это неминуемо и привычно вело его туда, где он гарантированно мог купить близость за деньги, – к проституткам. В длинном плаксивом письме он расхваливал достоинства этих «сестер милосердия», уверяя, что их общество для него просто необходимо. «Я не считаю их каким-то злом, – пояснял он, – я чувствую в них особую человечность».
Винсент скучал по Син и ребенку. Мысли, омрачавшие его отъезд из Гааги, словно мстительные фурии, последовали за ним и в Дренте. Проведя в Хогевене первые несколько дней, Винсент признался: «Я думаю о ней с чувством глубокой грусти». Все напоминало ему о Син. При виде нищенки на пустоши, матери с ребенком на барже или пустой колыбели на постоялом дворе его «сердце таяло», а глаза становились влажными. Винсент в очередной раз придумывал оправдания для своего ухода и возможности ее спасения. «Такие, как она, достойны бесконечной – да, бесконечной жалости, а не порицания». «Бедное, бедное, бедное существо». На этих безлюдных болотистых пустошах Винсент жаждал ее общества и горько сожалел о том, что не настоял на женитьбе. «Это могло бы спасти ее, – воображал он, – и положить конец моим собственным страданиям, которые теперь, увы, мучительнее вдвое». С каждым днем все сильнее погружаясь в отчаяние, он ждал от Син письма. «Тревога за судьбу этой женщины, моего бедного малыша и второго ее ребенка камнем лежит у меня на сердце, – причитал Винсент. – Наверное, что-то случилось». В панике, мучась сознанием собственной вины, он посылал ей деньги.
Винсент так и не признался брату, сколько денег он оставил Син, уезжая, и сколько отправлял ей впоследствии. В любом случае его скудный бюджет не предполагал подобных расходов, и менее чем через неделю пребывания в Дренте Винсент вновь привычно жаловался брату: «Я вновь истратил все деньги». Пора было платить за жилье, да и предоставлять кредит ему тут никто не собирался. Винсент не мог выплатить долг Раппарду – эта неловкая ситуация сорвала планы идиллического воссоединения с другом. Закончились деньги – стало не хватать красок и холстов. Винсент заранее знал, что в Дренте он не сможет пополнить их запасы и материалы для живописи ему придется заказывать в Гааге, – тех, что он привез с собой, хватило лишь на пару недель работы. Но выбора у него не было – в Гааге у него осталась куча неоплаченных счетов, и ни один торговец не горел желанием снабжать его в кредит. Приближение зимы тем временем обесцветило болотистые ландшафты, лишив их изрядной доли привлекательности в качестве натуры для живописи. «Я нашел здесь столько красивого», – в отчаянии восклицает он. «Потеря времени – вот величайшее расточительство». Без достаточного количества материалов пришлось отложить дальние поездки на пустоши – энергичные вылазки, которые занимали Винсента в первые дни пребывания в этих чужих краях. «Было бы безрассудством предпринимать [их], когда у тебя нет в достатке материалов», – горестно заключал он.
К началу третьей недели сентября ящик с красками практически опустел. Впервые со времен пребывания в Боринаже перед Винсентом замаячила пугающая перспектива безделья. «Я ощущаю невыразимую подавленность, когда нет работы, способной меня отвлечь, – предупреждал он Тео. – Я должен работать, и работать много. Я должен забыться в работе, иначе меланхолия поглотит меня».
Ко всему прочему Винсент пребывал в чрезвычайном раздражении из-за молчания дяди Кора, которому еще из Гааги он отправил несколько работ. В дядином молчании воплотились для него все обиды и предательства прошлого. «Кажется, у дяди есть определенные соображения на мой счет, – писал он об этом единственном, кроме Тео, члене семьи, кто на деле поддерживал его искусство. – Я явно не должен терпеть оскорбления, а тот факт, что он не удосужился даже просто упомянуть, что получил последний пакет этюдов, является очевидным оскорблением. Ни слова мне не написал». В приливе желчности Винсент угрожал «загнать в угол» пожилого дядю, объясниться с ним и «получить удовлетворение».
Было бы трусостью оставить все как есть. Я должен потребовать объяснений… Если же он откажется, то я скажу ему, что он обязан мне их дать, – и у меня есть право сказать ему это – око за око, зуб за зуб, и тогда я в свою очередь тоже не остановлюсь перед тем, чтобы нанести ему оскорбление, совершенно хладнокровно… Я не потерплю, чтобы со мной обращались как с подлецом, чтобы меня судили или обвиняли без того, чтобы дать мне высказаться.
В конце концов Винсент обратился к настоящей мишени своего гнева – Тео. Он обвинял брата в жестокости, в том, что выделяемых им денег хватает лишь на поддержание нищенского существования, утверждал, будто не только карьера, но и отношения с Син могли бы быть успешными, если бы Тео был более щедр. «Я бы предпочел остаться с женщиной, – писал он, – [но] не имел средств действовать в отношении ее так, как мне хотелось бы». Он вменял брату в вину свое мрачное будущее и разбитое сердце, чувство разочарования и бессилия и пустоту в душе.
Винсент вновь напоминал брату о наказании, которому подверг себя зимой 1880-го («скитаясь как вечный бродяга»). «Ты немного в курсе, как я жил в Боринаже. Что ж, я имею все поводы волноваться, что то же самое может случиться со мной и здесь». Единственное, что могло бы помочь ему избежать печальной участи, – это «доказательство искренности» со стороны Тео: во-первых, достаточно денег, чтобы Винсент мог закупить новые материалы, а во-вторых, железная гарантия («четкая договоренность»), что тот продолжит высылать по сто пятьдесят франков в месяц, что бы ни случилось. Зная о финансовых затруднениях брата, Винсент бросал ему вызов, угрожая, что, если денег не будет, он «должен готовиться к любому исходу», включая «безумие».
Сделка, заключенная в Гааге, рушилась. Предпочтя брата своей жизни с Син, Винсент отказался от многого, а приобрел совсем чуть-чуть. Мысль о допущенной ошибке погружала его во все более глубокую депрессию – «отчаяние и разочарование, которые я не в силах описать», – даже в те моменты, когда он выдавливал остатки краски из тюбиков, чтобы кое-как выполнить запланированную на день работу. Без денег, материалов, моделей, общества или ободрения, лишенный «уверенности в будущем и хотя бы капли душевной теплоты», «я совершенно потерян, – признавался художник, – не могу стряхнуть с себя ощущение глубокой хандры».

Пейзаж с дубовыми пнями на болоте. Перо, тушь, карандаш. Октябрь 1883. 30,8 × 37,8 см
Всего через две недели экспедиция в Дренте оказалась на грани краха. «Все проза, все расчет – все, что касается планов на эту поездку, конечная цель которой – поэзия», – сетовал Винсент. Унылые болота теперь казались ему однообразными и надоедливыми – «вечно гниющие вереск и торф», и плесень в качестве урожая. Везде художник видел лишь смерть и умирание: на местном кладбище, где он делал наброски и писал этюды; в фигуре скорбящей женщины в черном крепе; в разложившихся останках старых пней, извлеченных из трясины спустя столетия. Он выслал Тео подробное описание похоронной баржи с сидящими в ней женщинами в траурных одеждах, которая таинственно скользила по болоту усилиями мужчин, бредущих вдоль берега.
Напоминания о смерти были для него мучительны. Чувствуя себя абсолютно разбитым, он проводил дни в праздности, бесконечно перемалывая неудачи прошлого на жерновах вины и самобичевания и все же теша себя иллюзией, что сможет убежать от своих проблем. Винсент разрабатывал детальные планы на будущее, желая отправиться «далее вглубь, несмотря на дурную погоду», или хотя бы арендовать новое жилье – «подальше на пустоши». Но без денег брата все это были лишь фантазии. «Я все яснее вижу, как прочно я здесь застрял, – признавался он, – и как я беспомощен».
Когда будущее и без того казалось Винсенту безнадежным и невыносимым, начались дожди. Небо над болотами затянули мрачные тучи, из которых непрерывно хлестал ливень. Вода заполнила трясины, каналы вышли из берегов, и дороги, некогда отвоеванные местными жителями у болот, вновь вернулись в изначальное состояние непроезжей трясины. Не имея возможности покинуть свой темный чердак, Винсент тосковал, бесконечно прокручивая в голове стихотворение Генри Лонгфелло «Дождливый день», последние строки которого он процитировал в письме Тео: «Ведь в каждой жизни место есть дождю / И дням, что мрачны и унылы». От себя он холодно добавил: «Не слишком ли велико бывает подчас количество мрачных и унылых дней?»
В один из таких дней в конце сентября Винсент подошел к критической черте. Чтобы спровоцировать этот первый зафиксированный психотический эпизод, не понадобилось новых происшествий. После морального кризиса, пережитого в Гааге, в свете приближения новой катастрофы, нервы Винсента были напряжены до предела. Вернувшись в свою комнату, он окинул взглядом унылое чердачное пространство и в луче света, пробивающегося сквозь единственное окно, увидел свой пустой этюдник, выжатые до последней капли тюбики с красками и «кучу стертых, уже негодных кистей». Видение поразило его так, как это было под силу лишь очень точной метафоре. «Все это было слишком жалким, не пригодным ни для чего, обессиленным», – восклицал Винсент, вместе с этим жалким артистическим скарбом оплакивая всю свою жизнь. Гигантская пропасть между великими планами и убогой реальностью вновь открылась его взгляду, и он остро почувствовал, «как безнадежно и мрачно обстоят дела». Волна ужаса, которую так долго удавалось сдерживать неистовой работой, грозила поглотить его безвозвратно. «Последние два дня я был в плену мрачных предчувствий относительно будущего», – писал он брату, уверяя, что его послание – «крик задыхающегося». Мучимый виной и сожалениями, Винсент был почти готов примириться с личным крахом и даже избавить Тео от тяжкой ноши. «Предоставь меня судьбе, – умолял он брата. – Тут уж ничего не поделаешь; этот груз слишком велик для одного человека, а надежды на чью-либо помощь нет никакой. Разве это не достаточное доказательство того, что нам следует сдаться?»
Спасаясь от демонов, вырвавшихся в тот день на свободу в стенах его каморки, Винсент, как обычно, призвал на помощь воображение. В течение следующих нескольких дней сознанием Винсента завладеет новая навязчивая идея.
«Приезжай, старина, приезжай и пиши со мной на этих пустошах».
Бросив этот призыв с пустынных болот Дренте в начале октября 1883 г., на протяжении двух месяцев Винсент всеми силами ума, страсти и воображения пытался убедить Тео бросить работу в «Гупиль и K°», покинуть Париж и присоединиться к нему. «Приезжай, и будем вместе ходить за плугом и пастухом, – умолял Винсент. – Просто позволь степным ветрам хорошенько обвеять тебя!»
В нескончаемых письмах Винсент упрекал Тео в равнодушии к этой очередной своей безумной и отчаянной идее. «Будущее неизменно рисуется мне не как мое одинокое, – писал он в порыве тоски, – а как наше с тобой совместное: в этом болотном краю мы будем работать как два сотоварища-художника». Ни проповедничество в Боринаже, ни увлечение Кее Вос, ни даже «спасение» Син Хорник прежде не вдохновляли Винсента на столь маниакальные фантазии и не вызывали у него таких безудержных приступов тоски. Цель этой кампании, как и всех предыдущих, была фантастична, но Винсент изо всех сил старался уверить себя в обратном. «Я вовсе не строю воздушных замков», – отчаянно настаивал Винсент, прекрасно зная тем не менее, что Тео неоднократно отвергал подобные приглашения. Не далее как летом того же 1883 г. брат уже проигнорировал его призывы переехать в деревню и стать художником.
Почему Винсент вновь пытался убедить брата принять неоднократно отвергнутое им предложение? А главное, предложение столь абсурдное. Только деньги брата отделяли Винсента от полной нищеты; часть заработка Тео шла на содержание родителей и брата с сестрой. Если бы этот самый ответственный член семьи вдруг бросил свою престижную работу ради того, чтобы разделить жизнь самого нерадивого члена той же семьи в самом заброшенном и глухом уголке страны, все остальные родственники были бы обречены на тяготы, а то и на унижение. Но воображение Винсента не знало рациональных пределов. Снова, как когда-то в Боринаже, Винсент оказался в полном одиночестве, и ему просто больше не к кому было обратиться из болот Дренте. События конца сентября наполнили его душу страхами, в которых он не мог признаться самому себе или брату. Почти тогда же Тео стал туманно выражать недовольство своим положением в Париже и намекать о желании уйти от Гупиля. Винсент всегда был готов поддержать брата: меланхолия, иногда охватывавшая последнего, напоминала ему о собственных переживаниях. Но на этот раз Тео зашел дальше, чем обычно. Он пригрозил не просто уволиться, но вообще уехать из Европы и отправиться в Америку.
Перед лицом полной изоляции в момент отчаянной нужды Винсент и задумал свою безнадежную кампанию. Успешно воплотить аналогичное предприятие ему удастся лишь пять лет спустя, когда он заманит Поля Гогена в Прованс.
Винсент упрекал торговцев картинами и «тех, кто проводит жизнь в праздности», в изнеженности. «Будучи художником, в большей мере чувствуешь себя человеком среди людей». Если Тео не станет художником, предупреждал Винсент брата, он «выродится как человек», в роли же художника он сможет свободно скитаться по миру в окружении жизнелюбивых аборигенов, подобных героям Золя. Он указывал Тео на общую мужественность, роднящую художников с прочими «ремесленниками» – например, с кузнецами, – которые «могут делать что-то своими руками». Напоминая Тео его собственные слова, сказанные брату в Боринаже, он превозносил простоту и честность искусства как «ремесла», называя его «восхитительной вещью», способной сделать брата «лучше и глубже». Призывая Тео произвести революцию в собственной жизни, Винсент взывал к духу 1793 года и ссылался на гравюру с картины Боутона из своей коллекции, представляющую героев еще одной, более ранней революции, пуритан, внешний облик которых напоминал ему Тео. У брата, по мнению Винсента, была «в точности, в точности такая же физиогномика», как и у пилигримов, ступивших на борт «Мэйфлауэр», – те же «рыжеватые волосы» и «квадратный лоб». Нужны ли более убедительные доказательства того, что Тео самой судьбой предназначено пойти по следам этих «людей действия», отправившихся искать «простую жизнь» и «прямой путь» на просторы прекрасного нового мира?
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































