Текст книги "Ван Гог. Жизнь. Том 1. Том 2"
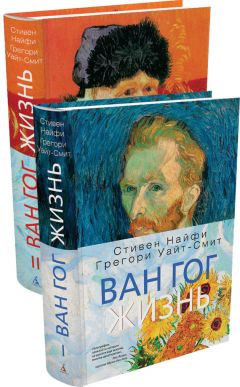
Автор книги: Стивен Найфи
Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 32 (всего у книги 110 страниц) [доступный отрывок для чтения: 36 страниц]
В мае Винсент согласился давать уроки рисования сыну владельца другого магазина красок – тоже, вероятно, в счет уплаты, по обыкновению, просроченного долга. Антуану Фурне был двадцать один год, и он готовился к экзамену на землемера. Ученику пришлось ощутить на себе всю горечь по отношению к художественному сообществу, которую испытывал тогда Винсент, заклеймивший коллег по цеху «неисправимыми лгунами». В прошлом строптивый ученик, Винсент оказался суровым учителем. Любительские акварели Фурне он счел «чудовищными», «ужасной мазней» и установил для ученика строгий режим, заставив заниматься исключительно рисунком. «По моему настоянию он рисовал разные вещи, которые совсем не доставляли ему удовольствия, но он доверился мне в этом», – с гордостью докладывал Винсент брату.
Но подобные случайные контакты не меняли ситуации в целом. «Из-за того, что я ищу настоящей дружбы, мне трудно согласиться на дружбу, скованную приличиями, – жаловался он. – Там, где все продиктовано приличиями, огорчений не избежать». Он называл себя «sentinelle perdue» («часовым на забытом посту»), «больным художником, бедным тружеником». Он сравнивал себя с потрепанными репродукциями, ради которых ему пришлось перерыть целую кипу изорванных старых журналов в доме торговца книгами Блока, – они были свалены кучей, словно «ненужный хлам, мусор, ветошь». Прежде претерпев «страдания во имя любви», он видел в своем нынешнем одиночестве мученичество во имя искусства. Память услужливо подсказывала ему в утешение образы одиноких мучеников: от Христа в Гефсиманском саду до андерсеновского Гадкого утенка. Винсент воображал себя всеми презираемым горбуном Квазимодо из «Собора Парижской Богоматери» Гюго; из глубин самоуничижения он поднимал себя отчаянным криком горбуна: «Noble lame, vil fourreau / Dans mon âime je suis beau».[41]41
«Благородный клинок, презренные ножны, / В душе я прекрасен» (фр.).
[Закрыть]

Раздача супа в бесплатной столовой. Черный мел. Март 1883. 56,5 × 44,5 см
30 марта Винсент провел свой тридцатый день рождения в одиночестве за чтением очередной истории о затравленном изгнаннике – «Отверженных» Гюго. «Порой я не верю, что мне всего тридцать лет, – настолько старше я себя чувствую, – писал он брату. – Особенно когда думаю, что большинство знакомых считают меня неудачником и что, если мои дела не изменятся к лучшему, это может оказаться правдой».
Чтобы избавиться от подобных мыслей, Винсент предпринимал длительные прогулки. Покинув неспокойную квартиру на Схенквег, он бродил по улицам или отправлялся в Схевенинген, считая прогулку по пустынному пляжу лучшим средством «для человека удрученного и подавленного». Он гулял и в шторм, и в снег. Он проходил мимо роскошного дома Йозефа Израэлса – художника, являвшего образцовый пример благочестия в духе Милле и буржуазного процветания, – и с тоской заглядывал в его открытые по случаю уборки в холле двери («Я так ни разу и не побывал внутри», – с сожалением отмечал Винсент). Художник подумывал об отъезде – в деревню, в Боринаж или в Англию.
Дабы не встречаться с бывшими знакомыми, особенно с Терстехом, по булыжным мостовым центральной части города Винсент бродил только ночью. Выйдя на пустынную центральную площадь Платс, он часто останавливался у освещенной витрины магазина «Гупиль и K°» и разглядывал выставленные в ней работы. Однажды апрельским вечером он долго рассматривал небольшую марину работы Жюля Дюпре. Гравюру с этой или похожей картины он подарил отцу за семь лет до того, после своего увольнения из фирмы. В неверном свете газового фонаря трудно было разглядеть эту темную картину, и Винсент приходил к ней много вечеров подряд. «Какое поразительное впечатление она производит», – писал он Тео. На полотне, написанном в мрачных тонах, быстрыми мазками изображена крохотная шлюпка посреди бушующего моря, над которым низко нависло грозное небо. Вдалеке сквозь просвет в тучах пробивается луч солнечного света, вода там зеленая и гладкая. «Когда мои горести становятся совсем уж невыносимыми, я ощущаю себя кораблем, попавшим в бурю», – признавался Винсент.
Однако бывали времена, когда на горизонте не пробивалось ни одного солнечного луча, когда жизнь напоминала «мусорную свалку» и приходилось изо всех сил стараться не «смотреть в бездну». Винсент открыто признавался в своих сожалениях («что-то уже никогда не вернется»), косвенно – в желании покончить с жизнью. Он стал задумываться о том, что может ждать по ту сторону. «Начинаешь все отчетливее видеть, что вся жизнь – это время сеять, а урожая можно и не дождаться».
Единственным прибежищем Винсента остались иллюзии. Тео требовал пригодных для продажи работ, кредиторы – денег, внешнее общение практически сошло на нет; от всего этого Винсент прятался в воображаемом мире. С приходом весны он задумал еще один грандиозный проект – некий образ-символ вроде «Последней поверки», который помог бы ему, по завету Геркомера, привлечь к себе внимание публики и обеспечить репутацию. В ушах у него звучали слова поддержки, услышанные от ван дер Веле, а перед глазами стояла картина Раппарда «Художники» (знакомая ему только по описанию), пробудившая в нем ревнивое желание помериться силами с бывшим приятелем. Винсент вернулся к работе над своим излюбленным сюжетом – бедняки на раздаче бесплатного супа. Прежде подобные бесплатные столовые – établissements de bouillon – он посещал с Раппардом в Брюсселе; в Гааге на пару с Брейтнером он делал наброски в муниципальной столовой для бедняков. Всю зиму эта тема не давала Винсенту покоя. Даже неудачные сентябрьские попытки сделать акварельные наброски групповых сцен не поколебали решимости художника.
Теперь ему уже не надо было бояться враждебной толпы на улице или недовольства завсегдатаев подобных столовых – Винсент воссоздал сцену целиком в своей мастерской.
Несмотря на то что затея явно была ему не по карману, Винсент воспроизвел интерьер известной ему бесплатной столовой у себя в квартире. Он нанял рабочих, и те установили складные ставни на все три больших окна мастерской, «чтобы свет падал точно так же, как в столовой». Винсент отгородил холстом часть комнаты и нарисовал небольшое окошко с двумя створками – через такое суп выдавали в настоящей столовой. Воссоздавая оригинальный интерьер, он перекрасил стены в серый. «Когда обращаешь внимание на подобные вещи, – объяснял он брату, – получается гораздо точнее передать место действия».
Винсент посылал Тео обстоятельные описания мизансцены, сопровождая их подробными рисунками с подписями, где объяснялось назначение каждой детали обстановки. Ничто не осталось без внимания; художник решил ни на чем не экономить. Он нанял целую толпу натурщиков и купил для них «настоящую одежду» – «живописные» залатанные рубахи и юбки из грубого полотна, совсем как те, что были на героях иллюстраций. «Завтра, – писал он, дрожа от предвкушения, – у меня будет полный дом народу».
Весь следующий день, от рассвета до заката, Винсент делал наброски: он без конца переставлял натурщиков, открывал и закрывал ставни, пытаясь так осветить головы фигур, чтобы «как можно более полно и отчетливо выявить характер». Результаты обрадовали его настолько, что он тут же принялся планировать новые усовершенствования, новые расходы, новых моделей и еще много-много новых рисунков. «Буду просто продолжать рисовать, и все», – доложил Винсент о своих планах на будущее. Он писал Тео, что, работая с моделями в мастерской, чувствует себя «по-домашнему» и «доволен ими». Эта сцена напоминала ему гравюру из его коллекции, где был изображен коридор редакции «The Graphic» в преддверии рождественских праздников, когда все модели, которых в течение года изображали на страницах газеты, выстроились в очередь с поздравлениями. Калеки, попрошайки, слепцы поддерживают друг друга, объединенные спасительным духом Рождества.
Теперь он имел возможность наяву воплотить сюжет этой иллюстрации. В планах Винсента было не просто сделать серию рисунков о столовой для бездомных, не просто серию групповых сцен: он хотел устроить на Схенквег непрекращающееся Рождество – «место, где модели могли бы встречаться каждый день, как это раньше бывало в „Graphic“».
«Мой идеал – работать с еще большим количеством моделей, с целой ордой бедняков, которым моя мастерская могла бы служить надежным пристанищем в холода или в дни безработицы и нужды, пристанищем, где они всегда могли бы обогреться, утолить голод и жажду и заработать немного денег. Покамест я предоставляю им все это лишь в очень малых масштабах, но…»
Глава 19Иаков и Исав
В Париже Тео с тревогой перечитывал письмо брата. Странная идея превратить квартиру на Схенквег в частную столовую для бедных казалась закономерным итогом художественной карьеры Винсента, ущербной, полной срывов и блужданий в поиске пути, – карьеры, которую, как и прочие начинания его брата, по всей видимости, ждал крах.
Тео честно пытался направить брата по верному пути, но без особого успеха. Если он оглядывался назад в размышлениях о происшедшем за последние два года, ему должно было казаться, будто все это время он только и делал, что спорил с Винсентом о том, в каком направлении должно развиваться его искусство. С осени 1880 г. любые обсуждения глобальных или мелких художественных вопросов неизменно превращались в горячую дискуссию. Первые рисунки Винсента с их пуританской простотой Тео называл старомодными – критикуя его чрезмерную увлеченность прошлым. Тео сетовал, что рисунки брата не только слишком велики, чтобы привлечь покупателей, но к тому же они чересчур сухи (упрек в чрезмерном увлечении карандашом) и чересчур темны, – эти обвинения легко можно было отнести к столь любимому Винсентом черно-белому канону в целом. Тео призывал брата обратиться к более жизнерадостным сюжетам, вместо того чтобы бесконечно рисовать столь милых его сердцу угрюмых рабочих и жалких стариков. Покупатели желали «приятных и привлекательных» образов и приобретали их с гораздо большим удовольствием, чем те, что отмечены сумрачным настроением.
Он неутомимо призывал Винсента чаще обращаться к пейзажу, к чему у него, похоже, был врожденный талант, и неустанно уговаривал его использовать больше цвета и тщательнее прорабатывать детали. Бесчисленные рисунки одиноких фигур на пустом фоне никогда не будут востребованы покупателями – эту мысль Тео повторял в своих письмах снова и снова. Люди покупают произведения искусства, когда они им нравятся, кажутся приятными и очаровательными, – уж это-то он успел усвоить за десять лет работы в торговле картинами. Покупателям плевать на высокие принципы и утомительные рассуждения Винсента, им нужна «детальность», нужна законченность.
Все предложения брат отвергал, в ответных письмах обрушивая на Тео нескончаемый поток аргументов. В ту зиму поток обратился настоящим водопадом – Винсент пытался оправдать растущие расходы и отсутствие изменений в его искусстве. Два раза в неделю в почтовом ящике Тео у Гупиля появлялся пухлый конверт с письмом, полным сбивчивых оправданий и обещаний будущих успехов. Многолетний опыт подсказывал Тео, что любая попытка прямой критики заставит брата уйти в глухую оборону, которая может продлиться недели, а то и месяцы. Поэтому, следуя примеру отца, он избегал прямых столкновений, маскируя свои увещевания под общими рассуждениями о яркости палитры и красотах природы. Он отправлял брату пространные описания красочных сцен, которые могли бы послужить материалом для чудесных картин, и восхвалял колористов и пейзажистов, сумевших добиться успеха.
Но в этой битве иносказаний – не менее яростной, чем открытый спор, – Винсент не желал уступать брату, на его пространные описания отвечая своими, каждое упомянутое имя парируя другим именем, каждый намек – своим намеком. Он неоднократно (и часто в чрезвычайно деликатных и почтительных выражениях) просил брата помочь ему советом, но практически никогда его советам не следовал. Несмотря на признания в любви к акварели и пейзажу, возвращение к живописи все время откладывалось на неопределенное время. Ловко перекладывая бремя нереализованного потенциала на плечи брата, Винсент расхваливал выразительные словесные картины в письмах Тео, восхищаясь ими как доказательством истинного призвания последнего и вновь уговаривая его сделаться художником («Я как будто вижу эту стоянку такси и тот почтенный писсуар, обклеенный рекламными листовками, о которых ты так замечательно рассказываешь. Как жаль, что ты не можешь все это нарисовать!»).
В ответ на замечание брата, что его литографии производят довольно унылое впечатление, Винсент жаловался на скудость присылаемого братом пособия («да и моя жизнь слишком уныла и скудна») и заявлял, что все начинающие страдают от аналогичных проблем. В ответ на призыв обратиться к более привлекательным образам художник хвастался, что изобразил «парня с тачкой, полной навоза». В ответ на просьбу Тео тщательнее прорабатывать рисунки Винсент принимался восхвалять «честность, простодушие и правдивость» своих неприукрашенных изображений. Вопреки всем увещеваниям (помимо Тео, об этом говорили Мауве и Терстех), Винсент горячо отстаивал свое пристрастие к большим листам бумаги, как у Барга, отметал аргументы против них как «необдуманные и легкомысленные» и клялся, что никогда не изменится. В конце концов он фактически отказал Тео в праве вообще как-либо комментировать свои рисунки, пока тот не увидит их собранными все вместе в мастерской.
Кажется, бо́льшая часть советов Тео имела целью подготовить непокорного брата к встрече с искусством импрессионистов. За пять лет, проведенных в Париже, Тео имел возможность видеть, какого успеха достигли такие художники, как Мане, Дега и Моне, со времен унизительного аукциона 1876 г. в Отеле Друо. Их яркие, вызывающие работы тогда еще не успели потеснить гигантов, вроде Бугеро и Жерома, чьими картинами по-прежнему были увешаны стены галерей «Гупиль и K°», но мода и капитализм явно были на стороне импрессионистов. Годом ранее, в 1882 г., Французское государство прекратило официальную поддержку Парижского салона, оставив художников на милость рынка. Импрессионисты, которые к тому моменту успели провести семь ежегодных выставок, уже выучили новые правила успеха. Будучи младшим «часовым» в бастионе старого порядка, Тео еще несколько лет не имел возможности торговать работами художников типа Моне и Дега, но уже предвидел, что их коммерческий успех неотвратим. «Мне кажется вполне естественным, – писал он брату о грядущей революции, – что желанные перемены произойдут». Сознавая, что Винсенту никогда не достичь точности и ловкости кисти его героев – Милле и Бретона, Тео, вероятно, видел в грубоватых и незавершенных полотнах импрессионистов то пространство, где нетерпеливый глаз и безудержная манера его брата могли найти себе идеальное применение.
Винсент, однако же, сопротивлялся любой попытке вырвать его из объятий прошлого. Ему казалось, что предложенные импрессионистами новшества противоестественны и вредны. Особенно возмутило Винсента предсказание Тео, что эти художники вытеснят его любимых Милле и Бретона. Он связывал импрессионистов с силами декаданса, приближение которого предвещал Геркомер. «Изменения, которые наши современники внесли в искусство, не всегда сделаны к лучшему; не все новое – как в произведениях искусства, так и в самой личности художника – равнозначно прогрессу», – предупреждал брата Винсент. Он обвинял импрессионистов в том, что они «потеряли из виду исходную точку и цель» в искусстве. Карамельные цвета и неясные очертания были в его глазах олицетворением «спешки и суматошности» современной жизни, с ее уродливыми дачами в Схевенингене, исчезающими вересковыми пустошами Брабанта и лежащим на всем отпечатком смерти. Свойственную импрессионистам вольность интерпретации действительности – à peuprès,[42]42
Приблизительность, неточность (фр.).
[Закрыть] их претензии на научный подход к цвету Винсент резко критиковал, считая всего лишь свидетельством «ловкости». Ловкость, предупреждал он, никогда не спасет искусство: это может сделать только честность.
Смягчить это неприятие импрессионизма оказался бессилен даже Золя. Созданный им образ художника – декадента и авангардиста Клода Лантье – служил Винсенту объектом нападок на новое искусство. «Было бы лучше, если бы Золя показал художника другого сорта, нежели Лантье», – дискутируя с Тео, писал он в ноябре 1882 г. Винсент слышал, что прообразом этого героя стал один из пионеров импрессионизма Эдуард Мане. «Не худший представитель школы, которую, кажется, называют импрессионистами», – допускал Винсент, впервые употребляя в своих письмах этот термин. Признавая ловкость Мане, Винсент осуждал представления Золя о современном искусстве, называя их «поверхностными», «неверными», «неточными и несправедливыми», а применительно к Мане и ему подобным говорил, что «художники в массе своей состоят из людей не такого типа». Представители нового стиля не просто отказывались следовать путем старых мастеров, но «прямо себя им противопоставили». «Заметил ли ты, что Золя совершенно не упоминает Милле?» – с изумлением и ужасом отмечал Винсент в одном из писем.
Одно из ключевых положений импрессионистов – об отсутствии в природе черного цвета как такового – служило камнем преткновения в спорах братьев. Для художника, сделавшего ставку на черно-белые изображения, подобное утверждение представляло экзистенциальную угрозу. С идеей в целом Винсент был согласен (хотя и выражал свое согласие вскользь, между прочим), однако настаивал на том, что Тео и импрессионисты поняли все с точностью до наоборот. В то время как они утверждали, что все оттенки черного состоят из разных цветов, Винсент считал, что, напротив, все остальные цвета являются составленными из оттенков черного и белого. «Едва ли найдется хоть один цвет без примеси серого», – пояснял он. Высшее достижение колориста – «получить на своей палитре серые тона натуры». В доказательство он высылал брату детальные описания этих серых тонов природы: «коричнево-серой земли» картофельных полей, «сероватых полос» у горизонта и ландшафтных видов, с нависшим над бескрайними просторами «слегка желтоватым, но в общем серым небом».
Словно бросая вызов осторожным попыткам брата подтолкнуть его в сторону импрессионизма, всю зиму Винсент был одержим идеей поиска самого черного оттенка черного цвета.
Тео знал об этом еретическом замысле с апреля 1882 г. – с того момента, когда Винсент признался, что порвал с Мауве, и заявил о нежелании заниматься акварелью. Полный решимости доказать, что выбранная им черно-белая техника не хуже той, от которой он отказался, Винсент принялся искать способ соединить насыщенный черный любимых им рисунков пером с энергичной моделировкой и разнообразием оттенков карандашных набросков. Угольный карандаш давал отличный черный оттенка угольной пыли, но свойственная Винсенту исступленная манера работы оказалась не слишком подходящей для этой техники – рисунки оказывались смазанными или чрезмерно темными. Он попытался сделать так, чтобы карандашные рисунки выглядели как рисунки углем – с более насыщенным черным цветом; чтобы добиться этого, Винсент пытался убрать глянцевитость, пропитывая листы фиксативом. «Нужно просто вылить на рисунок большой стакан молока или молока, разведенного водой, – описывал Винсент свои необычные манипуляции. – Это дает особый насыщенный черный цвет – намного более глубокий, чем на обычных рисунках карандашом». Один из посетителей мастерской на Схенквег в 1882 г. был поражен, видя, как Винсент, «макая губку в бадью с грязной водой, то и дело смачивает свои рисунки».
Строгое очарование литографии, которой Винсент заинтересовался ровно в тот момент, когда Тео с особой настойчивостью стал убеждать брата использовать больше цвета, вновь пробудило одержимость художника черным. Он убедил себя, что предыдущие попытки получить рисунки, пригодные для воспроизведения методом литографии, оказались неудачными именно по причине недостаточно глубокого черного цвета карандаша, угля или мела. В течение нескольких месяцев литографский карандаш – плотный брусочек напоминающей мыло жирной черной субстанции – казался Винсенту обретенным святым Граалем, заветным источником вожделенного идеального черного. В отличие от обычной пастели литографский карандаш можно было комбинировать с графитным, дорабатывая им карандашный рисунок и до фиксации молоком, и после, что позволяло добиться «великолепного черного цвета». Винсент также обнаружил: если пропитать рисунок водой, штрихи литографского карандаша размываются до консистенции краски, благодаря чему становится возможным проработать их кистью; глубокие, бархатистые черные тона, получаемые при использовании этого метода, напоминали ему английские иллюстрации. Он называл это «живописью черным».
Даже после того, как затея с литографиями провалилась, Винсент продолжал пользоваться литографским карандашом, утверждая, что он «дает такую же глубину эффекта, такое же богатство тона, как живопись». Однако вскоре Винсент открыл для себя еще более насыщенный черный. Среди сумбурного нагромождения своих художественных запасов он обнаружил несколько кусков «природного» черного мела, привезенных Тео из Парижа прошлым летом. «Я был поражен, как прекрасен его черный цвет», – сообщал Винсент Раппарду. Восхищаясь грубоватой природностью этого материала (в те времена мел для рисования чаще получали промышленным способом), Винсент дал ему прозвище bergkrijt – «горный мел». «В этом материале есть душа и жизнь», – утверждал он. «Работать с ним – ни с чем не сравнимое удовольствие».
Теперь, когда Винсент сжимал в руке небольшой, заостренный на конце брусок черного мела, призывы Тео сделать работы более жизнерадостными, цветными, светлыми и импрессионистическими трогали его еще меньше. Рисунки, которые Тео получил от брата в марте 1883 г. (вскоре после истории с обустройством в мастерской столовой для бедняков), являли собой квинтэссенцию этого нескончаемого увлечения черным: в них Винсент комбинировал горный мел, литографский карандаш, черную акварель и чернила. Для Тео эти новые работы брата, вероятно, ничем не отличались от штудий, виденных им в мастерской Винсента предыдущим летом или даже почти за два года до этого в Эттене: темные, безрадостные, непривлекательные рисунки – упражнения в неповиновении и отрицании.
В спорах об искусстве находил выход куда более глубокий антагонизм, причиной которого являлась полная зависимость Винсента от брата. Просьбы выслать денег становились все пронзительнее. «Они нужны мне, как лугу нужен дождь после долгой засухи», – писал Винсент, но, сколько бы ни прислал Тео, ему всегда требовалось больше. Винсент тратил деньги с беспечностью, которая наверняка ужасала брата: то и дело покупал вещи в кредит, неустанно занимался переустройством мастерской. Непомерные расходы Винсент, как правило, объяснял потребностями своего искусства. Но упоминания о «дороговизне содержания дома» и неких «тяжких заботах», похоже, заставляли Тео подозревать наличие иных, нежелательных поводов траты его щедрых пожертвований.
Когда в мае Тео сообщил, что дела в фирме Гупиля пошли на спад, а сам он теперь пребывает в «несколько стесненных» обстоятельствах, Винсент не отступил ни на шаг. Уверяя Тео, что деньги ему совершенно необходимы, он предупреждал его: «Сократить пособие – все равно что задушить меня или утопить. Без него мне сейчас обойтись не проще, чем прожить без воздуха». В ответ на просьбы Тео проявить терпение и жертвенность, игнорируя требования найти работу, Винсент лишь настаивал, что ему нужно больше моделей.
Подобная расточительность и равнодушие к увещеваниям брата были встречены в Париже резким негодованием. Но вместо того, чтобы заставить Винсента присмиреть, порицание со стороны брата лишь добавило ему храбрости. Он открыто отверг «кошмарную перспективу» постоянной работы, раздраженно напомнив Тео о том, что братский долг – «утешать друг друга, а не расстраивать и приводить в уныние».
Кажется, будто Винсентом владел некий дух злонамеренности и противоречия: на щедрость он отвечал неблагодарностью, на самоотверженность – недовольством. Зависимость от младшего брата он сравнивал с пленом – «как жук на нитке может отлететь недалеко, но неизбежно будет остановлен». По-прежнему разражаясь иногда декларациями братской любви и призывами к миру, в то же время Винсент все чаще демонстрировал раздражение опекой Тео. Он пренебрегал настойчивыми рекомендациями общаться с коллегами и лучше одеваться (утверждая, будто это принесет вред его искусству). Когда Тео посмел намекнуть, что за два года, минувшие с момента решения стать художником, Винсент не достиг особых успехов, последний объяснил медленный прогресс невниманием со стороны брата и недостаточным финансированием. Винсент позволял себе все более ядовитые суждения на тему арт-рынка и торговцев искусством, задевая в своих тирадах и самого Тео.
Чем настойчивей Тео призывал брата сосредоточиться на изготовлении привлекательных для публики работ, тем яростнее сопротивлялся Винсент. Летом 1883 г. в надежде раз и навсегда закончить этот спор Винсент прибег к страшной угрозе: «Если же ты будешь настаивать, чтобы я ходил к разным людям и просил их купить мои работы, я подчинюсь, но в таком случае, вероятно, впаду в хандру». «Дорогой брат, человеческий мозг не в состоянии вынести все, есть предел… – писал Винсент. – Когда я пытаюсь говорить с другими о своей работе, это не приносит мне ничего хорошего, только заставляет еще больше нервничать».
Возможно желая смягчить напряженность отношений с братом и развеять атмосферу неразрешенного конфликта, свой ежегодный отпуск в августе 1883 г. Тео решил провести в Гааге. Братья не виделись с предыдущего лета, когда Тео безуспешно пытался выдворить Син из квартиры на Схенквег. И спустя год эта тема продолжала омрачать все споры братьев. Перспектива новой ссоры наполняла письма Винсента тревогой относительно будущего и воспоминаниями о прежних предательствах, череда которых, по его мнению, не прерывалась с того самого дня, когда он покинул пасторский дом в Зюндерте. «Отец любил размышлять над историей Иакова и Исава применительно к нам с тобой, – напишет он несколько месяцев спустя, вспоминая библейскую историю о младшем брате, посягнувшем на право первородства, – и не то чтобы совсем без оснований».
Лишь в одном вопросе враждующие братья были абсолютно единодушны: когда речь заходила о любовнице Тео.
Женщины всегда были его слабостью. Сердечные приключения – единственное, что позволяло Тео отвлечься от жизни, подчиненной долгу и проводимой в почти монашеском самоотречении. В самом живом из всех городов привлекательный и общительный холостяк двадцати пяти лет от роду легко мог найти себе объект увлечения. Париж был полон женщин в поисках перспективных знакомств. Экономические перемены, прокатившиеся волной по всей Европе, и особенно по сельской Франции, привели в «город света» десятки тысяч незамужних женщин. Среди них было немало образованных, не чуждых культуре дочерей провинциальных торговцев и лавочников. Не все из них собирались стать проститутками, по крайней мере не в традиционном смысле. Часто с благословения собственных семейств они очертя голову бросались в бурное море новых социальных возможностей, где все, включая любовь, сводилось к модному буржуазному уравнению: молодые женщины приезжали в Париж в надежде обрести мужа и деньги, но необязательно и то и другое сразу и необязательно в таком порядке.
Одной из этих искательниц счастливой жизни была девушка из Бретани по имени Мари.
Фамилию Мари, равно как и подробности ее биографии, история не сохранила. С Тео она встретилась предположительно в конце 1882 г. при неких «драматических обстоятельствах», на которые намекал в своих письмах Винсент. Днем Тео вращался в пестром мире галерей и шикарных магазинов, вечерами посещал модные рестораны и кафе – с учетом этого слова Винсента вряд ли можно считать намеком, скрывавшим захватывающую тайну. Шелест купюр и сияние электрических огней сами по себе превращали любое парижское знакомство в «драматические обстоятельства». Винсент мог ссылаться на некую мелодраматическую ситуацию, в которой Мари предстала перед Тео как девушка, нуждающаяся в спасении: покинутая беспечным любовником, оставшаяся без гроша после уплаты его долгов или пораженная каким-нибудь жестоким недугом.
О внешности Мари ничего не известно, но Тео, очевидно, находил ее милой и привлекательной. Бездетная дочь родителей-католиков (Винсент описывал ее как девушку порядочную, из среднего сословия), Мари, судя по всему, была достаточно молода. Она умела читать и была «вполне культурной» девушкой. Нежно досадуя на наивность своей подруги, Тео любовно рассказывал брату об окружавшем ее флере («je ne sais quoi»)[43]43
Нечто (фр.).
[Закрыть] провинциального простодушия. Он описывал Винсенту Мари как свежую деревенскую девушку, чьи волосы по-прежнему хранят запах соленого ветра на бретонском побережье, резвушку с картины любимого обоими братьями Жюля Бретона, жертву трагических злоключений в духе романов Золя. Тео, с неизменно присущей ему верностью чувству долга, не просто вступил в интимную связь, но решил полностью восстановить девушку в правах: он донимал чиновников от ее имени, снял для нее номер в гостинице и пытался найти ей работу. При всей своей осторожности, в любви Тео был стремителен и пылок – почти сразу после знакомства он стал подумывать о женитьбе на Мари.
Винсент встречал каждую деталь амурных признаний брата с горячечным энтузиазмом. Споры об искусстве и деньгах отошли на задний план – их сменили искренние выражения заботы и готовность пойти на жертвы. «Спасти жизнь – дело великое и прекрасное». «Не лишай ее ничего ради меня», – уговаривал он брата. Когда, как это всегда бывало с Тео, на смену радости пришли тягостные раздумья о будущем, Винсент развернул кампанию, ободряя изнывающего от любви брата бесчисленными страницами советов и слов утешения и поддержки. Считая себя большим специалистом в сердечных делах, он снабжал брата всевозможными практическими инструкциями на любой случай – от советов, как лучше содержать любовницу («Любое другое место будет для нее лучше унылого гостиничного номера»), до наставлений, как нужно ухаживать («Безоговорочно дай ей понять, что ты не можешь жить без нее»). Винсент посылал Тео списки романтических книг (особенно Мишле) и перечень образов, которые, по его мнению, должны быть под рукой у любого влюбленного (включая неизбежную Mater Dolorosa – Богоматерь Скорбящую).
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































