Текст книги "Гранд-отель «Бездна». Биография Франкфуртской школы"
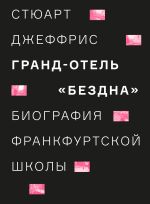
Автор книги: Стюарт Джеффрис
Жанр: Документальная литература, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
В том, что он делал, было нечто очень еврейское. Пруст, сам великий еврейский писатель, стремился избавить свое детство от разрушительного влияния времени, изъяв его из континуума истории художественной работой романа. Беньямин черпал вдохновение в этой идее, но цель его мемуаров была иной. Размышляя о своем привилегированном детстве, он пытался понять себя и свое место в истории как функцию классовой системы капитализма. Для Пруста память была средством воссоздать безмятежность, остановить стрелу времени; для Беньямина же акт припоминания на письме был палимпсестом, диалектикой; двигавшись вперед и назад во времени, он, по его собственным словам, переплетал расходящиеся во времени события трудом Пенелопы над памятью.
«Берлинское детство», по мысли Беньямина, должно было достичь большего – стать чем-то вроде духовной профилактики от наступающего на его родину нацизма и следующего за ним вероятного изгнания. «Я не раз, – писал он во введении к книге, – убеждался в действенности прививок, исцеляющих душу; и вот я вновь обратился к этому методу и стал намеренно припоминать картины, от которых в изгнании более всего мучаешься тоской по дому, – картины детства. Нельзя было допустить при этом, чтобы ностальгия оказалась сильнее мысли – как и вакцина не должна превосходить силы здорового организма. Я старался подавлять чувство тоски, напоминая себе, что речь идет не о случайной – биографической, но о необходимой – социальной невозвратимости прошлого»{45}45
Беньямин В. Берлинское детство на рубеже веков. С. 9.
[Закрыть].
При первом чтении этих строк невозможно отделаться от впечатления, что замысел выглядит безнадежным, что он скорее инфицирует и ослабит потревоженного изгнанника, чем закалит его перед лицом надвигающихся бедствий; что он скорее разбередит рану, чем залечит ее. Действительно, переживающие невзгоды философы иногда стремятся утешиться созерцанием счастливых времен. Возьмите, к примеру, Эпикура, пишущего другу, что в последний день своей жизни, когда боли от мочеиспускания невероятно велики, он тем не менее весел, потому что «воспоминания об их философских беседах противостоят этим невзгодам»{46}46
Цит. в Muljadi P. Epicureanism: The Complete Guide. Pediapress. 2011.
[Закрыть]. Философская беспристрастность преодолела, как утверждал Эпикур, боль от камней в почках.
Однако придуманная Беньямином идея самовакцинации от страданий будет, пожалуй, своеобразнее того, что предложил Эпикур. Для начала он понимает, что воспоминание о прошлом может пробудить тоску по счастливому времени, тоску, которая не может быть утолена. Эпикур преодолевает последствия физической боли через философскую отрешенность; Беньямин, видимо, стремится преодолеть душевную боль утраты и тоски по дому посредством отрешенности иного типа, выдающей в нем скрытого марксиста. Прустовская затея утолить тоску, извлекая детство из времени при помощи письма, тем самым его обессмертив, не для Беньямина. Образы тоски по дому, возникающие в его воспоминаниях, по задумке, пожалуй, должны помочь ему осознать, что утраченное есть утраченное, а размышления о невозвратимости детства смогут как-то успокоить его и привить от страданий.
В этом месте, однако, происходит важный поворот: Беньямин, как замечал он сам, писал не о случайной, автобиографической природе утраты; ее, в конце концов, все мы испытываем по мере того, как взрослеем и оглядываемся назад, часто с любовью, на детство, которое никогда уже не сможем пережить заново, разве только в относительно слабом движении воображаемого его воссоздания. Скорее, он пишет о необходимой социальной невозвратимости прошлого, размышляя как исторический материалист и марксист не только об утрате своего, Вальтера Беньямина, привилегированного детства, но об утрате целого мира, это детство поддерживавшего. Что определило столь исключительное значение этих чудесных мемуаров Беньямина для ведущих светил Франкфуртской школы, так это отсылка к утраченному миру возрожденной Германской империи конца XIX – начала XX века, миру, где светские евреи существовали в комфорте и материальном достатке. Мир, выглядевший в детских глазах постоянным и незыблемым, оказался, как показал Беньямин, коротким и недолговечным, словно лето из сонета Шекспира.
Поэтому для Беньямина не было прустовского бегства из утраченного времени, а было просто утешение – если можно употребить такое слово – для того, кто размышлял о неизбежности утраты. Теодор Адорно, друг Беньямина и, пожалуй, величайший мыслитель Франкфуртской школы, написал самые проницательные слова об этих воспоминаниях, сказав, что они проникнуты «скорбью о том невозвратимом, утраченном навсегда, что стало для автора аллегорией заката его собственной жизни»{47}47
Адорно Т. Послесловие // Беньямин В. Берлинское детство на рубеже веков. С. 139.
[Закрыть]. Но как найти утешение или вакцину от такой скорби? Как оградить себя от прошлых и будущих бед, вспоминая материально более стабильное прошлое, навеки исчезнувшее? Затея выглядит эзотерической, контрпродуктивной и в то же время содержит подрывной политический заряд. Беньямин искал в своих воспоминаниях поддержки, но открыл нечто противоположное: его детство было ненадежным маленьким мирком, который развалился несмотря на то, что казался безопасным еще незадолго до своей окончательной гибели.
Странная особенность детских воспоминаний Беньямина заключена в том, что в них он постепенно избавляется от людей. Спустя четверть века, в «Берлинской хронике», он еще навещает семью и школьных друзей. Но в «Берлинском детстве на рубеже веков», написанном в 1932 году, его воспоминания становятся литературным эквивалентом нейтронной бомбы – люди исчезают, их места занимают вещи. Печеное яблоко, лоджии в бабушкиной квартире, колонна Победы в берлинском Тиргартене служили пусковым крючком для ассоциаций, открывавших его прошлое и служивших его желаниям в Поверомо. В очерке о Прусте он пишет, что стержнем «Поисков» является «одиночество, которое с силой Мальстрёма увлекает мир в свой водоворот». Как пишут Айленд и Дженнингс, для Беньямина роман Пруста означает «превращение существования в хранилище памяти с центром в водовороте одиночества»{48}48
Eiland H., Jennings M. Walter Benjamin. P. 327. Рус. пер. см. Айленд Х., Дженнингс М.У. Вальтер Беньямин: критическая жизнь. С. 339.
[Закрыть]. Тон мемуаров Беньямина схожий. Эти воспоминания могут вызвать у вас обманчивое впечатление, что он был единственным ребенком в семье. Его родители – безмолвные сущности (не считая отца, выкрикивающего в телефонную трубку угрозы и проклятия в адрес какой-нибудь инстанции, куда он звонил с жалобой). Портрет его детства таков, что в нем едва ли есть место даже няне – оно занято вещами.
«Все во дворе давало мне уроки, – написал Беньямин во фрагменте “Берлинского детства”, названном “Лоджии”. – Сколько бы мог поведать сухой треск, с которым поднимались зеленые оконные жалюзи! А сколько зловещих угроз я благоразумно не желал слышать в грохоте железных штор, когда они опускались на закате дня!»{49}49
Беньямин В. Берлинское детство на рубеже веков. С. 12.
[Закрыть] Между тем эти обезлюдевшие воспоминания, читающиеся как элегия фетишизированным предметам потребления из его родительского дома, скорее призрачны, чем реальны. Каждый предмет хранит дух человеческого присутствия, историю, теплоту привязанности.
Мыслители Франкфуртской школы периодически оказывались под впечатлением от того, как вещи могут сохранять тепло нашей привязанности к людям. Спустя годы Адорно будет писать о силе предметов – о том, как либидозная сосредоточенность на любимом человеке может быть воспроизведена в нашей привязанности к объектам нечеловеческого происхождения. «Чем больше отношений с другим человеком может привязать субъект к одному и тому же объекту в процессе либидозного катексиса, – говорит нынешний директор Франкфуртской школы Аксель Хоннет об этой идее Адорно в своем очерке “Овеществление”, – тем многосторонее оказывается этот предмет в объективной реальности»{50}50
Honneth A. Reification: A New Look at an Old Idea. Oxford University Press. 2008. P. 62.
[Закрыть]. Адорно был убежден в возможности говорить об отношении к вещам как к чему-то одушевленному, и Беньямин это убеждение, несомненно, разделял. Но своими воспоминаниями Беньямин не просто производил опись в сокровищницах прошлого: «Тот, кто просто составляет опись своих находок, но при этом не устанавливает в сегодняшней почве точных места и положения, в которых хранились старинные сокровища, лишает себя главного приза. В этом смысле для настоящих воспоминаний важен не столько отчет, сколько точное указание того места, на котором их приобрел исследователь. Эпическая и рапсодическая, в строжайшем смысле, подлинная память должна поэтому передавать образ вспоминающего, так же как и хороший археологический отчет должен рассказывать не только о тех слоях, откуда происходят находки, но прежде всего о тех, что ему сначала пришлось раскопать»{51}51
Benjamin W. Selected Writings. Vol. 2. P. 576.
[Закрыть].
По мере того как Беньямин погружался в прошлое, он открывался самому себе: он не просто записывал прошлое, но актуализировал настоящее. Принимая во внимание вышесказанное, важно отдавать себе отчет, что он записывал прошлое, в частности прошлое привилегированных мальчиков, родившихся и выросших в семьях материально успешных, по большей части светских предпринимателей еврейского происхождения незадолго до Первой мировой войны. Исходя из этого своего привилегированного положения, Вальтер Беньямин и Франкфуртская школа стремились вынести приговор тому, что сделало это положение возможным. Развивая мультидисциплинарное интеллектуальное движение, названное критической теорией, они также выносили приговор ценностям, которых придерживались их отцы. Критик Тимоти Джеймс Кларк, обозревая посмертно опубликованные незавершенные «Пассажи» – величественные руины книги, под завязку наполненные свидетельствами фантасмагорической природы потребительского капитализма в Париже XIX столетия, усердно переписанные Беньямином на карточки в Национальной библиотеке французской столицы, – заметил, что «с самого начала над этими карточками нависала тень еще более значительного, еще более замечательного исследования, где все великие мечты поколений его отца и деда были бы изобличены в своей относительности»{52}52
См. Clark T.J. Reservations of the Marvellous // London Review of Books. 22 June 2000 на lrb.co.uk.
[Закрыть]. Эта книга никогда не была написана Беньямином, однако желания ее закончить он никогда не оставлял. «Мы должны очнуться от существования наших родителей», – написал он в «Пассажах»{53}53
Benjamin W. The Arcades Project. P. 908.
[Закрыть]. Но почему? Видимо, потому, что отцы ведущих мыслителей Франкфуртской школы были в числе самых пламенных приверженцев капитализма. Поэтому детские и юношеские проблемы Беньямина и других франкфуртцев в отношениях с отцами, к которым мы обратимся в следующей главе, имели принципиальное значение для развития критической теории в XX столетии.
2. Отцы и дети и другие конфликты
«Если бы Фрейд жил и вел исследования в другой стране, в пределах другого языка, а не в немецко-еврейской среде, поставлявшей ему пациентов, – писала философ Ханна Арендт, – мы, вероятнее всего, никогда бы даже не услышали об эдиповом комплексе»{54}54
Арендт Х. Вальтер Беньямин. 1892–1940 / Пер. Б. Дубина. М.: Издательство GRUNDRISSE, 2014. С. 85.
[Закрыть]. Арендт говорит о том, что противоречия между отцами и сыновьями, возникавшие в очень специфических жизненных условиях, преобладавших в семьях богатых евреев вильгельмовской и габсбургской империй в последние годы XIX и первые годы XX века, обеспечили Фрейду возможность разработки представлений о патриархальном обществе и эдиповом конфликте как о природных фактах. Почти все светила Франкфуртской школы – Беньямин, Адорно, Хоркхаймер, Левенталь, Поллок, Фромм, Нойманн – сопротивлялись транслируемому отцовским авторитетом Weltanschaung[3]3
Мировоззрение (нем.).
[Закрыть], а многие самым различным образом бунтовали против своих отцов, ставших очень успешными материально.
Без этих эдиповых войн путь развития критической теории был бы другим. Описанная Томасом Манном в «Будденброках» схема истории немецкой буржуазной семьи – первое поколение делает деньги, второе закрепляет общественное положение, а третье впадает в «эстетическое расстройство»{55}55
См. Jay M. The Dialectical Imagination. P. 292.
[Закрыть], – была непроизвольно опрокинута франкфуртцами. Скептики, сомневающиеся в заслугах Франкфуртской школы и критической теории, могут предположить, что семьи Беньямина, Адорно, Хоркхаймера пропустили одно поколение, перейдя от денег сразу к эстетическому расстройству. Однако думать так, пожалуй, не совсем честно. Вернее будет сказать, что если франкфуртцы пропустили одно поколение, то только для того, чтобы сразу выступить против предыдущего, заработавшего деньги и потому обеспечившего своим сыновьям безбедную привилегированную жизнь. Поступая подобным образом, они играли не Томаса Манна, но Франца Кафку. Как замечает Петер Деметц в своем введении к сборнику очерков Беньямина под названием «Размышления»: «Во многих семьях Европы конца XIX столетия одаренные сыновья пошли против коммерческого интереса своих отцов, по большей части евреев, ассимилировавшихся после переезда из провинций в более либерально настроенные города, к буржуазному успеху. Создавая в знак духовного протеста свои альтернативные миры, они радикально изменили будущее науки, философии и литературы»{56}56
См. Benjamin W. Reflections. P. xiii.
[Закрыть].
Даже если Фрейд прав в том, что каждый сын желает символической кастрации своего отца – и должен совершить ее во имя своего душевного здоровья и взрослого процветания, – эдиповы конфликты не по годам развитых, образованных немецкоговорящих евреев Европы конца XIX – начала XX века приняли совершенно особый оборот. Этот оборот означал отказ от материалистических ценностей их отцов, которые, в свою очередь, взяли их на вооружение в борьбе против своих собственных родителей.
Один из основателей института социальных исследований, социолог литературы Лео Левенталь (1900–1993) вспоминал в книге своих мемуаров «Неприрученное прошлое: автобиографические размышления Лео Левенталя», как эта династическая борьба разворачивалась в его собственной жизни. Особенно много про это написано в той части книги, что носит название (его определенно можно было бы сделать девизом Франкфуртской школы) «Я никогда не хотел играть в поддавки». Собственный отец Лео, Виктор, хотел быть адвокатом, но его отец (дедушка Лео), строгий правоверный иудей, преподававший в еврейской школе во Франкфурте, отказался дать свое согласие, так как опасался, что Виктору придется писать и работать в шабат. Вместо этого он настоял на том, чтобы сын изучал медицину, и, хотя душа его к ней совершенно не лежала, сын не посмел ослушаться отца. «Но затем, – вспоминал Левенталь, – он отомстил – не могу сказать, насколько сознательно, – позже став полностью “свободным”: не просто нерелигиозным, но решительно антирелигиозным».
Отец для Лео Левенталя был типичным воплощением образа мыслей XIX столетия, названного им «механико-материалистическим, позитивистским способом мышления», против которого он взбунтовался вместе со своими коллегами по Франкфуртской школе. По его воспоминаниям, атмосфера в доме была светской. «Я почти ничего не знал об иудаизме… Я до сих пор помню, как в шестом классе нас разделили для религиозного обучения. Когда учитель велел протестантам собраться в одной части классной комнаты, католикам в другой, а евреям в третьей, я остался сидеть на месте – я и правда не знал, к какой религии отношусь!»{57}57
Löwenthal L. An Unmastered Past. California University Press. 1987. P. 17–18.
[Закрыть]
Позже, в юности, Левенталь, к большому неудовольствию своего отца, занялся изучением и освоением иудейского наследия. Будучи студентом в Марбурге, он учился у Германа Когена, либерального еврея, с головой погруженного в иудаизм и еврейскую религиозную философию. Немецко-еврейский интеллектуал того времени не ведал недостатка в суррогатных отцах, готовых дать рано повзрослевшим сыновьям ту поддержку, которой им недоставало дома. В Гейдельберге Лео присоединился к группе левых студентов-сионистов, ожесточенно противостоявших другой еврейской группе из университета, «Объединению организаций немецких студентов иудейского вероисповедания», студенческой организации ассимиляционистской ориентации. Левенталь презирал эту группу из-за их веры в полную интеграцию евреев в состав германской нации. «Только теперь я понимаю, что я так сильно ненавидел в этих ассимиляционистах, – вспоминал Левенталь. – Не то, что, будучи евреями, они хотели быть такими же людьми, как и все остальные, а то, что их убеждения были глубоко капиталистическими»{58}58
Ibid. P. 19.
[Закрыть].
Вновь и вновь мы вместе с франкфуртцами видим неприятие такого понимания ассимиляции, неприятие идеологии, благоприятствовавшей их отцам в немецком обществе и противоречившей их зарождающимся социалистическим убеждениям. Эти сыновья-интеллектуалы взбунтовались против наследия Просвещения, притягательного для их отцов именно по той причине, что оно придавало интеллектуальный лоск их материальному успеху.
В 1923 году Левенталь женился на Голде Гинзбург, женщине родом из довольно ортодоксальной еврейской семьи из Кёнигсберга. Пара решила вести кошерное домашнее хозяйство, посещать синагогу и отмечать иудейские праздники. «Конечно, на моего отца это произвело катастрофическое впечатление, и он сразу же невзлюбил мою жену». Отец Левенталя презирал любого еврея, проживавшего к востоку от Эльбы, называя их Ostjuden[4]4
Восточные евреи (нем.).
[Закрыть] (снобизм, испытываемый укорененными, материально успешными евреями из немецких городов вроде Франкфурта по отношению к приезжим соплеменникам из Восточной Европы). Уже в конце своей жизни Левенталь вспоминал, как огорчился отец, узнав, что его сын решил соблюдать кашрут. «Я до сих пор очень хорошо это помню – он разразился слезами ярости. Для него стало ужасным разочарованием то, что его сын, которого он, отец, подлинный наследник Просвещения, так “прогрессивно” воспитал, оказался в “бессмысленных”, “темных”, “лживых” лапах позитивной религии»{59}59
Ibid.
[Закрыть].
Этот отказ поступать ожидаемым образом, быть послушным и заслужить отцовскую любовь был характерен для многих еврейских интеллектуалов, как для сотрудников Школы, так и для их друзей и ровесников. Если отец был верующим иудеем, сын ударялся в атеистический бунт; если отец был светским евреем, погрязшим в немецком национализме, сын бунтовал, обращаясь к иудейскому религиозному наследию или к набирающему силу движению политического сионизма.
Эрнст Блох (1885–1977), немецко-еврейский автор, чья эзотерическая, утопическая марксистская философия глубоко повлияла на Франкфуртскую школу и с кем Беньямин в 1920-х годах курил гашиш, совершил свой первый неуклюжий акт неповиновения, когда в момент собственной бар-мицвы объявил себя атеистом{60}60
Geoghegan V. Ernst Bloch. Routledge. 2008. P. 79.
[Закрыть]. Близкий друг Беньямина, родившийся в Германии израильский философ и историк Гершом Шолем (1897–1982), был одним из троих сыновей, взбунтовавшихся против собственного отца, Артура Шолема – ассимилированного берлинского еврея, немецкого националиста и владельца успешного печатного бизнеса. Вернер Шолем стал коммунистом, Рейнгольд – членом националистической Deutsche Volkspartei[5]5
Немецкая народная партия (нем.).
[Закрыть], а Гершом, отвергнув политические предпочтения отца, стал сионистом, изучающим иврит, Талмуд и любые каббалистические тексты, какие только мог найти. Есть даже история про то, как портрет основателя современного политического сионизма Теодора Герцля, купленный Гершому матерью, висел в доме Шолемов в одной комнате с рождественской елкой – словно в качестве символического укора отцу-ассимиляционисту со стороны сына-сиониста{61}61
Biale D. Gershom Scholem: Kabbalah and Counter-history. Harvard University Press. 1982. P. 9.
[Закрыть].
Макс Хоркхаймер, который, став в 1930 году директором Института социальных исследований, трансформировал его из ортодоксального марксистского заведения в междисциплинарный институт с уклоном в психоанализ и ревизионистский марксизм, являет собой типичный пример немецко-еврейского интеллектуала той эпохи, обманувшего отцовские надежды. Успешный и уважаемый бизнесмен, владевший несколькими текстильными фабриками в штутгартском районе Цуффенхаузен, Моритц Хоркхаймер ждал от сына, что тот пойдет по его следам. «С самого первого года моей жизни мне было предназначено стать преемником отца в качестве директора производственной компании», – позже напишет Макс{62}62
Wiggershaus R. The Frankfurt School: Its History, Theories and Political Significance. MIT Press. 1995. P. 41.
[Закрыть]. Он посещал не классическую гимназию с интеллектуальным уклоном, а Realgymnasium, где учащихся готовили к карьере в практической сфере. Следуя желанию отца, в 1910 году Макс в возрасте пятнадцати лет покинул гимназию, чтобы работать на семейное дело, а позже стал младшим управляющим. Отец устраивал его неоплачиваемым практикантом в Брюсселе и Манчестере, для того чтобы юный Макс мог наряду с бизнесом изучить французский и английский. Однако эти заграничные поездки оказали чересчур раскрепощающее влияние на Хоркхаймера: освобожденный от родительских оков и удушающей буржуазной атмосферы Штутгарта, он писал другу: «Мы сбежали из мира страданий, и теперь наша память о нем есть постоянная радость, вызванная тем, что мы от него избавились»{63}63
Abromeit J. Max Horkheimer and the Foundations of the Frankfurt School. Cambridge University Press. 2011. P. 25.
[Закрыть].
В Брюсселе к нему присоединился Фридрих Поллок (1894–1970). Так же как и Макс, Фридрих был сыном богатого промышленника и так же набирался делового опыта на другой фабрике в столице Бельгии. «Фриц» стал экономистом и социологом, а также предшественником Хоркхаймера на посту директора Института социальных исследований в самом конце 1920-х годов. Заодно ему предстояло стать для Макса другом на всю жизнь и фактически родственной душой. «У меня был идеал друга, с которым я мог бы делиться всем, что было важным для меня», – вспоминал он позже{64}64
Ibid. P. 22.
[Закрыть]. Был еще третий участник этой компании, названной Хоркхаймером isle heureuse[6]6
Блаженный островок (франц.).
[Закрыть] – интеллектуально, эмоционально и эротически заряженной зоны, не ограниченной буржуазными нормами, – Сюзи Ноймайер, кузина Макса. Они были знакомы и раньше: ее семья каждый год приезжала в Штутгарт из Парижа, где у них был дом. Однако, как только она стала частью узкого круга, их отношения приобрели иной оборот. Хоркхаймер навестил ее в Париже, и она последовала за ним в Кале. В планах отца было отправить сына после Брюсселя в Манчестер для ознакомления с новейшими технологиями производства. Вместо этого Хоркхаймер с Поллоком сняли квартиру в Лондоне, а вскоре к ним присоединилась и Сюзи. В этот момент Макс и его двоюродная сестра влюбились друг в друга. «Je suis а vous, – писала она Хоркхаймеру в порыве страсти, – corps et ame»[7]7
«Я ваша – душой и телом» (франц.).
[Закрыть]. Два уважаемых семейства оказались втянуты в скандал. Последовало заявление в британскую полицию. Отец Сюзи, вооружившись пистолетом, отправился через Ла-Манш. В Лондоне родители обнаружили, что Поллок уже задержан полицией. Разрушив этот, как назвал его Джон Абромайт, bateau ivre[8]8
Пьяный корабль (франц.).
[Закрыть] на троих, семьи вернули Макса с Фрицем в Штутгарт, а Сюзи в Париж{65}65
Ibid. P. 26.
[Закрыть].
Тем не менее по возвращении в Штутгарт Хоркхаймер продолжил борьбу с отцовским авторитетом. Начав трудиться на семейной фирме, он вскоре закрутил новую любовную интрижку, на этот раз с личной секретаршей отца. Что до его родителей, то они не считали Рози Рикхер подходящей женщиной для их единственного сына: она была старше его на восемь лет, экономически ниже классом и не еврейка. Она пришла на фирму Хоркхаймера только после того, как ее отец, тоже бизнесмен, стал банкротом. Это и вынудило ее пойти работать секретаршей после окончания торговой школы. Впрочем, когда об интрижке стало известно родителям Макса, она была уволена.
Все романтические отношения Хоркхаймера, начиная с самых первых, были привязаны к зарождавшемуся в нем духу социальной критики, находившей свое выражение в повестях, написанных им во время Первой мировой войны. В одной из них, названной «Весна», молодой студент бежит от своих богатых родителей, влюбившись в женщину из соседней деревни. Они поднимаются в часовню на вершине холма, проходя мимо бродяги, которого она знает и боится. В стенах часовни они делают все, чтобы мысли о нем не разрушили их романтическое блаженство. Однако бродяга появляется за амвоном и произносит расстраивающую их проповедь о несправедливости. Затем он приближается к паре со словами: «Мне жаль вас, теперь вы знаете истину… Но недостаточно снять розовые очки, встав тут в смущении и замешательстве. Вам придется воспользоваться своими глазами и научиться ходить по равнодушному миру. Погрузитесь в забытье и цените каждую минуту, проведенную вне сознания, ибо сознание ужасно. Только боги могут сохранить его ясным и незамутненным, еще и улыбаясь при этом»{66}66
Ibid. P. 31–32.
[Закрыть]. По этой причине религии любви, принятой студентом вместо отвергнутой им религии его родителей, в этом несправедливом мире оказывается недостаточно.
В другой новелле, «Леонард Штейрер», написанной в это же время, Хоркхаймер изображает бунт против такой несправедливости. Согласно сюжету, рабочий, именем которого названа повесть, застав свою девушку Йоханну Эстланд с сынком промышленника, убивает его. Прикарманив его деньги, они с Йоханной пускаются в бега. «Если бы такие люди, как он, могли быть “добры”, – с горечью объясняет Леонард Йоханне, – эти люди, чьи удовольствия, образование и даже сама жизнь приобретены за счет огромного числа чужих несчастий! То, что я совершил, не может быть злом. Разница между им и мною состоит в том, что я должен был действовать и нашел в себе на это достаточно отваги и силы, а он мог только сидеть в комфорте и наслаждении, и ему даже не приходило в голову, какова цена его удовольствия, насколько запятнано оно кровью… Йоханна, если ты не жестока, если в тебе есть хоть что-то человеческое, ты должна принадлежать мне так же, как ты принадлежала ему!»{67}67
Wiggershaus R. The Frankfurt School. P. 43.
[Закрыть] Они проводят вместе счастливый день, тратя деньги убитого сынка в бутиках и ресторанах. Однако день этот обречен: появляется полиция и арестовывает Леонарда, которого затем приговаривают к смерти.
Леонард как персонаж не является таким уж необычным типом для художественной литературы первых десятилетий XX века: интеллектуально, экономически и сексуально фрустрированный рабочий в чрезвычайно социально расслоенной капиталистической системе, ломающей его надежды и мечты. Леонард – родственная душа обедневшему страховому агенту Леонарду Басту, персонажу романа Эдварда Моргана Форстера «Говардс-Энд». Но если Баст опутан обездвиживающими его печалью и ressentiment («Мне не нужно ваше покровительство. Мне не нужен ваш чай. Мне без вас было очень хорошо», – говорит он невольно его опекающим сестрам Шлегель, которые пригласили его к себе домой, «чтобы помочь»{68}68
Форстер Э.М. Говардс-Энд / Пер. Н. Жутовской. М.: АСТ, 2014. С. 137.
[Закрыть]), то Штейрер предпочитает действовать. Варварство цивилизации, воплощенное в его никчемном сопернике, по крайней мере в тот момент для него очевидно. Ответить на это варварство можно отвагой и силой. В данном случае – убийством.
А что же Йоханна? Она размышляет о «смутном, загадочном чувстве вины», которым обладал ее мертвый любовник, «она его никогда не разделяла и думала, что это просто симптом болезни». Леонард, по ее мнению, заслуживает ее любви не больше и не меньше, чем сын промышленника, «и эта мысль заставила ее содрогнуться. На мгновение она взглянула в сердце мира – широко открытыми, полными ужаса глазами – она увидела неутолимую, жестокую алчность всего живущего, тяжкую, неизбежную судьбу каждого создания, одержимость желанием, этим никогда не иссякающим источником всех зол, дающим вечное жжение и муку»{69}69
Wiggershaus R. The Frankfurt School. P. 43.
[Закрыть] – отрезвляющий фрагмент, читающийся так, словно его позаимствовали у Шопенгауэра, чья философия пленяла множество немецких интеллектуалов и художников задолго до Хоркхаймера.
Кажется, будто за отважной борьбой против бесчеловечного социального порядка, изображенной в этой повести Хоркхаймером, прячется отвратительный призрак: несокрушимая, неутолимая воля, управляющая всеми созданиями и с неизбежностью проявляющая себя в алчности и жестокости. Именно у этой воли все мы, марксисты и немарксисты, находимся в плену: мы привязаны, как думал Шопенгауэр, к Иксионову колесу, принужденные сносить эту каторгу воли – бежать с нее можно, только погрузившись в эстетическое созерцание или в буддистское отречение. На тот момент, однако, Шопенгауэр был политическим реакционером, немецким философом-идеалистом, не разделявшим убеждения его современника Маркса, что цель философии не объяснять мир, но изменить его, уничтожив несправедливость и неравенство, лежащие в основе капитализма.
Эта новелла, опубликованная вместе с другими текстами того времени в томе под названием «Aus der Pubertät»[9]9
«Из периода взросления» (нем.).
[Закрыть] через год после смерти Хоркхаймера в 1973 году, любопытна как раз этим «вынужденным браком», заключенным между абсолютно различающейся темпераментами парой – протомарксистской социальной критикой и шопенгауэровским отчаянием. Леонард воплощает критику капиталистических ценностей промышленника-отца и его привилегированного соучастника-сына (их реальные аналоги – Моритц и Макс Хоркхаймеры). Йоханна изображает пессимистическое ощущение, что борьба с несправедливостью аннулируется непобедимостью зла и неизбежным человеческим уделом одновременной одержимости и унижения желанием. Это не тот брак, который, как можно было бы подумать, продлится долго.
Но отменяет ли пессимизм Шопенгауэра raison d’etre борьбы марксиста? Альфред Шмидт, пишущий об этих ранних новеллах в книге «Интеллектуальный облик Макса Хоркхаймера», утверждает: «Человечество, увязшее в своей вечной природе, и непоколебимая борьба с временной несправедливостью уже выходят на центральное место в его мышлении. Здесь одинаково важны и предлагаемая им необходимость устранения “несправедливого распределения благ”, и его сомнения в том, что воплощение самых дерзких утопий сможет повлиять на “великое мучение”, поскольку в основе жизни… лежат мука и смерть»{70}70
Schmidt A. Max Horkheimer’s Intellectual Physiognomy // On Max Horkheimer: New Perspectives / Ed. S. Benhabib, W. Bonss, J. McCole. MIT Press. 1995. P. 26.
[Закрыть].
Несмотря на весь свой гегельянский марксизм, мысль Хоркхаймера так никогда и не расторгла этой странной помолвки со своей мрачной шопенгауэровской невестой. Первой прочитанной им философской книгой были «Афоризмы житейской мудрости», он приобрел ее в Брюсселе в 1911 году. В 1968 году, уже практически в конце своей жизни, он опубликовал статью, названную им «Шопенгауэр сегодня», где писал: «Мои отношения с Гегелем и Марксом и мое желание понять и изменить социальную реальность не смогли затмить моего впечатления от его [Шопенгауэра] философствования, несмотря на все сопутствующие ему противоречия»{71}71
Ibid.
[Закрыть]. Шмидт говорит о том, что, вероятно, вся критическая теория поражена, и это стоит подчеркнуть, данным противоречием: «Концептуальные мотивы из Маркса и Шопенгауэра, где последний отвечает за malum metaphysicum, метафизическое зло, а первый за malum physicum, зло физическое, играют друг против друга на всех уровнях критической теории, поскольку “справедливое общество” есть также “цель, всегда связанная с виной”, а не только с научно контролируемым тотальным процессом»{72}72
Ibid.
[Закрыть]. Подобно тому как для Беньямина у цивилизации обязательно имеется своя варварская сторона, так и утопия справедливого общества у Хоркхаймера непременно запятнана виной.
И все-таки шопенгауэровская эсхатология, которую принимает Хоркхаймер, не имеет отношения к Марксу. Для Шопенгауэра не существует ни окончательного искупления, ни наказания, ни рая на Земле или же вне ее. У него есть только космического масштаба бесцельность: «Воля с этой точки зрения, взятая объективно, предстает как безумец, а субъективно – как безумие, которым объято все живущее, так что оно, в крайнем напряжении своих сил, стремится к чему-то такому, что не имеет никакой ценности. Но при более внимательном рассмотрении мы и здесь убедимся, что она – скорее какой-то слепой порыв, совершенно беспричинное и немотивированное влечение»{73}73
Шопенгаэур А. Собр. соч. В 6 т. Т. 2: Мир как воля и представление / Пер. с нем. под ред. А. Чанышева. М.: ТЕРРА – Книжный клуб; Республика, 2001. С. 300.
[Закрыть]. Тем не менее в его философии есть и понятие человеческого сопереживания как мотивирующего действия, облегчающего страдание. Именно его Хоркхаймер находил привлекательным. Шопенгауэр полагал, что сопереживание подразумевает отождествление: «Это предполагает, что я до известной степени отождествился с другим, и, следовательно, упразднилась на мгновение граница между Я и не-Я: тогда только обстоятельства другого, его нужда, его горе, его страдания становятся непосредственно моими»{74}74
Шопенгауэр А. Об основе морали // Шопенгауэр А. Свобода воли и нравственность. М.: Республика, 1992. С. 222.
[Закрыть].
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?





































