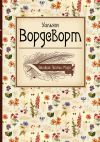Текст книги "Флорообраз во французской литературе XIX века"

Автор книги: Светлана Горбовская
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Пантеистическая флора В. Гюго
В 1882 г. в газете «Дон-Кихот» карикатурист Ш. Жильбер-Мартен изобразил В. Гюго в виде Орфея, которому покорны звери, деревья, камни, цветы. Тема Природы проходит через все поэтическое наследие Гюго, начиная со сборников «Оды и баллады» («Odes et Ballades», 1826) и «Восточные мотивы» («Les Orientales», 1829), где в основном он обращается к далекой истории, народным легендам. Уже здесь, отрываясь от традиции классицистической оды, прославляющей монарха, Гюго начинает «изображать», передавать особенности «колорита» того или иного края, обращается к атмосфере, которая окружала людей, транслировать особенности их психологии, их национальные традиции. В 1820-е годы Гюго прощается с некоторыми аспектами прошлого Франции, задумываясь над ее будущим, и это ожидание нового развивает тему спора между классицизмом и романтизмом. Отвечая на критику приверженцев классицизма в статье «О лорде Байроне в связи с его смертью» («Sur lord Byron, à propos de sa mort», 1824), он говорит о том, что не видит для себя возможности в такой сложный и драматичный исторический период писать как раньше. «Нельзя после гильотины Робеспьера писать мадригалы в духе Дора, и не в век Бонапарта можно продолжить Вольтера. Настоящая литература нашего времени – та, деятели которой подвергаются остракизму, подобно Аристиду. ив бурной атмосфере которой, несмотря на широкие и рассчитанные гонения против нас, расцветают все таланты, как иные цветы произрастают лишь в местах, овеваемых ветрами…»[118]118
Hugo V. Oeuvres complètes de Victor Hugo: 4 vol. Bruxelles: Adolphe Wahlen et C°, 1837. Vol. 2. R 626.
[Закрыть].
Хотя в двух первых сборниках о субъективном символическом флорообразе речь не идет, природа (флора и фауна) уже в этот период становится у Гюго одним из основных способов передачи особой атмосферы, воссоздания картины жизни давно минувших эпох. А. Моруа в книге «Олимпио, или Жизнь Виктора Гюго» обращает внимание на то особое место, которое Гюго отводил Природе в своем творчестве и в своей жизни. С самого детства флора стала для Гюго своеобразной религией, без которой он не мыслил творческий процесс[119]119
Тема природы в творчестве В. Гюго исследуется в следующих работах: Aguettant L. Victor Hugo, poète de la nature / texte établi par Jeanne et Jacques Lon-champt. R: L’Harmattan, 2000; Villiers Ch. L’Univers métaphysique de Victor Hugo. R: J. Vrin, 1970; Gely C. Paysages de Victor Hugo. R: Mont-de-Marsan, 1998; Glauser A. La Poétique de Hugo. R: Librairie A. G.Nizet, 1978.
[Закрыть]. Южная природа Марселя, Корсики, Эльбы, Италии, а позднее – красота испанского пейзажа, таинственный сад у дома № 12 на улице Фельянтинок в Париже, где он жил с марта 1812 г. с матерью и братьями, оставили глубокий след в памяти поэта. Образ этого чудесного, сказочного мира растений он воссоздавал в своих стихах, а также окружал себя прекрасными садами в реальной жизни – например, в доме № 11 на улице Нотр-Дам-де-Шан, где он жил с Адель и детьми. Гюго принадлежит теоретическая разработка французского «живописного» стиля, благодаря которому литературно-художественный загородный пейзаж стал сложным, помимо многообразия красок наполненным точными наблюдениями и естественнонаучными знаниями[120]120
Разработка «живописного стиля» В. Гюго подробно изучена в названных выше работах Б. Г. Реизова, Т. В. Соколовой.
[Закрыть].
Главную роль в создании картин природы у Гюго, как и в поэзии Ламартина, играет французский романтический пантеизм. Началом пантеистической темы в поэзии Гюго, а также источником первых примеров субъективно-коннатативного флорообраза, стал сборник «Осенние листья» («Les Feuilles d’automne», 1831), изданный через год после Июльской революции, но обращенный не к насущным проблемам общества, а к человеческой душе. Поэт назовет его сборником «незаинтересованной» поэзии, имея в виду далекую от политических вопросов литературу В дальнейшем пантеистическая тема звучит практически во всех поэтических сборниках Гюго. Поэт постоянно возвращался к тому или иному мотиву, развивал его, усложнял. Такие важные акценты его поэзии, как концепция светлой и темной сторон природы, тема иерархии в природе, сопоставление мира растений с человеческим социумом, проходят практически сквозь все сборники 1830-1880-х годов, но центральными в этом плане стали, помимо «Осенних листьев», «Внутренние голоса» («Les Voix intérieures», 1837), «Лучи и тени» («Les Rayons et les Ombres», 1840), «Песни улиц и лесов» («Les Chansons des rues et des bois», 1865) и «Последний сноп» («Dernière Gerbe», 1902).
В пантеизме Гюго божественное начало растворено в Природе; сама Природа есть божественное, незримое око (солнце, планеты, звезды), смотрящее на людей со своей бесконечной высоты, а на земле есть предметы и знаки – в частности, это цветы, – которые имитируют светила и переговариваются со своими небесными прототипами. Пантеизм Гюго, в отличие от пантеизма Ламартина, проникнут в основном светлой, оптимистической атмосферой. Образ созидательной, лучезарной природы он пронесет сквозь все свое обширное и долгое творчество. Человек Гюго находится в конфликте с миром людей, но с миром природы (т. е. синтезом Природы и Бога) он слит воедино – он ее часть, ее плоть и кровь, в ней он находит поддержку и защиту.
Главное, что отличает пантеизм Гюго от пантеизма Ламартина, – это единство человека с мировой душой, с природой и космосом. В природной иерархии человек занимает верхнюю позицию. У Ламартина слабый смертный находился у ног природы, природа возвышалась над его могилой своей вечной титанической мощью. У Гюго человек сам становится титаном и ассоциируется с такими образами, как высокое, могучее дерево, растущее на вершине холма, на высоком берегу реки. Это дерево связано с прошлым, с историей. Человек у Гюго – не простой смертный, а часть огромного древа – он так же вечен, как и вся природа. Другие феномены природы – растения, животные – тоже обладают душой и каждый выполняет свою неповторимую функцию в общей системе мирового синтеза, или мировой души.
Гюго продолжает еще одну важную традицию, заложенную Ламартином. Он сосредотачивает внимание на субъективно-коннотативном
флорообразе, подводит читателя близко к описываемому растению и через образ цветка или дерева передает мысли о единении космоса и земли, о синтезе мироздания, о природе Франции, без которой ему особенно тяжело в изгнании. Флорообраз отличается детальностью, точностью. Зачастую Гюго прибегает к персонификации, наделяет растение чертами если не человека, то живого существа, способного чувствовать, мыслить, смотреть, говорить. Флорообраз выходит на первый план, он – действующее лицо произведения. Основные флорообразы, которые проходят сквозь все творчество Гюго и являются наиболее знаменательными, – это ромашка (символ единения земли и космоса, символ мировой души), дуб – символ человеческой мощи, связи времен, роза – символ красоты и поэтического начала в природе, а также исторической памяти в мифологии, культуре, литературе, осенние листья – символ старой Франции или старых времен, образ одичавшего сада – символ романтизма и новой революционной эпохи, эпохи перемен.
Одной из первых тем, связанных с символическим флорообразом 1830-х годов, стала тема прошлого и памяти о прошлом. Название сборника 1831 г. «Осенние листья» само по себе знаменательно. Оно является иносказанием, подразумевающим целый ряд событий в жизни поэта (смерть матери, сына, болезнь брата Эжена), а также жизни общества – через образ леса или парка, утратившего свою листву, показан отживший мир, государство, избавившееся от королевского легитимизма. Опавшие листья становятся первым субъективно-ассоциативным флорообразом, на котором Гюго сосредотачивает внимание читателя, вынося его в заглавлавие сборника, а также неоднократно вводя в текст стихотворений. Пусть осенние или опавшие листья (собирательный образ, подразумевающий листья, опавшие с деревьев всей старой Франции) не описываются в данный период близко и детально, как в будущем ромашка, дуб или роза, но они выделяются автором как акцентный образ, как символ. К примеру, яркой метафорой старого мира, вбирающей в себя образы древней архитектуры и листвы, которая хоронит под собой или одевает саваном старые дома, является вступление к стихотворению «Закат солнца» («Soleil couchant»):
J’aime les soirs sereins et beaux, j’aime les soirs,
Soit qu’ils dorent le front des antiques manoirs
Ensevelis dans les feuillages…[121]121
Hugo V. OEuvres complètes: Les Feuilles d’automne. Les Chants du crйpuscule. Les Voix intйrieures. Les Rayons et les Ombres. P.: Ollendorf, 1909. P. 100–105.
[Закрыть]
(«Я люблю красивые и безмятежные вечера, люблю, когда они / золотят фасады старинных замков, / погребенных в листве…»)
Замок, укрытый листвой, – яркая метафора отжившей, ушедшей навсегда старой Франции. Слово «le feuillage» обозначает, кроме «листвы», «срезанные ветки», «орнамент из листьев». «Золотой фасад» ассоциируется с цветом осенней листвы. Причастие прошедшего времени от глагола «ensevelir» (хоронить, погребать, заворачивать в саван) дополняет образ смены времен. Но Гюго пишет, что «любит» эти вечера, эти закаты; он любит смотреть на прошлое Франции, он бережно хранит память о былых временах. Золотистый закат солнца, символизирующий закат старого мира, перекликается с золотым цветом листвы. Не золото горит на ее стенах, а лишь листва. Но цвет опавших листьев и цвет солнца – золотой, намекающий на цвет монархической лилии. Хотя Гюго был далек от роялистских и католических убеждений уже к концу 1820-х годов, а также изменил свое отношение к Наполеону и в «Дневнике революционера 1830 года» пишет о пересмотре своих взглядов, о взрослении, в «Осенних листьях» чувствуется не критика старого режима, но желание сохранить память о нем.
В стихотворении «Господину Луи Б.» («À Louis В.») из сборника «Осенние листья», посвященном отцу Гюго, возникает субъективно-коннотативный образ упавшего орехового дерева, продолжающий ряд флорообразов, связанных с увяданием, осенью, смертью. Орешник (лещина), на который Гюго смотрит с вершины холма, – это старое, надломленное, почти упавшее дерево, теряющее свою листву, но сохраняющее величие и красоту: «Большое дерево упало и лежит одно в ложбине». Орешник – плодовое дерево, дающее жизнь, – это иносказание, подразумевающее отца Гюго, в прошлом боевого генерала, героя наполеоновских войн. Листва, травы, цветы – «осиротевшее семейство», которое собирается вокруг великана, и его седая крона, с которой облетает листва, принимает и прощает всех, кто приходит к нему. Образ опавшей листвы, старого дерева, отжившей флоры символизирует как великое прошлое Франции, так и прошлое семьи Гюго, которое уступило место новой жизни. Генерал Сигисбер Гюго пытался вернуться к прежней жизни – соединиться с женой и детьми, но сердце матери Гюго было отдано другому – генералу Виктору Лагори. Главная мысль Гюго, которая звучит в последней строфе стихотворения, – память об отце: в доме его больше нет, но его нет и в могиле.
К мотиву осенней, опавшей или срезанной растительности Гюго возвращается и намного позднее. Например, в изданном посмертно сборнике «Последний сноп» часто появляются образы «древнего леса», «опавшей листвы», «осеннего поля» («Пейзаж», «Дыхание оживляет дряхлый лес»). Образ этот появляется во многих стихотворениях сборников «Песни сумерек» и «Внутренние голоса». В предисловии к «Внутренним голосам» Гюго сопоставляет прошлое Франции с сухими листьями, слетающими с короны монарха, которые новое поколение должно собрать, чтобы помнить: «Франция может уронить листок со своего густого и славного венца; потомок должен подобрать… этот лист <…> Франция имеет право забыть, семья имеет право помнить» [122]122
Ibid. Р. 357–360.
[Закрыть]. Таким образом, осенние листья – это не столько символ расставания с прошлым, сколько символ памяти – напоминание о некогда цветущей, зеленой, могущественной силе. В том же предисловии к «Внутренним голосам» Гюго, используя классический флорообраз монархической лилии, говорит о необходимости памяти, об уважении к прошлому: «Нужно, чтобы он [поэт] мог приветствовать трехцветное знамя, не оскорбляя лилии»[123]123
Ibidem.
[Закрыть]. В более поздних сборниках запущенный сад с засохшими деревьями, беспорядочно переплетенными цветами и травами, будет символизировать новое хаотичное время перемен, эпоху романтизма.
Следующий, уже полноценный детальный символический флорообраз, на котором сосредоточено внимание автора, появляется в поэзии Гюго 1850-е годы. Если в творчестве Ламартина Мировой Дух ассоциировался с колоссальным образом дуба или титанической фигурой, соединяющей воедино космическое и земное начала, то у Гюго, помимо этого уже утвердившегося в романтизме мотива, возникает другое иносказание – эфемерное, мистическое, но не менее прочно связанное с концептом высоты или восхождения к небу – образ ромашки, или цветка-звезды, как высшей точки восхождения по лестнице веков, которая была важнейшим символом творчества Гюго[124]124
На башне Собора Парижской Богоматери в конце 1820-х и в 1830-е годы Гюго вместе с учениками поклонялся «Солнцу, или Фебу», как высшему элементу природы, называя путь по крутой и узкой лестнице башни символом восхождения человечества по лестнице веков. Лестница, ведущая в бездну небес, также стала основным сюжетом рисунков В. Гюго.
[Закрыть].
Цветок-звезда появляется в разных стихотворениях Гюго, к примеру в стихотворении «Звезда» (Stella), из сборника «Возмездия» («Les Châtiments», 1853), где он говорит: «Эта звезда – сестра моя!»[125]125
Hugo V. Poésie. P: Hachette, 1909. P.232.
[Закрыть]. В стихотворении «Единство» («Unité») из сборника «Созерцания» («Les Contemplations», 1856) ромашка ведет неслышный диалог с солнцем («цветком бесконечного сияния» с «лучами-лепестками»):
«Там, на краю небес, за темными холмами
Шар солнца, как цветок с лучами-лепестками,
В закатной красоте склонялся над землей.
А где-то средь полей, над сломанной стеной,
Где травы разрослись и плющ темно-зеленый,
Ромашка белая раскинулась короной.
И маленький цветок на рухнувшей стене
Смотрел, как перед ним в лазурной вышине
Сияло вечное, прекрасное светило.
«И у меня лучи», – ромашка говорила[126]126
Гюго В. Собр. соч.: в 15 т. Т. 12. М.: Гос. из-во худ. лит., 1956. С. 309.
[Закрыть].
Мировая душа для Гюго – эманация высшего, которая в буквальном смысле приводит все в движение, заставляет природу жить, дышать. Это лес, это соединение всех трав и деревьев, колоссальная стихия. У Гюго она в первую очередь связана с миром флоры – именно этот мир соединяется с космосом. В стихотворении «Дыхание оживляет дряхлый лес» («Un souffle rajeunit la forêt décrépite») из сборника «Последний сноп» лес просыпается и оживает, молодеет, мох шевелится, звезда смотрит с небес, скалы наклоняются, деревья дрожат от дыхания (мировой души). Природа, пейзаж, его детали в виде деревьев и цветов являются целым миром, передающим идею глобального синтеза.
Невозможность жизни и творчества без природы Гюго демонстрирует в стихотворении «Едва забрезжит день, я расстаюсь с постелью…» («Au point du jour») («Последний сноп»). В нем образы и композиции приходят только через окно, открытое в сад, через природу, которая щедро одаривает поэта своей красотой, через ее дыхание (шелест листьев и трав, пение птиц). Листья, деревья, цветы – опора для его фантазии. В поэзии романтизма часто присутствует образ открытого окна, через которое в дом входит Природа, в данном стихотворении – виноградная лоза, символизирующая духовное плодородие (в переводе Линецкой, приведенном ниже, – плющ):
Поэт сливается с природой в процессе творчества, он соединяется с ней, с ее мистической, божественной силой, он становится частью мировой души, открывая окно в сад или отправляясь в поля, леса, долины рек. Для Гюго важно присутствие природы или ее элементов как в жизни, так и в творчестве. Он словно оглядывается на Природу: как она оценивает его поступки, слова, написанные им стихи. В стихотворении «Поэт уходит в поля» («Le poète sèn va dans les champs») из сборника «Созерцания» (1856) полевые цветы, травы, деревья приветствуют поэта, природа восторгается его появлением. И он чувствует себя хозяином, гигантом, который идет среди каштанов, лип, кленов. Человек, и поэт в частности, у Гюго всегда стоит на одной из высших ступеней иерархии мира, но элементы природы не рассматриваются как что-то низкое, а являются опорой, они оплодотворяют его фантазию, как пчелы оплодотворяют цветы и дают людям мед:
Поэт идет в поля. Восторженный, влюбленный,
Напеву лирных струн он внемлет, восхищенный.
Поэта издали завидя, все цветы
В сиянии своей весенней красоты —
И те, чьи лепестки багрянее рубина,
И те, чей блеск затмит всю пестроту павлина, —
Приветствуют его, застенчиво склонясь…[128]128
Гюго В. Собр. соч.: в 15 т. Т. 12. С. 283.
[Закрыть]
Гюго стремится разглядеть все возможные проявления мировой души. В этом есть как светлые, так и темные стороны. К примеру, в разные периоды возникает образ сада или леса-чудовища, навеянного мотивом средневекового «леса чудес» из произведений Альберика из Безансона, Кретьена де Труа, Беруля, Марии Шампанской[129]129
Shinoda Ch. Exubérance végétale chez Mirbeau et Zola // Cahiers Octave Mirbeau. R, 2001. R 58–73.
[Закрыть], т. е. леса, полного испытаний и опасностей. У Гюго образ страшного в природе во многом связан с его концепцией гротеска, которую он теоретически объясняет в предисловии к драме «Кромвель» (1827) и в книге «Вильям Шекспир» (1865). Гюго понимает гротескный тип образности очень широко. Он находит его в доклассической античности (Гидра, Гарпии,
Циклопы) и также относит к нему всю послеантичную литературу, начиная со средневековой. «Гротеск – повсюду: с одной стороны он создает бесформенное и ужасное, с другой – комическое и буффонное»[130]130
Hugo V. Cromwell. R: Furne et Cie, Libraires-Éditeurs, 1840. P. 13.
[Закрыть]. Существенный аспект гротескного – безобразное. Но Гюго ослабляет самостоятельное значение гротеска, объявляя его контрастным средством для возвышенного. В качестве контраста безобразному в природе комическое заменено на прекрасное. Гротескное и возвышенное взаимно дополняют друг друга, их единство и дает подлинную красоту.
Ярким примером «страшной природы» служит стихотворение «Альбрехту Дюреру» («À Albert Dürer») из сборника «Внутренние голоса» (1837), где возникают образы «дубов-чудовищ, заполонивших леса» («Les chênes monstrueux qui remplissent les bois») и «безобразного леса» («Une forêt pour toi, c'est un monde hideux»), что близко «лесу крови» и «дереву слез» Шатобриана. Те же образы находят продолжение в стихотворениях «После чтения Данте» («Après une lecture de Dante»), «Могила говорит розе» («La tombe dit à la rose»), «В этом древнем саду» («Dans ce jardin antique où les grandes allées»). Возникают картины темного лесного грота, из которого выглядывает страшная зеленая борода плюща, чудовища-деревья, цветы-кадильницы, источающие зловоние, контрастирующее с ароматом розы, пропасть могилы и т. д. Сборники 1835–1840 гг. отличаются особым пессимизмом, ощущением «смутного времени». Но образы безобразной стороны природы (противоположное начало), дополняющей прекрасную, контрастирующие с ней, возникают и в более поздних сборниках.
Контраст прекрасного и чудовищного во многом связан с антитезой «прошлое – настоящее», с ломкой традиций. Прошлое (темное) – это первобытная старина, страшный мир тотемных чудовищ (стволы деревьев напоминают тела демонов). Промежуточная стадия между темным и светлым – античный мир, а также возрождение его традиций в Новое время (в том числе в классицизме) – это движение к настоящему, проблеск между темным и светлым. У Гюго это промежуточное начало вечно связано с образом большого дерева, ствол которого напоминает античную колонну, которое корнями уходит в прошлое, а кроной тянется в будущее. Настоящее, новое (светлое) – это романтизм, мир светлой флоры, цветов – посредников между материальным и духовным, также это одичавшие растения из заброшенного парка.
В связи с антитезой «прошлое – настоящее», «страшное – прекрасное» у Гюго возникает флорообразная триада: первобытный лес (древность, хаос), регулярный сад или парк (классицизм, барокко) и запущенный сад (романтизм). Эта триада демонстрирует стремление человека от первобытного состояния к «цивилизации», прогрессу, затем к регрессивному отступлению, спор природного и рукотворного, человеческого. Цивилизация, в свою очередь, наносит ущерб естественной свободе. Именно в одичании, в регрессе «регулярного парка» Гюго усматривает стремление к возрождению, к природному освобождению. В стихотворении «Дуб из разрушенного парка» («Le Chêne du parc détruit», 1865) из сборника «Песни улиц и лесов» Гюго создает образ запущенного, утратившего свое былое величие Версаля. Дуб – свидетель той жизни, которой некогда было наполнено пространство парка. Он помнит богов, которые резвились между деревьями, то в виде статуй, то оживая по ночам; он помнит политических деятелей, помнит фавориток королей, он слышал голоса великих писателей, музыкантов, художников, танцоров, он жил вдали от простолюдинов, но ощутил свободу и равенство со всем миром, когда пришел 1789 год. Пусть парк разрушен, и он живет «не среди королей, а среди волков», – теперь он часть природы, часть огромного мира, не ограниченного парковой решеткой. Одичавший парк – метафора ожидания перемен, как политических, так и художественных. Гюго смотрит на «разрушение» как на оптимистическое возрождение, на проблески свободы.
При всей устремленности к обновлению традиций у Гюго чувствуется постоянная «оглядка» назад, в прошлое, без наследия которого вечные образы потеряли бы половину своей глубины. Ярким примером является образ дуба – хранителя многовековой памяти. В поэзии Ламартина он символизировал прежде всего Мировой Дух – Бога, растворенного в Природе. Субъективно-коннотативный дуб Гюго – собирательный образ могущества и величия, аллюзия на многочисленных королей, императоров, исторических и легендарных персонажей, от царя Соломона до Наполеона. Сопоставление дуба с человеком, точнее – с человеком-титаном, возникает в связи с особым, наивысшим местом, которое Гюго отводит человеку в природной иерархии. Гюго называет дуб «патриархом лесов», галлом, греком и римлянином. В мифологической традиции дерево (в частности дуб) ассоциируется с устройством вселенной, со структурой человеческого тела (голова – крона, туловище – ствол, ноги-корни). Большую роль дуб играл в бытовой и геральдической французской средневековой символике. Из дуба строили дома, укрепления, изготовляли мебель и утварь. Его, наравне с березой и липой, считали деревом с позитивной энергией. Весь исторический путь, от древности до актуального для Гюго момента, концентрируется в этом образе-гиганте, флорообразе самой Истории – не только истории Франции, но и всего человечества, ибо дуб, дерево-долгожитель, может простоять до 800 лет. Яркими примерами персонификации являются стихотворения «В лесу», «Дуб из разрушенного парка» («Le Chêne du parc détruit») из сборника «Песни улиц и лесов», «Речь гиганта» («Paroles de Géant»), из сборника «Легенды веков» («La Légende des siècles», 1859). В упомянутом выше стихотворении «Дыхание оживляет дряхлый лес» Гюго описывает углубления в коре дерева, которые напоминают глаза («le tronc d’arbre a des yeux»). Дерево так же способно смотреть на человека и на окружающий мир, как человек смотрит на дерево. Оно – часть универсума, в каждой частице которого живет мировая душа. У Гюго оно – метафора старого, мудрого человека, молча взирающего на мир в течение столетий, вбирающего в себя память веков.
В стихотворении «Празднование 14 июля в лесу» («Песни улиц и лесов») главной действующей фигурой является дуб – «патриарх лесов родных», который предстает царем растительного мира, освободителем, дарующим долгожданную свободу. Под ним – множество цветов и трав; с одной стороны – это метафора людей, пришедших на праздник, с другой – намек на толпу, которая когда-то пришла на площадь Бастилии, чтобы положить начало Революции. Розы, лилии, тимьян, фиалка, мак, жасмин, марена, арум – такие разные «дети» дуба, всезнающего гиганта, народ, новая французская нация, которая веселится, празднуя день рождения патриарха леса. Гюго вводит гипонимы растений, из которых одни входят в ряд цветов-аристократов, высоких риторических фигур классицизма (роза, лилия, фиалка), другие ассоциируются с фольклорными песнями, легендами, травниками и фармакопеей, то есть передают идею простого народа. Это кельтские друиды, собравшиеся вокруг верховного жреца, галлы, объединившиеся вокруг Верцингеторикса в противостоянии Юлию Цезарю, люди, пришедшие за советом под знаменитый дуб Людовика Святого. Дуб передает идею вечной мудрости, силы, собирающей вокруг себя народ.
Сам Гюго будет ассоциироваться в поздней романтической и парнасской поэзии с огромным деревом – гигантом и властелином мира Природы. Например, в стихотворениях В.Р. де Лапрада «Большому дереву» («À un grand arbre»), и «Смерть дуба» («La mort d'un chêne») из сборника 1843 г., дуб является аллюзией не столько на монарха, сколько на поэта-патриарха, каким во второй половине XIX в. считался Гюго. Его сравнивали с тем титаническиз образом, который он создал в своем творчестве, – великан, способный объять необъятное, быть одновременно поэтом, прозаиком, драматургом, графиком, теоретиком и вдохновителем нового мощного литературного течения, политическим деятелем[131]131
Picon /., Violante Is. Victor Hugo: la légende et le siècle. P.: Textuel, 2001; Besson A. Victor Hugo: vie d’un géant. R: France-Empire, 2001; Van Tieghem Ph. Victor Hugo et le monde. Cli-chy: Revue des deux mondes, 2002.
[Закрыть].
Тема дуба-титана тесно связана у Гюго с идеей иерархии в Природе, разделения мира на «этажи». Тема природы в его творчестве достигает наибольшего раскрытия в тех стихотворениях, где автор отождествляет с ней жизнь человеческого социума, где он показывает, что душа растений пусть и не равна человеческой душе, но участвует в общем процессе построения мира. Ярким примером служит стихотворение «Равенство» («Egalité») («Песни улиц и лесов», 1865), где говорится о равенстве всех цветов, растений, деревьев, животных и насекомых. Речь идет не о буквальном эгалитаризме, а о духовном родстве всего живого на Земле и в высших сферах:
Tout est de Dieu l’oeuvre visible.
La rose, en ce drame fécond,
Dit le premier vers, c’est possible,
Mais le bleuet dit le second[132]132
Hugo V Op.cit. P. 265.
[Закрыть].
<…>
Toute fleur est un premier rôle;
Un ver peut être une clarté;
L’homme et l’astre ont le même pôle;
L’infini, c’est légalité[133]133
Ibidem.
[Закрыть]
(Все есть видимое творение Бога // Если роза в этой драме плодородия // Говорит первое слово // То василек произносит второе…) <…> (Каждый цветок играет главную роль // Червяк может быть лучом света// Человек и звезда расположены на одном полюсе // Бесконечность – это равенство…).
Само название сборника, в который вошло стихотворение «Равенство», – «Песни улиц и лесов» говорит о центральной идее творчества Гюго – соединении в понятии пантеизма мира людей, истории и природы. Улицы городов символизируют историю человечества, лес – природу. Этот мотив проходит через все творчество Гюго, начиная от соединения города с солнцем и небесами в 1820-30-е годы до сопоставления городских улиц с лесными тропами в 1860-е.
Мир природы наполнен своим глубоким смыслом, ознаменован по-своему существенными событиями, и с миром людей его объединяет присутствие в природе духовного начала. Все сущее едино в концепции Гюго, а лес у него выступает метафорой человеческого социума. В нем есть своя иерархия: от камня или червя к цветку, от цветка к дереву, от дерева к горе, от горы к небу и светилам. Все это напоминает разделение в человеческом обществе, поэтому в «Песнях улиц и лесов» собирательный образ, субъективно-ассоциативный дримоним лес нередко выступает метафорой человеческого социума («В лесу», «Голос духа лесов», «Ответ духу лесов»). Другие топонимы – сад («Как хорошо в саду…» («Внутренние голоса»), «Едва забрезжит день, я расстаюсь с постелью…») и парк («Дуб из разрушенного парка»). Травы и цветы в этих стихотворениях предстают не столько в прямом смысле, сколько в иносказательном – это народ, а деревья, особенно дубы, – правители.
Среди многочисленных флорообразов Гюго знаменателен еще один, который является не столько новым, сколько классическим, но изображенным у Гюго по-своему. Лес или группа деревьев у него, как и у Шатобриана, – метафора Храма[134]134
Этот образ встречается в произведениях сентименталистов и романтиков начиная с «Новой Элоизы» Ж.-Ж. Руссо: в прозе Шатобриана («Атала»), в поэзии Ламартина, в романах Бальзака («Лилия долины»). Но французская традиция Храма природы – более ранняя, она восходит к творчеству поэтов Плеяды и французского предвозрождения («Храм Венеры» Ж. Л. де Бельж, «Храм Купидона» К. Маро).
[Закрыть], в котором или вокруг которого собираются цветы и травы, словно прихожане. А дерево, в основном дуб, выступает в роли священника или проповедника, посредника между Природой – Богом и прихожанами – людьми, растениями, животными, насекомыми. Религиозно-пантеистическая тема, воплощенная в флорообразах, звучит в стихотворениях «Церковь» («L’Église») и «В тот день был найден храм» («Ce jour-là, trouvaille de l'église») («Песни улиц и лесов»). Поэт гуляет по лесу и находит Храм, построенный не руками человека, а самой природой. Мир природы – деревья, цветы, птицы, насекомые показан как мир людей, которые приходят в храм каждый за своим – кто на службу, кто на паперть, кто проповедовать. Гюго пытается через образ Храма природы соединить идею новой Франции с древней мифологией, с античным культом весны, деревьев и цветов. Франция рождается заново, но она связана корнями со своим прошлым, она возрождается как вновь расцветающее дерево, кустарник или многолетний цветок.
Помимо сопоставления лесной природы с Храмом и с человеческим социумом, в поэзии Гюго возникает образ, близкий поэзии Ламартина. В стихотворении «Природа!» («Nature!») из сборника «Все струны лиры» («Toute la lyre», 1888) Гюго называет Природу «Библией, написанной волнами, горами и деревьями,/ Темными красками ночи и лазурью дневного неба…». Природа сравнивается с высшим архитектором, т. е. с Богом-Творцом, с Поэтом, который творит на ее фоне, проникаясь ею[135]135
Meschonnic H., Опо М. Victor Hugo et la Bible. P.: Maisonneuve et Larose, 2001; Retat С. X ou Le Divin dans la poésie de Victor Hugo a partir de l’exil. R: CNRS éditions, 1999.
[Закрыть]. Более того, сама природа – это поэт, первозданный творец: «Некий порыв, отнюдь не беззвучный, не приглушенный, вспыхивает и превращает весну в поэта» («Une sorte de verve étrange, point muette, Point sourde, éclate et fait du printemps un poète»). В стихотворении «В мае» («En mai») («Последний сноп») природа, пробуждаясь, становится поэтом, и каждое действующее лицо весны – птицы, деревья, цветы, ручьи – играет свою роль в процессе творчества. Высшей гранью красоты этой природной поэмы, воплощением ее синтеза является распустившаяся роза, чьи первичные коннотации связаны с греческой и римской мифологией, персидской поэзией, средневековой французской литературой, христианским культом, куртуазными традициями:
(Все враждебное и грустное, что есть в лесной чаще, // Колючий кустарник, степь, кукурузное поле, // Кусты ежевики, // Сливается в одну чудесную картину, // Омытую дождем и коронованную шипами; // Все это – роза).
Роза – это и грустное, и враждебное (шипы), и прекрасное (бутон). У Гюго этот вечный мотив тоже становится особым, индивидуальным. Роза является квинтэссенцией всех проявлений природы (т. е. творчества Бога), к ней сводят все линии сложной схемы мироздания. Кроме того, роза – это культурный и художественный образ, способный соединить самые разные исторические эпохи (от античности до современности), более того, объединить самые разные страны (от Древней Греции до современной Гюго Европы), разных поэтов, писателей, художников, архитекторов.
Роза – один из самых знаменитых цветов экфрасиса[137]137
Экфрасис, по определению М. Рубинс, – «словесное описание предметов изобразительного искусства».
[Закрыть]. Именно в таком контексте выступает этот цветок в знаменитом стихотворении «Роза Инфанты» («La Rose de l’Infante») из первого цикла «Легенды веков» (1859), где этот цветок в руках дочери испанского короля Филиппа II, рассыпаясь на лепестки от порыва ветра, является целым синтезом значений. Прежде всего она намекает на гибель знаменитого флота Филиппа II – «Непобедимой Армады». Чашечка осыпавшейся розы, ее лепестки, плывущие по бассейну фонтана, – метафора парусных судов, гонимых ветром по морю к скалам. Дворец Филиппа II, сама Испания, испанский флот так же эфемерны, как тонкие лепестки цветка: стоит ветру подуть, все исчезнет; все бренно и мимолетно, даже то, что обладает долгой историей и наделено властью. Флорообраз, будучи метафорой гибнущей флотилии, несет также функции символа, яркого знака, в семантике которого сплетены различные оттенки. Роза – настолько древний знак, игравший большую роль в культовой традиции разных стран, что сама по себе может символизировать Историю, в данном случае историю Испании; она символизирует здесь и Природу, показавшую свою силу, давшую понять Инфанте, кто властелин на земле.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?