Читать книгу "Однова живем…"
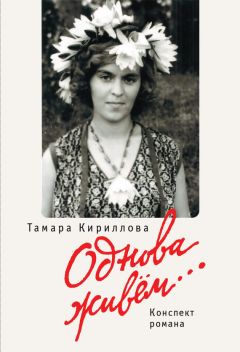
Автор книги: Тамара Кириллова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
За все три месяца работы на пчельнике мама всего один раз принесла немного меда в сотах. Это было на пасху. Мёд ели тайком от Стасика, потому что бабы не раз допытывали его: «Что, мать приносит домой мёд?» А кроме того, однажды, рассердившись на маму за что-то, он заявил ей:
– Вот я скажу Терентию Федотычу, как ты с поля колоски приносила.
Бабы ликовали: «Наша взяла!» Эта их «наша», которая сменила маму, каждый день мёд домой таскала, как это, впрочем, делала бы любая на её месте. Будешь таскать, если на трудодни ничего не выдавали.
Летом сорок третьего года стало ясно, что следующую зиму нам без хлеба не прожить. Всё, что можно было выменять на хлеб, было уже выменено. И было ясно также, что войну мы выиграли. И хотя на севере Мурманской области еще были немцы, мама решила вернуться в Мурманск. Отец отказался прислать вызов. Его прислал брат мамы, дядя Саша, который жил в нашей квартире в Росте, потому что в это время отец работал снова в поселке Дровяное, на плавучей базе ремонта судов, или «плавучке», как её называли.
Мы стали собираться в дорогу. Сушили картошку, морковку, лук. Накануне и в день отъезда приходили прощаться с мамой все те, кто хорошо к ней относился и даже те, кто не хотел видеть её работающей на пчельнике. Бабы плакали, совали кто яйца, кто картошку, а кто и вареную курицу. Машутка Буздалина плакала навзрыд и повторяла:
– Ну вот, была на всю Ульяновку одна хорошая женщина, и та уезжает.
Каким-то подсознательным чувством понимая, что с деревенской жизнью я расстаюсь навсегда, я с особой остротой воспринимала в эти последние дни красоту восходов и закатов, уют крыловского сада, отражения ветел в речке, торжественность Соколонского сада…
* * *
Ехали мы долго. Ленинградская область была всё ещё занята немцами, и поезда на Мурманск шли через Вологду. Вагоны были набиты самым разношерстным людом. Тогда умудрялись спать даже на третьих, багажных полках. Нас со Стасиком брали спать офицеры, занимавшие вторые полки. Один из них настаивал на том, чтобы мама ложилась на его место, но она не соглашалась, коротала ночь вместе с ещё одной женщиной на нижней полке, а днём отсыпалась на верхней. На станциях подолгу стояли, бегали за кипятком, приносили вареную картошку, огурцы и грибы.
Мама заметно нервничала всю дорогу, потому что на нас со Стасиком вызова не было, а только на неё.
Пропускной пункт был, на моей памяти, в Кандалакше, на маминой – в Малошуйке. Пришел в вагон офицер с двумя солдатами и стал проверять у всех право въезда в Мурманск. Какая судьба хранила нас, в какой мере помогли мамины глаза, в которых было написано всё, что сказал наш офицер-хранитель проверяющему, но нас не сняли с поезда. А других ссаживали.
Потом уже отец целых два месяца хлопотал, чтобы нас прописали.
В Дровяное мы прибыли на катере поздно вечером, почти ночью. Тогда, в 43 году, Мурманск и близлежащие поселки работали по режиму военного времени, работать по-настоящему начинали примерно с шести вечера, когда немцы переставали бомбить, Рабочие плавучки днем отсыпались или играли в сопках в «очко» или в «буру».
Отец жил теперь в верхнем бараке. Комната была небольшая, но вскоре нам дали самую большую в этом же бараке. Она была напротив комнаты, в которой размещалась матросская библиотека – моё будущее счастье.
За водой надо было спускаться к нижнему бараку, около которого была колонка. Спускаться было легко, но вот подниматься по плохо сколоченным ступеням тяжело, особенно зимой.
Когда наутро после приезда я вышла из барака, у меня заныло сердце от некрасивости серых скал, серой воды, серых домов, бурого мха. И лишь постепенно, после нескольких вылазок за ягодами, после того, как я перестала сравнивать всё, что видела, с красотой родной деревни, а стала просто воспринимать окружающее так, как оно было, я начала ценить неброскую красоту, неяркие краски северной осени.
Школы в Мурманске и Дровяном не работали, и мы с мамой начали собираться в глубь полуострова, в Кандалакшу, куда были отправлены мурманские школы. Мы приехали туда утром, оформили в гороно положенные документы. Нам дали направление в баню-санпропускник и талоны на обед. Накормили нас хорошо и выдали ещё по большому куску белого мягкого хлеба.
После обеда мы пошли устраиваться в интернат. Нас окружили шумные, весёлые ребята. Они расспрашивали о Мурманске, наперебой рассказывали о своей жизни, о том, как они дерутся между собой.
– Тетя, мы подерёмся, но мы и миримся очень быстро, – весело сказала одна особенно бойкая девочка.
Я не поднимала глаз и не проронила ни слова, разговор вела мама. Она сказала воспитательнице:
– Ну, мы ещё походим, а к вечеру придем.
Мы вышли, и мама сказала:
– Дочка, не оставлю я тебя. Они тебя заклюют. Или станешь сама такой же хабалкой, неизвестно, что хуже.
И только тут я расплакалась и от пережитого шума и гама, и от ужасов, которые я успела нарисовать в своем воображении, и от благодарности к маме, которая так чутко уловила моё настроение и мои страхи. Первым же поездом мы вернулись в Мурманск.
И начался по-своему счастливый год, свободный от скучных и обязательных занятий, но заполненный чтением, рисованием и – музыкой. Да, той музыкой, которую передавали по радио. В деревне радио не было, а перед войной мои уши были ещё закрыты для звуков. Особенно любила я музыкально-образовательные передачи и концерты-загадки. Иногда, когда я играла на улице, меня звала мама:
– Ната, иди скорей, там опять твои симфонии передают.
Симфониями она называла всё, что не было песнями. Трудно передать словами, что творилось со мной, когда я услышала Первый концерт для фортепьяно с оркестром Чайковского. Несколько дней и ночей душа моя вибрировала, я плохо спала, и в ушах всё звучали самые памятные места концерта. Тогда, слава Богу, классическую музыку передавали чаще, чем теперь, и практически каждый день приносил новые музыкальные переживания. Когда дома никого не было, я пела вполголоса одновременно с радио какую-нибудь арию или проигрывала на столе фортепьянную пьесу. Я полюбила всякую музыку, в том числе и песни, в первую очередь – народные. Я никогда не понимала и не пойму тех, кто
любит только рок, только бит, только классику, только что-то одно в ущерб другому. У таких людей где-то нарушена внутренняя гармония, и мне их искренне жаль. Я завидую теперешнему детству и отрочеству с их проигрывателями и магнитофонами, с их плёнками и кассетами. А у нас был всего лишь скрипучий патефон с несколькими пластинками. Но, может быть, оттого, что прекрасного было тогда так мало, оно западало в душу и понуждало её трудиться…
Не менее сильно я пережила в ту зиму иллюстрации Врубеля к «Демону». Книгу Лермонтова я взяла не в библиотеке, а у наших соседей по бараку, Мурадянов. Муж и жена Мурадяны работали инженерами на плавучке. У них была небольшая, но очень хорошая библиотека. Это у них я впервые увидела старинные кожаные фолианты с золотым тиснением. Они поразили меня и казались мне живыми существами, ведущими свою непонятную людям жизнь. Мурадяны доверяли мне свои книги, потому что видели, как бережно я их перелистываю. Лермонтова я читала ещё в деревне и многое знала наизусть, но врубелевские иллюстрации открыли мне мир, о котором я и не подозревала. «И – чудо, из померкших глаз слеза тяжелая катится»… «Как пери спящая мила, она в своем гробу лежала»… Разумеется, я принялась копировать каждый рисунок и успокоилась только тогда, когда мои труды похвалили Мурадяны и дали мне для чтения и копирования «Витязя в тигровой шкуре» с прекрасными, но холодноватыми иллюстрациями Табидзе. А Лермонтов, увиденный и почувствованный Врубелем, надолго оттеснил на второе место Пушкина…
Как-то отец сказал мне, что у них на плавучке есть художник, и что он хочет посмотреть мои рисунки. Я отобрала несколько, и отец понес их показывать. Вернулся он с работы очень гордый и сказал, что Костя не верит, что мне десять лет. Отец сказал, что на днях сведет меня к дяде Косте знакомиться.
Дядя Костя оказался весёлым, смуглым и черноволосым молодым человеком. Фамилия его мне не понравилась – Жеребцов. Потребовалось некоторое время, чтобы я к ней привыкла. Дядя
Костя занимал большую каюту. Позднее я узнала, что она была переделана из двух и называется мастерской. Всё тут было невиданно: мольберт с портретом Сталина на нём, рамы, холсты, множество кистей, баночек и тюбиков с красками. Стоял специфический запах.
Дядя Костя стал о чем-то расспрашивать меня, я стеснялась отвечать, но он быстро разговорил меня и предложил мне для начала приходить и смотреть, как он будет работать. А там, мол, видно будет. Он сказал, что сейчас занят оформлением плавучки ко дню октябрьской революции, поэтому рисует портреты и пишет плакаты. А после праздников будет писать натюрморты. Я было хотела поправить его, что, дескать, «писать» можно письмо или сочинение, а натюрморт рисуют, но удержалась. Потом я привыкла к этому понятию. Но еще позже оно мне опять стало казаться чужеродным, и такое выражение, например, «он пишет её портрет» – кажется мне и теперь нарочитым, и я ничего не могу с этим поделать.
Я боялась помешать дяде Косте, и вначале приходила к нему реже, чем мне этого бы хотелось. Я не надоедала ему расспросами, а стояла или сидела у него за спиной и смотрела, как он делит полотно на клетки, как смешивает краски, как натягивает красное полотнище на деревянные рамы. Я поражалась тому, как много в его работе общего с тем, что делал папа Ваня.
Я с нетерпением ждала того дня, когда дядя Костя примется за натюрморты. Перед самым праздником я заболела, недели две в мастерскую не ходила, а когда пришла, то первое, что увидела, открыв дверь, был маленький, по моему росту, мольберт. Я вскрикнула «Ой!» и бросилась дяде Косте на шею. Он радовался вместе со мной. Но к мольберту я встала ещё не скоро. Несколько недель я осваивала основы ремесла, а больше наблюдала за тем, что делает дядя Костя. До войны он оформлял в Москве рестораны и рынки и неплохо этим зарабатывал. Он получал хорошие заказы и в Мурманске, писал натюрморты для ресторана «Арктика», для столовых. Он не был художником – это я поняла позднее – в высоком смысле этого слова, он был художник-ремесленник, но своё ремесло знал хорошо. Я так и не узнала, делала ли он что-нибудь для себя, для души. Наверно, делал, потому что пару раз он упоминал, что до войны выставлялся в Москве. Свои натюрморты он создавал двумя способами. У него был большой ящик с муляжами фруктов и овощей, настоящий сад-огород. Муляжи были великолепно сделаны, но что-то было в них отталкивающее, как в нарумяненных столетних старухах. Дядя Костя компоновал из муляжей, горшков и тканей различные композиции и натаскивал меня на них. Он довольно часто хвалил меня, говорил о врожденном чувстве композиции и о том, что я всё схватываю на лету. Я равнодушно относилась к этим похвалам, мне казалось, что иначе и быть не может. Но дядя Костя хвалил меня и отцу, и тот необыкновенно этим гордился и не упускал случая похвастаться моими способностями перед своими друзьями.
Другой способ дяди Кости был ещё проще: он перерисовывал репродукции, иногда ничего не меняя, иногда добавляя что-нибудь от себя. У него было много открыток с натюрмортами. А ещё было множество открыток с пейзажами. Дядя Костя говорил, что когда кончится война, он пригласит меня в Москву и поведёт в Третьяковскую галерею. Только там я пойму, какие были на Руси художники, только там я почувствую, как дышит живая картина. А пока были репродукции… И редкие книги о художниках, о музеях. Перед тем, как заснуть, я воображала, как хожу по Третьяковской галерее, останавливаюсь перед пейзажами Васильева, Саврасова и разговариваю с ними.
Иногда к дяде Косте заходил дядя Коля, тоже художник. Они затевали профессиональный разговор, в котором я мало что понимала. Дядя Коля обитал в одном из частных домов выше за клубом. Он жил гражданским браком с сестрой моей довоенной подружки Мани Ратахиной. Но я у них не была, потому что Маня еще не вернулась из эвакуации. Время от времени дядя Костя уходил к дяде Коле ХАЛТУРИТЬ. Я долго не понимала, что это означает,
но стеснялась спросить. Выяснилось все, когда приехала Маня. Халтурили они, рисуя ковры на простынях. Это не были знаменитые лебеди и красотки у озера. Они рисовали вполне пристойные пейзажи. И заказчики у них были приличные, из офицерского каменного дома и из Мурманска. Через пару лет у них появилась могучая конкуренция из ярославских красилей. Те в короткий срок заполнили весь посёлок лебедями, красотками и оленями.
Как-то я пришла в мастерскую и узнала, что у дяди Кости недавно был в гостях американский матрос Джим. Он – художник кино и работает в Голливуде, знаменитой американской фабрике фильмов. Вместе с американцем приходил Виталий Александрович Белянин, главный инженер плавучки, который говорил по-английски. В это время плавучка ремонтировала одно из американских конвойных судов, и поселок уже привык к американцам. Было известно о паре отнюдь не союзнических драк, возникавших на почве ревности к прекрасным дамам, которых в поселке было явно недостаточно.
Через несколько дней я увидела Джима, и он мне сразу понравился. Он был высокий, сухощавый и очень хорошо улыбался. Так как языка для разговоров явно не хватало, его заменяли улыбки обеих сторон. Виталий Александрович заходил иногда ненадолго. Он перевел слова Джима о том, что тот телеграфировал своему другу в Америку и попросил его привезти краски, кисти и репродукции. Друг должен был придти в Мурманск с одним из следующих конвоев. Джим постоянно заходил к дяде Косте, и они каким-то образом умудрялись говорить друг с другом. Джим оказался способным к русскому языку, а так как ремонт их судна длился довольно долго, то к концу пребывания в Дровяном Джим сносно объяснялся по-русски. Виталий Александрович принес дяде Косте самоучитель английского языка, состоящий из готовых словесных блоков, словари и словарики, и дядя Костя много внимания уделял языку. Я тоже исписала целый блокнотик английскими словами, и Джим с удовольствием поправлял моё произношение, а я – его. Джим приносил дяде Косте и мне американские журналы. Блестящие яркие страницы не могли не поражать. Но моим любимым журналом стал менее яркий толстый журнал, на обложке которого была фотография очень красивого и очень породистого молодого человека и надпись: Боб Тэйлор. Весь журнал был посвящен Роберту Тэйлору, которого через несколько лет я увидела в фильмах «Мост Ватерлоо» и в «Даме с камелиями».
Месяца через полтора пришел конвой, и Джим принес большую сумку с масляными и акварельными красками, кистями, альбомами и открытками. Тюбики и коробки с красками были тоже яркими, блестящими, краски очень чистыми, пожалуй, чересчур яркими, и дядя Костя долго привыкал к ним. Джим подарил мне большую коробку с акварельными красками и кисточку, которая оказалась просто удивительной, какой-то универсальной, ею можно было делать широкие мазки и тоненькие черточки. Черточки получались после обработки кисточки губами. Краски были сладкими, медовыми, как и те, что мне дарил дядя Костя.
Америка на глянцевых открытках-гармошках поразила меня. Флорида, Майями, Сан-Франциско, Нью-Йорк, буйство красок неба и моря, цветов и архитектуры – всё это было так непохоже на окружающую нас действительность.
Внимание взрослых на несколько дней заняли другие открытки и репродукции в альбомах, посвященных американским и европейским художникам. Это были беспорядочные пятна, то напоминавшие палитру, то как будто бы нарисованные детской рукой неопределенные предметы. Я спросила:
– Это взрослые рисовали?
Джим рассмеялся:
– Да, взрослые, которые навсегда хотели бы оставаться детьми.
Дядя Костя разъяснил мне, что так некоторые художники рисуют после 1911 года, что такие картины впервые выставил русский художник Василий Кандинский, что такая живопись называется абстрактной. Кандинский мне не понравился, а вот Хуан Миро и Пауль Клее – очень. Я сказала дяде Косте, что в них есть что-то смешное, и он восхитился:
– Слышишь, Джим, ребенок, а как верно она схватила суть того и другого! Умница ты моя!
Накануне отплытия Джима в Америку ему устроили пышные проводы. Дядя Костя достал где-то красную икру, наловил рыбы, дядя Коля принес грибов, я – моченой брусники, Джим – яичный порошок и ананасовый компот. Виталий Александрович переводил по мере надобности, взрослые спешили высказаться, перебивая друг друга. Все плакали, когда настала минута прощанья.
Долго ещё потом вспоминали Джима. Бывали позднее у дяди Кости и другие американцы, но такой дружбы больше ни с кем не возникало.
К этому же времени относится собирание киноленточек. Мы их добывали простейшим способом. Уборщица выбрасывала мусор из матросского клуба и кинобудки, в этом мусоре мы и отыскивали киноленточки. Обменивались друг с другом. Особенно ценились крупные планы, их мы хранили в отдельных коробочках. Прекрасная жизнь началась тогда, когда киномехаником стал Егор, Жора, брат моей подружки Зои. Он вырезал нам крупные планы, и мы с Зоей были счастливы. Один из киномехаников, разбитной парень Алёша, матрос, был из Москвы. Он с детства знал английский язык. Получастно, полуофициально он установил контакт с американской миссией в Мурманске и привозил оттуда фильмы. Это были первые цветные фильмы в жизни любого из нас, и они взбудоражили весь поселок. Мы смотрели их по несколько раз. «Ночь над Майами», «Кровь на песке», «Аргентина», диснеевские фильмы, Кларк Гейбл, Эролл Флин, Тайрон Пауэр, Рита Хэйуорт, то же буйство красок, что и на открытках, но гораздо более жизнеподобное, потому что все это было помножено на магию кино. Я забредила Америкой. «Когда вырасту, уеду в Америку», – твердила я. Отец проводил со мной душеспасительные беседы:
– Ты что же, думаешь, что они все так живут, как в «Ночи над Майами»? Это же курорт миллионеров. Небось, фильмы о безработных они не делают.
Но я не сдавалась:
– Все равно уеду.
Некоторое время спустя Алёшу постигла кара. Как говорили у нас в посёлке, с Алёши содрали лычки и медали. Считалось, что он еще легко отделался, могли и посадить.
В эти годы у нас в жизни было много американского. Карточки отоваривали чаще всего американскими продуктами: соей, кукурузной крупой, шоколадом, яичным порошком, сухим молоком, тушёнкой, колбасой в банках. Существовал на плавучке какой-то распределитель ленд-лизовской одежды. Отец получил из этого распределителя два прекрасных пальто: одно кожаное, другое из верблюжей шерсти, а я несколько лет носила твидовое серое пальто и туфли на деревянной подошве. А ближе к окончанию войны поселок буквально заполонился американской одеждой и продуктами. У нас в поселке была база ЭПРОНа. Эпроновцы работали по поднятию полузатопленного американского транспортного судна и тащили с него всё, что можно было украсть. Наворованное эпроновцы меняли на водку. Водку мы, жители поселка, получали в обмен на сданные ягоды. Основная масса одежды и продуктов оседала в нижнем бараке и домах на берегу залива. До нас, до верхнего барака и до верхних домов, доходили только остатки. Но и этого было достаточно, и мы все, взрослые и дети, несколько лет щеголяли в невиданно красивых платьях, пальто и туфлях. Эти вещи прислали из Америки не по ленд-лизу. Это были пожертвования населения Америки, собранные Красным Крестом.
Я тогда думала так: если такие прекрасные вещи являются нормой для американцев, то как же хорошо они должны жить. Значит, в фильмах не такая уж неправда, как в этом меня пытался уверить отец.
Однажды из нижнего барака прибежала запыхавшаяся подружка:
– Проси у матери водку, там принесли балетное платье, недорого отдают, за маленькую, всё равно никто не берет.
Мы побежали вниз. На кровати лежала воздушная белоснежная масса неописуемой красоты, будто сошедшая с фотографий Анны Павловой.
– За сколько отдадите? – спросила я, боясь услышать в ответ «пол-литра».
– Я сказал, за маленькую, мое слово – олово, – ответил мордастый эпроновец.
– Я вас умоляю, никому не отдавайте, я выпрошу у мамы маленькую, я сейчас вернусь.
Я кинулась назад. К счастью, мама была дома. Я со слезами на глазах стала упрашивать ее. Мама не очень понимала, о каком платье идет речь, но четвертинку мне дала. Разумеется, платье оказалось мне велико. Мама ушила его в боках, и несколько вечеров подряд я становилась на цыпочки и танцевала не столько ногами, сколько руками перед благодарной публикой из нашего и нижнего барака. Тетя Надя сказала, что платье называется пачкой.
Комната у нас была просторная, и я ещё не раз что-нибудь показывала, благо зрители просили об этом.
Как-то у нас выступала концертная бригада из Москвы. Я была два раза на концерте, потом его передали по радио. Этого хватило, чтобы я выучила наизусть весь концерт, все мужские и женские номера, от «Бескозырки» до конферанса. Конферансье выступали вдвоем, у них был, в числе прочего, такой вот текст песенки:
Всё всегда мы с ним делили пополам,
Ели хлеб, табак курили пополам.
До сих пор мы не забыли,
Что когда моложе были
Даже девушек любили пополам.
И еще:
И в одном хорошем деле
Десять суток нам пригрели.
На «губе» мы отсидели пополам.
Что бы еще я ни исполняла, больше всего мне почему-то хлопали за эту песенку…
Осенью сорок четвертого года в Дровяном открыли начальную школу. К этому времени съехалось довольно много детей. Мурманск бомбили уже сравнительно редко, а в октябре началось наступление наших войск на Петсамо и Киркенес. Мимо Дровяного вилось по сопкам шоссе, и через нас проходили основные силы армии. Мы бегали смотреть на маршала Мерецкова. Он остановился на квартире у офицера Лизунова, которого дружно ненавидело все население Дровяного. Лизунов отправлял матросов на гауптвахту за малейшую провинность, и поговаривали, что расправа над киномехаником Алёшей – тоже его рук дело. Лизунов и его жена по прозвищу Лизуниха и до этого-то редко кого удостаивали взглядом, а тут уж они и вовсе загордились – как же, предварительно посланные адъютанты из всех квартир офицерского каменного дома выбрали именно их.
В армии было много девушек, особенно санитарок и зенитчиц. Их почему-то звали эрзацами. Они размещались на ночлег по всему поселку. Мест иногда не хватало, и тогда они спали даже в коридорах барака. Наши матери жалели их и устраивали, как могли, их мытье. А девушки жалели нас, детей, и угощали нас сахаром и сухарями.
Девушки-зенитчицы сманили мясом нашего кота Ваську. Мы сами этого не видели, а соседи видели, как кот увязался за ними.
Когда после разгрома немцев войска двинулись назад, была уже зима. Мы бегали к шоссе и наблюдали, как двигались танки, зенитки, полевые кухни, как шли замученные и почерневшие солдаты. Снова в наших бараках ночевали девушки-солдатки. А в рационе у нас появились немецкие галеты, немецкий хлеб, лук и сало, которое называлось странным именем «лярд». Мама жарила лук в лярде, они с отцом макали в это жарево хлеб и ели, и пытались уговорить нас со Стасиком, но мы не любили лук еще с довоенных времен и, даже полуголодные, отказывались от него. Чаще всего мы со Стасиком мечтали о хлебе: «Я съела бы буханку»… – «А я бы две буханки»… Мы не понимали, почему мама сердилась, когда слышала это от нас. Поэтому мы при ней не мечтали. Она некоторое время по приезде работала официанткой при штабе, в офицерской столовой. Мама приносила нам кое-какую еду и этим здорово нас поддерживала. Только спустя годы и годы она объяснила нам, почему сама никогда не ела то, что приносила. Она видела, КАК это готовилось. У них был феноменально нечистоплотный повар, и мама брезговала. Она рассказывала позднее, что среди офицеров были разные люди, точнее сказать, были люди, а были и нелюди. Особенно двое изводили официанток мелкими придирками – не с той стороны суп подала, не так ложку положила.
– Не так ложку положила!… Сам, небось, дома лаптем щи хлебал, – мама сердилась и много лет спустя, – думаю, знал бы ты, что ешь. Наш повар ни разу после уборной руки не вымыл. Подбросит в плиту уголь и этими же руками винегрет мешает. Тьфу! До сих пор тошно!
Поэтому мать хоть и огорчалась за нас, но не слишком, когда ей пришлось уйти по «собственному желанию». В это время стали съезжаться к офицерам жены, и им понадобились места работы. Мама устроилась тут же, при штабе, телефонисткой, по своей довоенной специальности. Стало голодновато, особенно недоставало хлеба. Но это продолжалось не очень долго. Пищевое подкрепление пришло неожиданно, с отцовской стороны. Он был человек молодой, энергичный, и его уговорили стать по совместительству, на общественных началах, начальником подсобного хозяйства. Собственно, хозяйства еще не было, его надо было создавать. И отец горячо взялся за дело. Он раздобыл где-то два деревянных бота, подремонтировал их, подобрал команды, и дела в столовой на плавучке повеселели, рыбы стало вдоволь. Отец завел несколько лодок на озерах, были у него в хозяйстве и охотники. Существовал проект: создать в Сортавале молочную ферму, давали даже земельный участок. Но по здравому размышлению от этого проекта отказались, так как ко всему этому нужно было иметь свои паровоз и вагон, а это уже было из области утопии.
У нас в доме стали бывать охотники и рыбаки. Они жили по несколько дней, и это были очень интересные дни, потому что все рыбаки и охотники были удивительными рассказчиками. В доме не умолкал смех, жарилась и парилась дичь, а стены комнаты украшались тетеревиными хвостами и крыльями.
В поисках каких-нибудь сетей или необычного рецепта засолки сельди отец мотался по побережью, привозил специального посола селедку и вяленую рыбу. Рыбаки варили из тресковой печени очень вкусную граксу. Была даже целая семужья эпоха. Сапёры разминировали дорогу к системе рек и озер, по которой шла на нерест сёмга. Во время войны никто её не ловил, и она шла тучей, ставили весло в воду, и оно не падало, держалось в рыбе. Начальство плавучки ездило на рыбалку. Рыбалка – это неверное слово для обозначения того, как добывалась сёмга. А добывалась она самым варварским способом – динамитными шашками. Бросали в воду шашку, она взрывалась, малую часть сёмги вылавливали, а остальная тонула и всплывала, кажется, через девять дней, прибивалась к берегам, издавая невыносимое зловоние. Мужики оправдывали себя тем, что все равно сотни тонн уплывают понапрасну, что они убивают крохотную часть от огромных масс рыбы, ну, и тому подобное.
Таких больших серебристо-розовых рыб я позднее не видела и не увижу. Мы варили тончайшего аромата уху, жарили сёмгу живописными кусками и ели свежепросоленную, зернышко к зернышку икру, ели действительно ложками. Мне не приходило в голову делать натюрморт с разрезанными кусками сёмги, но дядя Костя надоумил меня, рассказал, что был такой фламандский художник Снайдере, который писал сёмгу. Я взяла у отца сеть прекрасного серого цвета, а у Мурадянов попросила гжельскую тарелку с синей росписью, отрезала от крупной сёмги пару кусков, положила одну целую красавицу поэффектней и написала всё это, как могла. Получилось плохо, и я злилась. Показала дяде Косте. Он пришёл в совершеннейший восторг от композиции и цветового замысла и утешил меня тем, что когда я кончу академию, сёмга будет у меня на картинах серебриться и истекать розовым жиром.
Вкусовое и эстетическое впечатление от тогдашнего пира осталось настолько сильным, что я всегда, когда мне доводится есть то, что в ресторанах именуется сёмгой и икрой, испытываю легкое чувство брезгливости.
* * *
В школе я дружила с двумя девочками из моего класса – с Маней Ратахиной и Нолей Беляниной. Ноля не была родной дочерью Виталия Александровича, он был её отчимом. Я любила бывать у них в доме, в котором мы жили до войны, в этом же подъезде. У Виталия Александровича было несколько альбомов по искусству. Домой он мне их не давал, но в их квартире я могла просиживать за ними, сколько мне хотелось.
Стала я бывать и у Мани Ратахиной, где незаконным зятем жил дядя Коля-художник, которому под мастерскую выделили самую большую комнату. Альбомов у него было немного, но зато очень много открыток.
Маня тоже рисовала, и между нами довольно скоро возникло что-то вроде соперничества. Пока мы рисовали для себя, соперничества не было. Но вскоре мы стали получать заказы на рисунки. Сначала мы раздаривали их, но потом нам надоело рисовать по заказам, и мы стали отказываться. Но тут кому-то из заказчиков пришла в голову мысль платить нам за рисунки. В зависимости от сложности нарисованного мы продавали их по пять и десять рублей.
Так мы стали «халтурщиками» и конкурентами. Но, в отличие от дяди Кости и дяди Коли, я к халтуре относилась с почтением и рисовала по заказам ещё старательней, чем просто так. Не могу сказать того же о Мане. Я довольно скоро обнаружила причину её плодовитости. Оказывается, она брала свой собственный рисунок или какую-нибудь репродукцию в журнале, прикладывала это к оконному стеклу, накладывала сверху чистый лист бумаги, переводила на него рисунок, а потом все это раскрашивала.
Я не подала вида, что подсмотрела случайно метод её производства, но в душе запрезирала её, тем более, что на деньги, которые мы зарабатывали и отдавали матерям, всё равно ничего нельзя было купить, в магазине нашего поселка ничего не было, кроме продуктов по карточкам. Про себя я гордилась, тем, что наша учительница Галина Леонтьевна ни разу не попросила Маню подарить ей что-нибудь, у неё в комнате висели только мои рисунки.
Я замечала, что Галина Леонтьевна как-то по-особому относится ко мне. Ещё заметнее это стало после того, как я написала два домашних сочинения на свободную тему. Оба сочинения я посвятила нашему коту Ваське. У нас в семье все коты были Васьки, этот назывался Васька четвертый. Его мы завели после Васьки третьего, уведённого зенитчицами. Как-то отец паял кастрюлю и оставил паяльную кислоту в блюдечке. Васька потерял свойственную кошкам осторожность и лакнул кислоту. Боже, как он мучился! Он выл, катался по полу и плакал человеческими слезами. Отец добыл у американцев молоко, но Васька к нему не притронулся. Потом он забрался на небольшой выступ у плиты и три дня не слезал с него. В глазах у него стояли слёзы, а мы разговаривали шёпотом, как будто это могло ему помочь. На четвёртый день Васька спрыгнул с печки и стал лакать молоко. Отец рассказывал, что американцы радовались вместе с нами.
А вскоре после этого произошла ещё такая история. Мама ушла к соседке и поручила мне присматривать за плитой, на которой закипал бульон, а рядом с кастрюлей жарился на сковородке лук. Я сидела у плиты и читала. Вдруг раздался какой-то свистящий звук, над плитой вспыхнуло адское пламя, поднялись клубы пара. Я закричала диким голосом и вылетела из комнаты с воплем «Мама!» Сбежалось полбарака. Оказывается, сковородка стояла впритык к кастрюле, бульон бурно закипел, пролился на сковородку и на плиту, перелился через края сковородки, жир вылился на горячую плиту, вспыхнуло пламя, образовалось большое количество пара, вот и получилось нечто вроде взрыва.









































