Текст книги "Однова живем…"
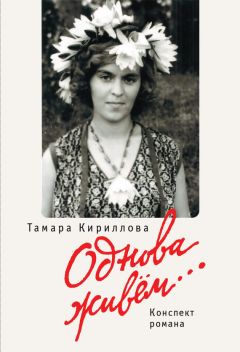
Автор книги: Тамара Кириллова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Каждый раз надо было думать и о платье. У нас в школе были две девочки, которые одевались лучше всех. Одна из них была Светлана Платонова, дочка командующего Северным флотом, у другой, Иры Возной, отец тоже был военным моряком, в каком-то важном чине. У них были хорошие портнихи, но они к ним других девочек не подпускали. По счастью, я неожиданно нашла очень хорошую портниху среди наших земляков. Анна Степановна были уже старой женщиной. Она сама никаких идей выдумать не могла, но была очень хорошей исполнительницей того, что я до последнего сантиметра диктовала ей. После войны на трофейных станках, из репарационных материалов изготовляли неплохие ткани: эпонж, креп-сатен. Анна Степановна сшила мне очень красивое платье из мягкой коричневой шерсти, в нём я чувствовала себя лучше всего.
* * *
В 50-ом году отец задумал строить в Тамбове дом, не в нашей деревне, а в самом городе. Ему дали участок недалеко от дома тети Шуры, маминой сестры. Отец купил сруб и строил поэтапно, от отпуска до отпуска. Наверно, ничего хорошего из этого бы не вышло, если бы он не уговорил в письмах папу Ваню и маму Натаню бросить насиженное уже на Дальнем Востоке гнездо и переехать в Тамбов. Папа Ваня плотничал, а мама Натаня на своём горбу таскала издалека землю, потому что участок был до войны городской свалкой. Мама Натаня и те, кто строились рядом, совершили чудо. Через несколько лет на месте бывшей свалки зазеленели сады. Под каждую яблоню мама Натаня выливала по 40–50 ведер воды, и так по несколько раз за лето, а колонка была далеко от дома.
Разговоров о строительстве было много, отец всё время возвращался к этой теме. Однажды в Мурманске, когда все уже были в своих постелях, мама просигналила мне глазами, чтобы я посмотрела на Аркашку, которому в это время было три годика. Он сидел в своей кроватке, перед ним был журнал, но он в журнал не смотрел, а глядел, глубоко задумавшись, куда-то в пространство. Мама спросила:
– Аркаша, о чем же это ты думаешь?
Он тяжело вздохнул и ответил:
– Да дом строить собираюсь…
Мы засмеялись. Он доставлял нам много радости своей неожиданной логикой.
– Уж больно он мудрой, – говорила мама, – не знаю прямо, что из него получится.
Летом пятьдесят первого года я поехала на каникулы в Тамбов, к тете Шуре. Наш дом уже стоял под крышей, но ещё не был пригоден для жилья, и мы с двоюродными сестрами, детьми тети Шуры, ночевали на чердаке этого дома.
Как-то раз Тоня, старшая сестра, принесла репродукцию знаменитой тогда картины «Утро нашей Родины». На ней был изображен благостный, с полуулыбкой, Сталин, на фоне бескрайнего горизонта и распаханного поля с трактором. Художник Шурпин получил за эту картину сталинскую премию. Тётя Шура стала ругаться на Тоню:
– Ты зачем этого идола в дом принесла?! Порви сейчас же! Ишь, черт рыжий, улыбается! Лучших людей сгубил, анчутка этакий, и улыбается!
Я сказала:
– Тетя Шура, он же черный… Она ответила:
– Сталин-то? Рыжий!!! И рябой!
Столько ненависти было у нее в слове «рыжий», что я не посмела возразить. А возразить было что, ведь её покойный муж дядя Вася был тоже рыжий, а тетя Шура любила его и называла даже рыженьким солнышком. Тоня не стала рвать репродукцию. Тогда тетя Шура выхватили её из Тониных рук и разорвала в мелкие клочья, приговаривая:
– Вот тебе, вот тебе, антихрист!!!
Меня озадачил такой взрыв ненависти у тети Шуры. Я достаточно скептически относилась к ежедневному, ежечасному возвеличиванию Сталина, ко всем его «гениальным» статьям, «гениальному плану преобразования природы» и «гениальной стратегии» во время войны, но я оправдывала его тем, что он не сам прославлял себя, а это делают другие. В школе я не раз говорила девочкам, что если бы Сталин захотел, то он одним бы своим словом прекратил эти словоизлияния. Одноклассницы меня предупреждали:
– Ты, Вавилова, доболтаешься, тебя за такие слова пошлют в Воркуту уголёк добывать.
Я недоумевала, почему за здравый человеческий смысл надо посылать в Воркуту и Магадан. А ведь знала, что посылают, взрослые не раз обсуждали, кого куда увозит черный «воронок», который был неотъемлемой частью тогдашней жизни, так же, как и таинственный первый отдел.
И тем не менее, летняя жизнь в Тамбове – если забыть о многочасовых очередях за хлебом и другими продуктами – была прекрасна. Мы часто ходили в лес, катались на лодках по протокам Цны с неофициальным названием Эльдорад, плели венки из белых водяных лилий, купались, ели на свежем воздухе. С высокого берега Цны, на котором построен Тамбов, можно было часами смотреть на противоположный берег с темным лесом на горизонте. Дна была такая разная, а бывший асеевский дом с удивительной, ни на что не похожей архитектурой будил фантазию. Я стала часто ловить себя на том, что сочиняю музыку, вернее сказать, не сочиняю, просто мелодии возникают сами собой в голове. Некоторые я тут же забывала, другие возвращались, мучили, не отпускали меня, просились записаться. Мелодии рождались от речных запахов, от воспоминаний детства, я давала им названия: «Белая лилия», «Два подснежника», «Правый берег Цны», «Туман над Цной». Каждый раз перед сном я прокручивала в голове наиболее запомнившиеся мелодии.
Осенью я сказала Надежде Николаевне, что меня преследует музыка. Она заинтересовалась этим. Кое-что я пропела ей голосом, а что-то проиграла, предварительно помучавшись, на пианино. В течение нескольких недель Надежда Николаевна записывала всё, что я могла вспомнить, всё, что возникало в моей голове, когда я шла из дома в школу или из школы домой. Меня удивляло терпение Надежды Николаевны. Она отдавала мне бескорыстно драгоценные часы учителя музыки, часы, за которые она могла бы получать хорошие деньги от своих учеников. Особенно много времени мы потратили на запись того, что я назвала симфонией «Северное сияние». Зато, когда мы кончили запись, Надежда Николаевна устроила званый обед для нескольких девочек из нашего хора.
Как я уже говорила, обычно на вечере я пела одну или две арии или романсы. Но к вечеру, посвященному 8 Марта, мы стали готовить большую программу из шести вещей. Надежда Николаевна задумала продемонстрировать возможности моего голоса. Я настояла на том, чтобы начать с колоратуры, а закончить хабанерой из «Кармен». Я потому настаивала на алябьевском «Соловье» для начала, что больше сосредотачивалась на технических трудностях и была не так зажата. Мы решили, что я буду исполнять по две вещи, а между ними Надежда Николаевна выпускала других солистов. А я в это время должна была настраиваться на другой голос, так я это называла. Перед концертом Надежда Николаевна выступила, сказала что-то о необычности моего голоса и выразила убежденность, что через несколько лет я прославлю нашу школу. Когда я вышла на сцену, то увидела в первом ряду нашу директрису Лидию Филипповну. Обычно она на вечера не ходила. А рядом с ней сидела какая-то старушка, чем-то неуловимо на нее похожая. Я смутно почувствовала, что эта старушка имеет некое отношение ко мне, душа моя ушла в пятки и, чтобы вернуть её на место, я поискала глазами маму, которую впервые пригласила на своё выступление. Я нашла её и чуточку успокоилась. Принимали меня хорошо, особенно хлопали за письмо Татьяны. Вдохновленная этим, я после арии Далилы так спела хабанеру, что меня долго не отпускали со сцены и заставили спеть её ещё раз. На «бис» я пела ещё лучше, даже руки у меня раскрепостились. Надежда Николаевна обняла и расцеловала меня при всех. Когда мы ушли со сцены, она сказала, что сейчас мы пойдем в кабинет Лидии Филипповны, нам надо обсудить одно неотложное дело. В кабинете была та старушка из первого ряда. Надежда Николаевна сказала:
– Дорогая Ольга Васильевна, позвольте представить Вам нашего соловья. Наташа, познакомься, пожалуйста, это профессор ленинградской консерватории Ольга Васильевна Воскресенская.
Ольга Васильевна крепко пожала мне руку и сразу же стала задавать вопросы. Я сказала ей, что хочу поступать на филфак. Она всплеснула руками:
– Что вы! С вашим голосом! О каком филфаке может идти речь! Только консерватория! Я беру вас в свой класс. Надежда-Николаевна показала мне ваши сочинения. Девочка, это же божий дар, к нему надо соответственно относиться. Вам надо очень упорно учиться. Голос у вас от природы не поставлен, нам с вами придется здорово помучиться.
Я сказала, что мне ни за что не освоить нотную грамоту. Ольга Васильевна рассмеялась:
– Ну, если вас только это останавливает! Ещё не было ни одного самого распоследнего тупицы, который бы не освоил ноты. Надежда Николаевна вызвала меня, чтобы послушать вас, и я об этом не жалею. Завтра я уезжаю. Я оставлю Надежде Николаевне рекомендательное письмо. Если со мной что случится, вы обратитесь к N., она будет знать о вас.
Я вышла из кабинета Лидии Филипповны слегка ошалевшая. Маму я не нашла, она уже ушла. Объявили, что до конца вечера осталось десять минут. Меня окружили девочки, мальчики из нашей компании, стали поздравлять с успехом. Расспрашивали, зачем меня вызывала Лидия Филипповна. Я отвечала с дозированной скромностью, хотя внутри у меня всё ликовало. Я искала глазами Толю Баркова. Мне так хотелось, чтобы он пригласил меня танцевать. Но тут объявили конец вечера. Меня проводили
до дома всей нашей компанией. Мальчики подчеркнуто внимательно относились ко мне. Мишка даже кидал в меня снежком.
Дома я сказала маме, что ради меня приезжала из Ленинграда профессор консерватории. Мама разволновалась, руки у неё дрожали, когда она курила. Она сказала:
– Конечно, тебе решать. Но уж больно это ненадежное дело, голос… Всю жизнь бойся за него. Простудишься – и нет его. А ты так часто простужаешься.
– Ладно, мама. Впереди ещё много времени, я подумаю…
У меня сохранился дневник той поры, в 51-52-53 годах я иногда делала кое-какие записи. Оказывается, я выбирала не только между филфаком и консерваторией, но хотела ещё быть нейрохирургом, дипломатом и даже геологом. Я записала в дневнике, что докажу, что Кольский полуостров не менее богат, чем Уральские горы.
В январе 1952 года на студенческие каникулы приехали Ольга Машенджинова и Лида Савельева. Они обе поступили на немецкое отделение филфака в прошлом году и не жалели об этом. Они отговорили меня ехать в Москву, чтобы попытаться поступить в ИМО, сказали, что туда принимают только дочерей министров и других в этом роде, а кроме того, ходят смутные слухи, что этот институт будут частично расформировывать.
Одно время я засобиралась поступать в театральный на театроведческий факультет и даже в Литературный институт. Но от театрального меня отговорили наши актеры Зинаида Борисовна Хватская и ее муж Гена Ложкин, сказали, что безработных театроведов и без меня хватает. А чтобы поступить в Литературный институт, надо иметь какие-то публикации. Кроме того, где-то внутри у меня было сопротивление самой идее обучения на писателя. Если ты писатель в душе, то станешь им только за письменным столом у себя дома, а не за школьной партой института. А необходимое образование – гуманитарное образование – можно получить и на филфаке…
Часть вторая
Затянувшееся детство
* * *
Незаметно подошли выпускные экзамены. Сдала я по всем предметам хорошо, и в аттестате у меня троек не было, большинство пятерок и даже по одной из точных наук, геометрии, мне поставили пятерку. Геометрию я всегда любила и чувствовала какую-то смутную связь между собой и геометрическими формулами и фигурами.
Выпускной вечер у нас получился хороший. Он был объединенный, нашей школы и мужской. Было два оркестра, и им пришлось 93 раза играть туш. Медалей оказалось меньше, чем предполагалось, почему-то в последний момент были пересмотрены сочинения, и ни одной золотой медали не присудили. Но зато серебряным медалистам-мальчикам подарили каждому часы «Победа», которые наша промышленность тогда только-только начала осваивать и которых в свободной продаже не было.
Накануне я обрезала свои «крысиные» хвостики, провозилась с непривычки с прической и опоздала на фотографирование. На снимке все девочки получились серьезные, все в цветастых крепдешиновых платьях, это был тогда самый подходящий материал для выпускных платьев.
Общими усилиями двух школ родители закатили нам роскошный стол с икрой, семгой, даже яблоки где-то раздобыли. На столах стояли шампанское и сухие вина, а водку наши мальчики, верные мурманским традициям, принесли с собой и прикладывались к бутылкам в туалете.
Мы играли и танцевали до шести утра, а потом, набрав с собой бутербродов и пирожных, отправились в лес. По дороге мальчики состязались в остроумии, было весело, шумно и как-то по-детски глупо. Мы дошли до озера Красивого, так я его назвала ещё несколько лет тому назад. Там мы жгли костры, танцевали что-то вроде африканских танцев, почти беспрерывно чему-то смеялись. А потом, совершенно разбитые, отправились по домам.
Затем наступили дни отъездов. Я провожала кого в Ленинград, кого в Москву. А в середине июля и меня проводили в Ленинград. Несколько дней я жила у Киры, в доме у ее тетушки на углу Загородного и Бронницкой. А потом Милица Андреевна нашла мне у своих знакомых в этом же доме угол за 150 рублей. У моих хозяев было две комнаты. В большой жили молодые и их двое детей, а в комнате поменьше спали старшая хозяйка и я. Вера Николаевна почти не заходила днем в эту комнату, так что получилось, что я снимаю не угол, а комнату. Когда мы сошлись чуточку поближе, Вера Николаевна рассказала мне про своего мужа. Он попал в плен, бежал из лагеря, оказался во Франции и сражался в рядах французского Сопротивления. А когда вернулся, соседка Глафира, ненавидевшая всю их семью и рассчитывавшая отвоевать у них маленькую комнату, написала на Федора Ивановича донос. Она написала, что Федор Иванович добровольно сдался в плен. И его отправили в ссылку в Сибирь. С фотографии на стенке смотрело удивительно доброе и благородное лицо. Я сразу поверила, что он ни в чем не виноват. Вера Николаевна впоследствии всегда читала мне его письма, очень человечные и добрые.
Я подала документы на филфак. На меня произвело гнетущее впечатление здание и аудитории филфака, с обвалившейся штукатуркой, подтеками, облупившейся краской. Я уже было подумала, не отнести ли мне документы в Консерваторию, но как только я представляла себе эти таинственные нотные значки и это вечное распевание, всё моё желание пропадало. Я решила, что пусть сама судьба определит мой выбор: если не поступлю на филфак, пойду в Консерваторию. Поэтому я себя не утруждала, совсем почти не готовилась, а, опьяненная Ленинградом, с утра до вечера бродила по его улицам и площадям.
Я сдала все экзамены на пятерки и была принята на немецкое отделение, как того и хотела. В двух немецких группах было всего двое, кто поступал на немецкое отделение. Все остальные не прошли по конкурсу либо на журналистику, либо на славянское или русское отделение.
Первая лекция была у нас по основам марксизма-ленинизма, в самой большой аудитории под номером 31. Лекция началась с упоминания гениальной работы Сталина «Марксизм и вопросы языкознания». А в перерыве врубили по всему филфаку «Кукарачу». Если вспомнить, что в это время по всей стране все ещё воевали с танго и фокстротами, называли их стыдливо «медленный» и «быстрый» танец, то будет понятно моё несколько растерянное состояние от этого контраста: марксизм-ленинизм и вопросы языкознания, с одной стороны, и «Кукарача» – с другой. Кстати, почти все другие лекции тоже не обходились без упоминания гениальной работы товарища Сталина.
Начались студенческие будни, принятие одних лекторов, бурное отрицание других, привыкание к тихой талантливости третьих. Ирина Владимировна Братусь относилась к третьим. Она вела у нас фонетику, и не мы были первыми, кто прозвал ее «фонетической мамой». Её некрасивое лицо было одухотворено красотой интеллигентности. Она учила нас не только немецкому языку, но как-то незаметно, исподволь, давала нам уроки жизни, уроки нравственности. А на другом полюсе был Георгий Макагоненко. Он взлетал, вспархивал на кафедру, каждый раз в новом костюме и при новом галстуке – и mamma mia! – не оставлял камня на камне от бедной Татьяны и от более чем вековой традиции хрестоматийного толкования этого образа. Актер, позёр, он вызывал большие споры. Я прозвала его сиятельным, и тем самым нажила себе врагов на своём и на старших курсах.
Любимым преподавателем был Игорь Петрович Лапицкий, который читал у нас древнерусскую литературу. Лицо его постоянно излучало лукавство и доброту. С лёгкостью гения он разрывал связь времен и преподносил нам протопопа Аввакума и Даниила Заточника с такой пластической рельефностью, что иногда мороз по коже продирал. Он читал наизусть целые страницы древнерусских текстов, и перед глазами проходили живые, страдающие, гневные, лукавые и ласковые русские люди, патриоты и свободолюбцы.
На втором курсе древнерусскую литературу сделали факультативной для западников. И нас оставалось человек десять, кто продолжал посещать курс Лапицкого. На последнюю лекцию у нас отобрали аудиторию, и мы нашли себе приют в огромной тридцать первой аудитории, которая одновременно была актовым залом. Лапицкий читал для пяти-шести человек так же вдохновенно. У меня комок к горлу подкатывал, но при прощании с ним почему-то ни у кого из нас не нашлось нужных и простых слов, способных выразить ему нашу любовь и благодарность. Ах, почему тогда не было этой песни – «Давайте говорить друг другу комплименты»? Ах, почему нельзя открутить назад время и предотвратить то, что произошло позднее, когда мы уже разлетелись по всей стране. О том, что произошло с ним, мне рассказали двое человек с нашего курса, которые по разным причинам кончали учебу позднее. А случилось вот что. У Лапицкого выкрали каким-то образом дневник, в котором он давал убийственные, с юмором и сарказмом, характеристики своих коллег и своего времени. Организовали персональное дело, четвертовали его по всем инстанциям и – довели Лапицкого до сумасшедшего дома. Его потом часто видели на Петроградской стороне, плохо одетого, разговаривающего с самим собою. Моя подруга Светлана Угрюмова разговаривала с ним. Он рассуждал вполне здраво, помнил нашу последнюю лекцию в 31-ой аудитории. У него была всё та же феноменальная память на имена. Он запоминал с первого раза всех по имени и отчеству, кто сдавал ему экзамены и зачеты. Кстати, он никогда никому не поставил плохой оценки, а уж если откровенному двоечнику ставил четверку, то многократно извинялся перед ним.
Вот ведь как бывает в жизни… Вчера я дописала эти строки про Лапицкого, а сегодня судьба свела меня с теперешним заместителем декана филологического факультета. Я у него и спросила сразу же про Лапицкого. И – Боже правый! – он дал версию ухода и сумасшествия Лапицкого совершенно противоположную той, о которой я написала. Он сказал, что никакого выкраденного дневника не было, а было то, что Лапицкий писал доносы на своих коллег. Я не поверила, не могу поверить этому объяснению и просила зам. декана поговорить о Лапицком с кем-либо из старых преподавателей, кто был бы хорошим, порядочным человеком. Борис Михайлович рассказал, что вот уже много лет Лапицкий ежедневно приходит на факультет к 10 утра, как на занятия, ходит и по главному зданию, с ним разговаривают, он приходит на партийные собрания, к нему привыкли, как привыкают к деревенскому юродивому.
* * *
Недавно в своем школьном дневнике я с удивлением прочла следующее: «Вообще, самое интересное занятие, даже не занятие, а не знаю, как выразить, это наблюдать людей. Я очень люблю это делать, мне нравится видеть в человеке то, чего другие не замечают, а чем старше мы становимся, тем труднее это увидеть». А я-то считала, что это проявилось у меня только в университете. Помню, меня очень занимал Федор Абрамов. Это сейчас его знают все как писателя, как совесть земли русской. А тогда он был у нас на факультете преподавателем у журналистов. Я уже упоминала, что была усердным читателем толстых журналов, и знала, что Федор Абрамов написал статью «Люди колхозной деревни в послевоенной прозе». Как говорится, его за эту статью, а позднее и за другие работы склоняли по всем падежам, вплоть до специального постановления ЦК партии. Я со вниманием разглядывала его невысокую, несколько угловатую фигуру, отмечала его отличность от исконно ленинградских преподавателей, он был, пожалуй, первым, по отношению к кому я отнесла термин «первородство».
Около кабинета журналистики всё время образовывались стайки и группки. Там всегда было шумно, преувеличенно громко обсуждались новости и события. Может быть, подсознательно я и ревновала, что меня нет среди них, но сознательно я относилась к тем, кто кучковался в этих группках, с большим скепсисом, тем более что кое-кого я знала поближе и была невысокого мнения об их уме и способности переживать какие-то события глубоко и серьёзно. По поводу некоторых из них я не ошиблась и могла бы сейчас назвать несколько достаточно известных имен очень правоверных служителей системы, которые классическим образом получились из левых крикунов. Но не о них речь и не мне их осуждать…
В уже упомянутом мною дневнике я записала на первом курсе: «Особенного в жизни ничего не произошло, ожидала я гораздо большего от студенческой жизни, судя по книгам, рассказам и пр.».
Но всё-таки кое-что из того времени запомнилось, например, вечер, который старшекурсники устроили в нашу честь, в честь первокурсников. Большинство из нас впервые были на капустнике. Капустник сочинили и исполнили три Володи, среди них Володя Певзнер, который учился тоже на немецком отделении, двумя курсами постарше. Его все знают теперь под именем Владимира Константинова из пары наших комедиографов – Б. Рацер и В. Константинов. На мотив арии Мефистофеля они сочинили очень смешной текст на тему о том, что в определённые дни на филфаке расписание сводило два встречных потока из главного здания в так называемую школу – помещение во дворе филфака, которое соединялось с факультетом узкими проходами и узенькой лестницей. Володи пели:
На филфаке место есть.
Это место знает каждый.
И, наверно, не однажды
Рисковал он жизнью здесь.
В последующие дни, протискиваясь из школы в главное здание, мы распевали:
И кипит смертельный бой,
Курс на курс встаёт стеной.
Вышел первый номер стенгазеты «Филолог». В газете была моя фотография, меня сфотографировали в библиотеке. Через пару дней снимок вырезали, из чего я заключила, что у меня завёлся поклонник. А через несколько дней, когда мы сидели на марксизме-ленинизме и развлекались, кто как мог – кто играл в балду, кто – в морской бой, кто читал, я получила откуда-то из задних рядов конверт. В конверте было стихотворение, длинное, складное, с соблюдением рифмы и размера. В нем был очень лестный для меня рефрен – «Лицо твое, отмеченное Богом». Несколько дней я крутилась перед всеми зеркалами, но так и не разглядела свою отмеченность. Продолжения это стихотворение не имело, я так и не угадала, кто его написал, было три подходящих кандидатуры, но дальше выразительных взглядов дело не пошло. Я тоже поглядывала на факультетских красавцев, которых, правда, на филфаке было немного. Я примеряла их к себе, пыталась угадать, кто же из них мой принц, но так ни в кого и не влюбилась. Очень весомый комплимент я услышала в доме, в котором поселилась. Квартира, где жила Кира, коммунальная, густо населенная, соединялась через крохотную комнатушку без окон с большой квартирой, в которой жили родственники Киры, её дядя, крупный заслуженный профессор каких-то точных наук, его жена Надежда Аполлинарьевна и их сын Костя с женой. Это была настоящая профессорская квартира, где у всех были отдельные комнаты, и большая гостиная, метров на сорок, с огромной люстрой и роялем. Надежда Аполлинарьевна, маленькая, тощая, с узким лицом, крючковатым носом и смеющимися добрыми глазами, любила посидеть с нами, молодежью, за чаем. Она беспрерывно курила, сыпала где попало пепел и рассказывала бесчисленные смешные истории из своей жизни и анекдоты. Сын Костя, похожий на мать, только высокий, был безнадежным алкоголиком. Он тоже умел смешно рассказывать, но в его юморе было то, что называется юмором висельника. И вот однажды, рассказав очередную смешную историю, он вдруг посерьёзнел и сказал, глядя на меня и отделяя одно слово от другого:
– Красавица… Богиня…
Я не нашлась, что ответить, и лишь какое-то время спустя сообразила, кого Костя процитировал. А еще через пару дней в такой же ситуации Костя так же серьезно сказал:
– Живая прелесть… Живая прелесть…
И опять я не нашлась, что сказать, поблагодарить ли за комплимент или отшутиться, и снова лишь позднее вспомнила, что и это была цитата. Мне и в последующей жизни почему-то везло на комплименты от алкоголиков.
Костя умер через несколько лет от цирроза печени. Он не хотел умирать, тяжело расставался с жизнью. Незадолго до смерти он сказал Надежде Аполлинарьевне, что если бы ему довелось начать жизнь заново, он бы не стал пить, посватался бы ко мне и родил бы со мною пятерых детей.
* * *
Мы сдали первую в жизни сессию и ехали на каникулы, почти вся наша компания. Ехали весело, хотя Кира завалила сессию в своем Политехническом институте, помешал учиться бурный роман с Володей Устиновым из нашей стайки. Веселиться-то мы веселились, но когда выпадала минута, и я оказывалась одна, стоя в тамбуре и глядя на проносящиеся за окном зимние пейзажи, на меня накатывала тоска. Все эти месяцы я не думала о том, как я покажусь Надежде Николаевне на глаза, а тут стала думать. Как разъяснить ей, что я ещё не знаю, кем буду, но что я не хочу сделать пение делом своей жизни, точно знаю. Я не считаю пение, особенно оперное, несерьезным делом, но все-таки ощущаю себя слишком серьезным человеком для пения и даже для сочинения музыки. И потом эта проклятая, до головной боли, неуверенность в себе. Что, если я не преодолею это? Ведь как же надо любить себя, чтобы думать, что вот ты вышла на сцену и ты интересна всем, твой голос для всех – откровение. А я чаще всего не люблю себя и мучительно себя стесняюсь.
Я не сразу пошла к Надежде Николаевне, а позвонила ей накануне вечера в нашей школе. Встретила она меня сдержанно и вначале ничего не возражала на мои попытки как-то оправдаться. А потом стала на меня кричать. Она говорила, что я девчонка и не понимаю, что делаю, что второго такого голоса нет на свете, и я отказываюсь добровольно от мировой славы. Наше бурное объяснение кончилось слезами с обеих сторон. Я долго ходила по улицам, чтобы успокоиться, прежде чем пойти на вечер.
* * *
А через месяц я снова плакала, но уже по другому поводу. В начале марта по радио объявили о болезни Сталина. «Это всё, это конец», – говорила я и плакала, и вместе со мною плакала моя хозяйка Вера Николаевна, и ее дочь Нина, и сотни, и тысячи встречных людей на улицах, в магазинах, в университете. Наступили тревожные дни, исчезли улыбки, люди разговаривали вполголоса и шёпотом, так, как это бывает, когда дома лежит тяжело больной человек. А после 5-го марта, когда объявили о смерти Сталина, людская скорбь стала безбрежной. Не стесняясь, плакали мужчины, громко рыдали женщины, кому-то становилось плохо, и всюду пили валерьянку и другие сердечные средства. Наблюдая масштабы людского горя, я проклинала себя за то, что много раз критиковала чрезмерные восхваления Сталина в газетах, плакатах и на собраниях, ругала себя за то, что говорила, что работы Сталина не кажутся мне гениальными. Много раз перебирала в голове свой недавний разговор с мамой на каникулах. Мама сказала мне, что нам надо серьёзно поговорить, а у меня всё никак не находилось время. Наконец, оно нашлось, и мама мне сказала:
– Ната, я ведь думала, что тебя не примут в университет. В прошлом году, весной, перед экзаменами, Лидия Филипповна вызывала меня в школу, вечером, чтобы было понезаметнее. Она сказала, что ей уже не раз докладывали, что ты говоришь, что нельзя сравнивать Ленина и Сталина, что если бы Сталин был умен главным умом, то он не позволил бы себя так славословить, что Ленин ушел с заседания, когда праздновалось его пятидесятилетие. Ещё ты говорила, что у всех вождей лица, как лица, а у Берии плохое лицо. Ты соображала что-нибудь, когда говорила такое? Ты – внучка раскулаченного! Хорошо, что Лидия Филипповна оставила это при себе, не дала дальше ходу, а если бы дала? Я не стала тебе говорить, чтобы не волновать перед экзаменами. И потом не стала, думаю: будь, что будет. У меня ни одного спокойного дня с тех пор не было, я тогда и успокоилась, когда от тебя телеграмму получила, что ты принята. Ната, я тебя умоляю, я тебя по-матерински прошу: что бы вокруг ни происходило, молчи. Хорошо ли, плохо ли – молчи, потому что никто не знает, что будет завтра. Правды не было и нет, и не ожидай, что она будет, я тебя Христом Богом прошу: молчи! Пение – дело ненадёжное, но я уж тыщу раз подумала, лучше бы ты в артистки пошла, с них спрос меньше, хотя вот Русланову и Федорову за что-то тоже посадили. Ната, будешь на своем филфаке Некрасова да Чернышевского изучать, не примеряй их к себе, они в другое, более мягкое время жили, да и то гибли один за другим. Ещё и ещё раз прошу тебя: не принимай все слишком близко к сердцу и молчи.
Во время разговора мама плакала и прикуривала одну папиросу за другой. Пришлось пообещать ей, что буду молчать. Я и молчала до сих пор. И вот теперь, стоя в скорбных очередях за газетами, я тоже задавала себе вопросы, которые тогда чаще всего звучали: «Что же теперь с нами будет? Что же будет со страной?». Это состояние встревоженности продолжалось у меня до дня похорон. Почти все университетские собрались на площади Пушкина. День был такой пасмурный, серый и промозглый, что вполне соответствовал событию. К этому времени я уже не плакала и внимательно смотрела на лица. Вокруг площади Пушкина были научно-исследовательские институты, музеи, библиотеки, университет… Лица были все больше интеллигентные, особенно среди старых и пожилых… И вдруг у меня зародилась контрабандная и не подходящая к случаю мысль: «Неужели же все эти высоколобые люди всерьёз полагают, что со смертью Сталина все кончилось? Даже если я не была права все эти годы, и Сталин действительно был гениальный человек, то ведь все равно это был всего лишь один человек… Даже если он действительно во всё вникал и всем успевал руководить, то чего же стоят все остальные? Да и не мог он во всё вникать… Как он мог вникать, если он за пределы Кремля ни разу не вылезал?.. Даже во время войны… Значит, что же – массовый психоз? Гипноз личности? Долбили, долбили нам годами, что отец родной, что о каждом человеке думает, что без его статей всем была бы хана, вот мы и поверили… Дела…».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































