Текст книги "Однова живем…"
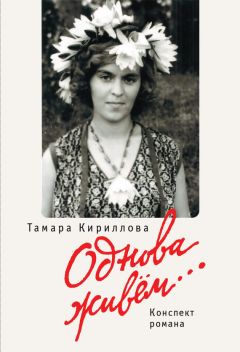
Автор книги: Тамара Кириллова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Я поймала себя на том, что иронически улыбаюсь. Вот как можно себя выдать… Я погасила улыбку. Но с этой минуты я почувствовала себя отстраненной ото всех и стала наблюдать за окружающими, пытаясь угадать, что, может быть, и другие думают так же, как и я. Но, кажется, скорбь была неподдельной.
А через пару дней после похорон на факультете объявилось несколько героев дня из тех, кто ездил в Москву и всеми правдами и неправдами прорывались ко гробу вождя. Они рассказывали, что творилось в Москве, сколько народа туда понаехало, сколько людей задавили и затоптали. Иначе, как иронически, я уже не могла ко всему происходящему относиться и, чтобы отвлечься от всеобщего психоза, уходила в читальный зал и перечитывала рассказы Чехова, выбирая те, что посмешнее.
* * *
После второго курса я поехала на строительство конюшни в колхоз имени Ворошилова в Приозерском районе – тогда ещё в Ленинградской области существовали колхозы. Не знаю, для чего мы строили конюшню, в деревне людей почти не было, многие избы стояли заколоченные. Июль в то лето выдался прекрасный, и после работы мы ходили на Вуоксу купаться. Деревня была скучной, палисадников около домов не было, садов тоже. Но места вокруг были очень живописные, леса подступали к самой деревне, Вуокса с островками на ней играла на солнышке.
Девушек поселили в просторной избе, а мальчиков – в сельском клубе. Я чувствовала себя вернувшейся в детство, много ходила босиком и всё время плела себе венки, чаще всего из васильков. В моей голове стала снова рождаться музыка, большинство мелодий тут же и забывались, но некоторые возвращались, не отпускали меня, я повторяла их на ночь, надеясь в будущем встретить кого-нибудь, кто мог бы записать их.
С первых же дней стали образовываться пары, треугольники и более сложные геометрические фигуры. Появился поклонник и у меня. Его звали Юрой Котовым, он был тоже с немецкого отделения, курсом ниже. Что бы я ни делала: работала ли, шла ли за водой, отдыхала ли на лужайке возле нашей избы – повсюду я чувствовала на себе его неотступный, тяжелый взгляд. Была еще пара юношей, явно неравнодушных ко мне, но таких преследующих взглядов не было. Меня это смущало, я не знала, как себя вести. Он был симпатичный, почти красивый, но несколько полноватый, тяжеловатый для своего возраста, и мне он не нравился. И уже совсем не нравилось то, что во время танцев он прижимал меня к себе очень сильно, а иногда часто и прерывисто дышал. Я пыталась уговаривать себя не жить рассудком, отравляющим мне жизнь, говорила себе, что это не так уж плохо – оказаться объектом такой страсти, что, может быть, стоит отдаться естественному ходу и попытаться в Юру влюбиться. Но пока я себя так уговаривала, девочки из группы Юры сказали мне, что Нина Петрушева поехала на стройку только потому, что она любит его. А ехать на стройку ей было ни к чему, так как у неё порок сердца, и ей нельзя тяжело работать. На первых же после этого разговора танцах я отказала несколько раз Юре и подчеркнуто кокетничала с другим Юрием, которого на стройке прозвали Юрием Чёрным и которому я тоже нравилась. И хотя Юра Котов никого не стал больше приглашать – и Нину Петрушеву тоже, видно было, что она счастлива, что я с ним не танцую.
А через несколько дней к Юре приехала тётя. Видимо, она приехала по какому-то важному делу, потому что Юру отпустили для разговора с работы. А вечером, за ужином, я заметила, что на нём лица нет, он сидит, не поднимая глаз. Так продолжалось несколько дней. А потом Галка Губачева под большим секретом рассказала мне, что приезжала вовсе не тетя, а мать одной молодой женщины, с которой Юра жил в Ленинграде. Они расстались несколько месяцев тому назад, и Юрий не знал, что эта женщина была беременной, когда они расставались. И вот теперь она родила сына, и мать этой женщины приезжала для того, чтобы уговорить Юру жениться. И Юра дал слово, что женится. Нина Петрушева ходила с заплаканными глазами, а потом уехала, не дожидаясь конца стройки. Пожалуй, впервые взрослая жизнь, хотя и не очень прямо, но всё-таки ощутимо вошла в моё до сих пор безоблачное существование.
Очень весело справили объединенный день рождения, мой и Марины Воиновой с английского отделения. Были какие-то забавные подарки, много смешных и лестных стихов, был смешной адрес с пожеланиями на тринадцати языках, и была персональная яичница с цифрой «21» из лука. Я знала, что большое участие в подготовке принимали наши будущие филологические знаменитости, а тогда еще аспиранты Андрей Иезуитов и Саша Нинов, поэтому, когда дежурила по кухне, то приносила им лучшие порции.
Мы очень много пели по вечерам, на лужайке около нашей избы или в лесу у громадного костра. Пели мы забавные студенческие песни, вроде «Отелло, мавр венецианский» или другие, чисто филфаковские, но особенно любили петь одну песню на стихи Павла Шубина и на мотив «Как пойду я на быструю речку». Она начиналась так:
Тротуара широкие плиты
Чисто вымыты теплым дождем.
Посидим у окошек раскрытых,
Соловьиной луны подождем.
Там был еще такой прекрасный куплет:
Эти пряди косы твоей тяжкой,
Этот горестный рот небольшой,
Отчего они пахнут ромашкой,
Полевой, васильковой межой.
Мы называли эту песню молитвой и пели её всегда самой последней.
Некоторые мальчики знали множество стихов, чаще всего запрещённых поэтов, вроде Есенина, Мандельштама, Хлебникова. Иезуитов читал эпиграммы, которые нигде и никогда не печатались, такую, например, как на Симонова:
Всеизвестен, многогранен,
Заспектаклен, заэкранен,
И весом, и многосвязен,
И при сем – однообразен.
Особенно удачным был один костер, ближе к отъезду. Нечто объединяющее, молодое носилось в воздухе. Никого не надо было просить прочесть или спеть, что-то кончал читать один, тут же продолжал другой. А потом наступила пауза. Потрескивал костер. Пели какие-то ночные птахи. И неожиданно для самой себя я запела «Летят утки». Потом пела «Тонкую рябину», потом «Степь да степь кругом», ещё какие-то песни. Я не чувствовала никакого стеснения, мне нравилось, что не было аплодисментов, а просто одна песня вытекала из другой. Когда мы возвращались домой, Бэлла Лембрикова, с которой мы иногда разговаривали о музыке, потому что время от времени встречались в филармонии, сказала:
– Я-то тебе: Равель, Равель, болеро, болеро… А у тебя вон какой голос… Почему же ты с таким голосом на филфаке?
– Не захотела в Консерваторию. Жизнь духа интересней, чем жизнь голоса…
– Ах, если бы эту жизнь духа да не душили бы все эти годы…
– Авось, что-нибудь да на нашу долю и осталось.
– Смотри, не прогадай. Консерватория, правда, тоже богадельня изрядная, у меня двоюродная сестра там учится, но у них хоть надежда есть, что они по миру поездят. А слава тебя не привлекает?
– По-моему, нормальному человеку слава только мешает… Разве я стала бы лучше для своих друзей, если бы была знаменитой? И разве я стала бы счастливей, если бы моё имя мелькало в газетах и звучало по радио? Нет, это не для меня. И потом, я никогда не пела бы, как Обухова, а раз так, то и ни к чему…
Уезжала я со стройки на несколько дней раньше, уезжала со слезами, и потом, в августе, отдыхая с Кирой в городке Острог на Западной Украине, часто вспоминала стройку. Больше у меня такого хорошего лета не было. Наверно, это был и мой девичий расцвет, осознание собственной женственности, недаром Юра Черный при прощании поцеловал мне руку и сказал, что я самая достойная девушка на всей стройке и самая целомудренная русалка. Я пошутила в ответ:
– Разве ж русалки бывают целомудренные? Они же все князьями соблазнённые…
– Наташа, не дрогни! – сказал Юра.
* * *
Участие в стройке и то, что две предыдущие сессии я сдала на пятерки, помогло мне получить место в общежитии. 150 рублей, которые я платила за квартиру, были тогда большими деньгами. Я знала, чего стоило маме посылать мне эти деньги, да плюс ещё на еду и одежду. Отец пропивал много денег, и мама с утра до ночи сидела за машинкой и строчила бесконечные подзоры и занавески, за которые брала по-прежнему очень мало.
Когда я съезжала с квартиры, то оставила на антресолях большой ящик с дорогими для меня вещами. Там были ноты моих сочинений, рекомендательное письмо в Консерваторию, несколько рисунков и крупный аметист, который мне подарила одна моя деревенская подружка, этот камень привез её отец из Германии. Я так и не собралась потом забрать свой ящик, мои хозяева переехали впоследствии на другую квартиру, про ящик они не помнили, так он и пропал, а вместе с ним всё, что связывало меня с музыкой и рисованием. С того времени, как я поселилась в общежитии, я никогда не была одна, и музыка перестала возникать в моей голове. Первое время я страдала от постоянного людского окружения, но постепенно привыкла. В общежитии есть свои положительные стороны. Оно учит жизни, реальной жизни, и я в эту жизнь окунулась. За пару недель проживания в общежитии я узнала о курсе и факультете больше, чем за два года жизни на квартире.
Нас было пятеро в комнате, все мои сокурсницы, двое с русского отделения, а другие двое с нашего, немецкого. У каждой из нас было по тумбочке и на всех один шкаф, в котором помещались наши немногие платья.
Самой привлекательной из нас была Инна Боборыкина из Перми. У неё был тот тип красоты, который на Западе почему-то считается славянским, а у нас в России, наоборот, западным. Это высокие, четко очерченные скулы, полные губы, косо поставленные глаза и слегка вздёрнутый прекрасной формы нос. У себя в Перми Инна занималась балетом, и у неё была гордая посадка головы, балетная спина и балетные развернутые стопы ног. Эти полноватые ноги она умело маскировала тем, что носила чуточку более, чем надо, длинные платья и туфли на высоком каблуке. Талия у неё была очень тонкая, а бедра широкие. Короче, это была наша Софи Лорен, и Инна очень гордилась этим сходством. Неудивительно, что её поклонником был один из самых интересных парней в общежитии, осетин Мурат Тотоев с юридического факультета. Сначала он приходил к нам один, а потом стал приводить с собою своих сокурсников – Биляля Карданова и Толю Никитина. Биляль был высокий, тощий, смуглый и черноволосый. Он был очень стеснительный и, наверно, чтобы преодолеть эту стеснительность, часто в шутку повторял:
– Вот посмотрите, через несколько лет я буду премьер-министром Кабардино-Балкарии.
Толя был полной противоположностью Биляля. Тоже высокий, но крепко сбитый, светлые волосы, очень русское лицо с носом картофелинкой, трогательная женская ямочка на правой щеке. Он носил очки, и за их стеклами трудно было разглядеть его глаза. Довольно скоро стало ясно, что и Биляль, и Толя оказывают мне явное предпочтение. Если бы я сама об этом не догадывалась, меня бы навели на это другие. Таня Мамонтова без излишней дипломатии сказала мне как-то:
– Слушай, ты думаешь, они ради нас хвосты распускают? Ты уж выбери какого-нибудь из них.
– А мне ни тот, ни другой не нравятся. Они оба – хорошие ребята, но не более того. Вот если бы их смешать, как у Гоголя, тогда было бы то, что надо.
– По-моему, ты слепая. Ну ладно, тебе не нравятся брюнеты, тебе не нравится Биляль… Но Толя? Ты посмотри, какая у него улыбка, такой же даже в Голливуде нет.
Пожалуй, Таня была права, я как-то действительно не разглядела, как Толя улыбается, ямочку разглядела, а то, что у него неправдоподобно красивые жемчужные зубы, не увидела. А после этого разговора у меня как пелена с глаз спала. В самом деле, когда он улыбался, лицо его удивительным образом менялось. Такая в его улыбке открывалась доброта, таким красивым его лицо становилось, что можно было диву даваться, что я увидела это только после Таниных слов. И хотя чисто внешне пока ничего не изменилось, что-то в моей душе по отношению к Толе дрогнуло.
Вдруг какую-то многозначительность стало приобретать каждое слово, каждый поступок. Мы играли в какие-то детские игры, играли в карты, реже разговаривали о наших студенческих, общежитейских делах. Выяснилось, что Толя не живёт в общежитии, он ленинградец, у них отдельная трехкомнатная квартира, что по тем временам было редкостью. Когда нам давали стипендию или кто-то получал деньги из дома, покупались водка или сухое вино, мы варили пельмени или макароны и выпивали. Первые годы ещё не ослабели земляческие связи, и очень часто к кому-нибудь из нас приезжали земляки, учившиеся в других институтах. Тогда становилось ещё шумнее, еще веселее.
По субботам и воскресеньям в красном уголке чаще всего устраивали танцы. И если раньше мне было всё равно с кем танцевать, с Билялем, или с Толей, или ещё с кем-нибудь, то теперь стало не всё равно, и смутное волнение охватывало меня, когда я оказывалась в Толиных объятьях. Танцевал Толя хорошо, вёл уверенно и надежно, с ним невозможно было сбиться с такта. Обычно с танцев мы уходили все вместе, мальчики доводили нас до комнаты, и уж потом Инна уходила в коридор на свидания с Муратом. Но однажды мы с Толей оказались одни к концу танцев. Он довёл меня до нашей комнаты, и мы стали о чем-то говорить. В коридоре было холодно, и я сунула руки подмышки, чтобы согреться.
– Дай мне руки, я их согрею, – сказал Толя.
От его рук побежали теплые волны. Я не успела сообразить, как оказалась в его объятиях. Он стал целовать меня так, что всё мое существо воспротивилось. Я вырвалась, он снова обнял меня, снова стал целовать. Я опять вырвалась и убежала в свою комнату. Все уже спали. Я разделась, легла в постель, отдышалась, а потом мне стало так горько, что я заплакала. Плакала долго и разбудила Таню Мамонтову. Она подсела ко мне на кровать.
– Ты что плачешь? Толя обидел?
– Да.
– А что он сделал?
– Он поцеловал меня.
– Разве от этого плачут?
– Он не так меня поцеловал…
– А как надо?
– Я не знаю, как, но не так…
– Страстно?
– Да, наверно…
– Вот дура, он же тебя любит. Скажи кому, что девка на двадцать втором году жизни от поцелуев плачет, никто не поверит. Перестань. Всё у вас наладится.
– Не наладится…
– Наладится, вот увидишь.
На следующий вечер Толя не пришёл. Не появлялся он и ещё три дня. Мурат и Биляль приходили, а Толи не было. У меня болело сердце. Я впервые в жизни почувствовала, где оно находится. Дни тянулись невыносимо долго, а вечера – ещё дольше. И когда на пятый вечер Толя появился вместе с Муратом и Билялем, сердце у меня подпрыгнуло. Толя был весь какой-то умиротворённый, он замедленно реагировал на шутки и смех, которые в этот вечер особенно часто звучали. На фоне этого смеха он незаметно шепнул мне, что будет ждать меня в коридоре. Я вышла с бьющимся сердцем. Мы о чём-то долго говорили, а потом Толя взял мои руки и начал так:
– Если бы я умел говорить комплименты, то я сказал бы тебе, какие у тебя… – и стал в превосходных степенях перечислять глаза, ресницы, брови, губы, шею, плечи, руки… А потом достал листок бумаги и сказал, что он впервые в жизни написал белые стихи, посвящённые мне, что завтра он будет страдать от того, что отдает их мне, но сегодня он не может их не отдать. И тут он очень нежно привлек меня к себе и стал очень нежно и бережно целовать всё, что он перечислил в своих стихах. И я поняла, что моей возлюбленной независимости и свободе пришёл конец…
* * *
После моего возвращения с каникул, которые показались мне как никогда длинными, Толя познакомил меня со своими родителями. Они произвели на меня очень приятное впечатление. Как-то сразу я ощутила, что они – муж и жена, соединенные на всю жизнь уважительным отношением друг к другу и любовью. Отца звали Михаил Семёнович, он был постарше Веры Ивановны, прошёл всю войну и кончил её в чине полковника в Берлине. Квартира у них была хорошая, на Исполкомовской, около самого Невского. Обставлена она была без излишеств, скупо и поражала своей стерильной чистотой. Вера Ивановна не работала, вела хозяйство и занималась детьми, которых у неё было ещё двое, Серёжа и Светлана, оба школьники. Как я не раз потом могла убедиться, хозяйство Вера Ивановна вела образцово и мужественно. Михаил Семёнович работал директором тарной фабрики. Директор фабрики… Звучит… Но у него был крохотный оклад. И надо было проявлять чудеса изворотливости, чтобы содержать на эти деньги всю семью. И тем не менее, когда приходили Толины друзья, Вера Ивановна всегда их кормила. До недавнего времени у них была трофейная машина. Её пришлось продать, чтобы как-то сводить концы с концами. У них не всегда было в обиходе туалетное мыло, а если иногда и появлялось, то самое дешёвое, «земляничное». Как-то Вера Ивановна обронила такую фразу, что, мол, солёные огурцы заглушают чувство голода. Меня это резануло по сердцу. Спустя десять лет после войны, в Ленинграде, кто-то думал о том, что надо чем-то заглушить чувство голода…
Вера Ивановна постепенно натаскивала меня на различные хитрости ведения хозяйства. То я под ее руководством гладила Толину рубаху, то варила борщ, то делала ещё что-нибудь. Семейные праздники у Никитиных отмечались подчёркнуто торжественно, особенно дни рождения. Вообще только у них я почувствовала, что такое семья, СЕМЬЯ, только у них поняла истинный смысл английской пословицы: мой дом – моя крепость. И чем дальше, тем меньше я понимала, как мог Толя постоянно огорчать свою маму, свою семью. Как оказалось, Толя часто пил и пропивал значительную часть своей повышенной стипендии. А между тем, его стипендия была существенным подспорьем к зарплате Михаила Семёновича. И даже когда Толя пил не на свои деньги, он всё-таки пил. Пил… Возможно, он выпивал бы меньше, если бы не дружил с ребятами из общежития. Но он проводил большую часть свободного времени в общежитии, благо юридический факультет был рядом, на берегу Невы. А в общежитии часто находился повод для выпивки, пили просто без всякого повода. Я пробовала уговаривать Толю, пыталась протестовать, но все мои протесты разбивались об его обезоруживающую улыбку и то обстоятельство, что он сам прекрасно понимал, что плохо делает, но у него не хватало силы воля устоять перед первой рюмкой. А где первая, там и вторая.
* * *
Лето я провела в Тамбове. Туда приехали мама, Стасик и Аркаша. Было шумно и весело. Мама Натаня с большим юмором рассказывала разные истории из своей жизни, из жизни нашей деревни, из моего детства. Когда бывало тепло, мы ходили на речку, брали напрокат лодку, уплывали в тамбовский Эльдорад. Когда же небо хмурилось и накрапывал дождик, я ездила в библиотеку. В тамбовской библиотеке я провела и в последующие годы много счастливых часов. Снаружи красное кирпичное двухэтажное здание выглядело не очень большим. Но когда по широкой кованой лестнице ты попадал наверх, читальный зал поражал своей грандиозностью и величием. На каждого читателя приходился большой дубовый стол с лампой. Библиотекарши были по-старинному интеллигентные и услужливые. Как-то я спросила, каким же образом в такой вроде бы глухой провинции – вспомним лермонтовское «Тамбов на карте генеральной кружком означен не всегда» – могло быть построено такое здание с таким богатейшим выбором книг. Мне ответили, что библиотеку для Тамбова построил Эммануил Дмитриевич Нарышкин, и принесли несколько книг о нём. И чем больше я читала о нем, тем большим уважением проникалась к светлому имени тамбовца, чьим деяниям в своё время завидовали другие губернские города России. Народную читальню Нарышкин построил в 1892 году, но кроме неё, он подарил ещё учительский институт, общежитие учеников, приют для детей арестантов, городское начальное училище и сделал для города ещё много других дел. Вот что было написано о нем в адресе в день освящения читальни: «…представитель знаменитого рода, давшего некогда России знаменитого монарха, Вы являетесь для нас олицетворением того русского дворянства, которое, неся свет знания, разгоняет тьму невежества».[3]3
Из старинного рода Нарышкиных вышел Пётр Первый. Носители имени этого рода всегда были известны не только по всей России, но и далеко за её пределами. Род этот – гордость России, и имя его много говорит русскому сердцу.
[Закрыть] И ещё: «Среди изменчивых явлений этого мира, где целые поколения людей проходят и забываются, Вы создали дело, которое не только не умрет и не исчезнет, но, напротив, будет расти и приносить плоды в будущем». Эммануил Нарышкин был награжден всеми орденами Российской империи, в том числе и высочайшей наградой – орденом Андрея Первозванного. Он завещал похоронить его очень скромно, но по душевному велению тысячи тамбовцев пришли отдать ему последний долг, и похороны вышли в высшей степени торжественными и носили задушевный характер. На его похоронах были и представители других областей. Особо привлек внимание роскошный венок с надписью: «Эммануилу Дмитриевичу от крепостных крестьян Тульской губернии». Значит, и там он сделал что-то хорошее. Некролог о нём написан очень сердечно, прекрасным русским языком XIX-го века.
Тамбовской библиотеке завещали свои фонды археолог и библиограф Д. В. Поленов, краевед Л. А. Войеков, позднее туда поступили собрания Ф. Д. Хвощинского и историка искусств А. В. Вышеславцева. В библиотеке Поленова были книги из личной библиотеки Гавриила Романовича Державина, который несколько лет был тамбовским губернатором, и это при нём был построен великолепный театр. Во многих деревнях от дворян остались хорошие собрания книг. Как я уже писала раньше, в нашей деревне тоже была хорошая библиотека при ШРМ, составленная из остатков разграбленной усадьбы. Когда мы приезжали из Тамбова в деревню к крёстному, я всегда пользовалась ею.
У крёстного на Поплёвке нам отдыхалось очень хорошо. Его дом был крайний в деревне. Он стоял у самой речки. Наверх по пригорку взбегал яблоневый и вишнёвый сад, а внизу у речки росли вишня и смородина. И было около речки много вётел, которые так живописно склонялись над нею и отражались в её водах. Я очень любила собирать вишню и смородину и варить из них варенье.
Одна картина из тех счастливых летних дней на всю жизнь врезалась мне в память. Как-то под вечер я варила варенье в верхнем саду. Заходящее солнце играло в тугих вишневых листьях. Становилось прохладно. Я накинула большой пуховый платок тети Любы, подбросила в огонь дровишек и поднялась по пригорку выше сада. Сверху было видно всё село. Около речки ложился туман, квакали лягушки, блеяли возвращающиеся с пастбища овцы, мычали коровы, слышались голоса разговаривающих с коровами хозяек, первые удары молока о подойники. И во всем была разлита такая красота, покой и гармония, что я неожиданно для себя перекрестилась несколько раз: «Господи, пусть эта красота пребудет вечно!» Я поймала себя на том, что придерживаю платок так, как держит плащ Иисус Христос на картине Иванова и, пока я спускалась с пригорка, я чувствовала себя Иисусом Христом, несущим страждущим людям мир и освобождение…
* * *
Осенью в Ленинград прибыла английская эскадра с визитом дружбы. Филфак был взбудоражен, студенты английского отделения рассказывали о своих разговорах с англичанами, на Невском на каждом шагу попадались группки беседующих. Решили и мы с подругой Галей Зеленовой заговорить с англичанами. Мы выучили одну фразу по-английски: «Говорит ли кто-нибудь из вас по-немецки?» Прошли от Литейного до канала Грибоедова и всё не решались с кем-то подходящим заговорить. Наконец, у Дома Книги мы увидели шедших нам навстречу англичан и сказали им нашу заготовленную фразу. А они нам на русском языке ответили:
– А мы говорим по-русски.
Мы были так ошарашены, что не сразу осознали смысл этой фразы. А когда разговорились, то узнали, что из 4–5 официальных переводчиков русского языка, пришедших с эскадрой, мы набрели на двоих из них. Наших новых знакомых звали Энджу Левенз и Артур Уотсон. Мы нашли место под одним из оранжевых абажуров кафе «Север» и проговорили весь вечер. Помню, я просто зашлась от возмущения, когда Артур сказал нам, что Сталин был деспотом и диктатором, что он сгноил миллионы ни в чём неповинных людей в Сибири, сказал, что в Сибири полно концлагерей, в которых и спустя два с лишним года после смерти Сталина мучаются невинные люди.
– Разве троцкисты и бендеровцы – это невинные люди? – спросила я. – Если враг не сдается, его уничтожают, – сказала я. – Да если бы вы были у нас в дни смерти Сталина, вы бы убедились, что Сталин был отцом родным для всех.
– Погодите немного, и вы узнаете правду, вы узнаете, каким родным отцом был для вас Сталин, – сказал Артур. И еще он спросил:
– Значит, если я враг той системы, которую создал у вас Сталин и завтра начнется война, то вы будете в меня стрелять?
– Разумеется, – без колебаний ответила я и повторила знаменитую горьковскую фразу: если враг не сдается, его уничтожают.
– Но разве стоит стрелять друг в друга тем людям, у которых разные убеждения? Им нужно встречаться друг с другом и пытаться найти правду, которая, вероятнее всего, где-то посредине. А ваш Сталин создал железный занавес, и вы годами и десятилетиями не имеете контактов с Западом, – говорил Артур.
– Холодную войну нам объявили Черчилль и Трумен, а ещё раньше те страны, которые не признавали Советский Союз, – возражала я.
Мы сговорились, что встретимся на другой день. Энджу не мог придти, а Артур попросил меня показать ему наше общежитие. Я уже несколько дней перед этим жила на квартире у Гали, а надо было предупредить как-то девчонок. Я позвонила в общежитие и умолила вахтершу позвать кого-нибудь из нашей комнаты. Спустилась Таня Мамонтова. Я сказала, что приведу завтра англичанина, и попросила соорудить «потёмкинские деревни» в доступных нам масштабах и изобразить дело так, чтобы Артуру не пришло в голову догадаться, что они предупреждены о его приезде, всё должно было быть разыграно так, что мы явились неожиданно.
Мы приехали значительно позднее, чем должны были прибыть. Девочки решили, что мы не придем и уже отужинали. Потёмкинские деревни были налицо: все были одеты не в халаты, постели не разобраны, над двумя кроватями красовались ковры, взятые напрокат в соседних комнатах, на столе была постелена скатерть, а на ней вместо обычных пельменей были остатки сыра, ветчины, печеньев и торта. Меня ждал денежный перевод от мамы. Артур попросил показать ему перевод и недоверчиво покрутил им перед носом. Пока я бегала на почту получать деньги, дискуссия разгорелась ярким пламенем, и, когда я пришла, купив бутылку сухого вина и красной икры, Артуру как раз доказывали, какой родной отец был наш Сталин. Мы проговорили до поздней ночи и проводили Артура всей комнатой до стоянки такси. Общежитие ему понравилось, оно действительно было хорошим, чистым и светлым, и в большинстве комнат было хорошо, в том числе и в нашей, даже без взятых напрокат ковров.
Мы ещё долго потом обсуждали визит Артура, смеялись над «потёмкинскими деревнями», над тем, как трудно было уговорить вахтёршу не задержать нас с Артуром при входе в общежитие и тем самым дать бы повод Артуру говорить об отсутствии свободы в СССР.
Я стала переписываться с Артуром и Энджу. Если мне память не изменяет, отец Энджу был профессором в Оксфорде, его письма были мягче и интеллигентнее, а с Артуром мы и в письмах продолжали воевать.
* * *
Толя, Биляль и Мурат проходили практику в ленинградской тюрьме «Кресты». Видимо, они давали подписку о неразглашении, потому что ничего не рассказывали нам о своей практике. Но Толя всё больше мрачнел и все чаще говорил мне о подавлении личности государством. Он и раньше пускался в эти довольно туманные для меня рассуждения о трагической несвободе человека, подавляемого на каждом шагу всевозможными государственными институтами, говорил о бессмысленности жизни, о своём желании когда-нибудь добровольно уйти из неё. До поры до времени я не принимала его рассуждения всерьез и считала, что Толя отдает простительную дань настроениям, взращенным на почве хитрых юридических наук.
Но вот мы собрались в нашей комнате вскоре после ноябрьских праздников, чтобы выпить под гуся, которого привезла Галя Зеленова, ездившая на праздники к себе домой, в Серпухов. Было очень весело, все наперебой шутили, шутил и Толя. Как обычно, мы вышли под конец в коридор, и тут Толю как будто подменили. Он начал говорить как-то особенно туманно о том, что вот мы суетимся, копошимся, чего-то добиваемся в жизни, кого-то отталкиваем, перешагиваем через трупы, а во имя чего – неизвестно, всё равно все помрем, и чем раньше мы это сделаем, тем лучше. И тут я очень резко стала говорить ему, что мне надоели его бессмысленные, безадресные рассуждения.
– Ты никогда не покончишь с собой, уверяю тебя! – я не говорила, а почти кричала.
– Ты так думаешь?! – сказал Толя, резко повернулся и убежал, не попрощавшись.
И исчез на три дня. Я уже привыкла к таким исчезновениям. Это означало, что он пьет, но не с ребятами из общежития, а где-то на стороне, со студентами – ленинградцами. В один из вечеров, при входе в общежитие вахтёрша остановила меня и сказала, что меня попросили позвонить по записанному у неё телефону. Я не сразу сообразила, что это Толин телефон. А когда сообразила, сердце у меня ёкнуло от недоброго предчувствия.
К телефону подошла Вера Ивановна. Она сказала мне, чтобы я немедленно выезжала к ним, а зачем – это я узнаю по приезде. Всю дорогу я гадала, что могло случиться. Дверь открыла Вера Ивановна.
– А где Толя? – спросила я.
– Они вот-вот должны приехать из больницы.
– Из больницы? А что с ним?
– Он пытался покончить жизнь самоубийством.
– Как – самоубийством?
– Он бросился с моста в Неву.
– Как – с моста? С какого моста?
– Петра Первого. Что у вас было перед этим?
– Боже мой! Там же такая высота!
– Что у вас было перед этим? Вы поссорились?
И мы, перебивая друг друга, стали выяснять, что же случилось три дня тому назад. Как оказалось, Толе необыкновенно повезло. Когда он прыгнул с такой высоты, то от удара об воду потерял сознание и пришел в себя уже по другую сторону моста, куда его отнесло течением. Он стал кричать, и его услышали. Там, около моста, расположен основанный ещё Петром Первым завод по ремонту судов. Толю подобрали на моторной лодке. Он удачно упал, не разбившись и не повредив внутренностей. И он даже не простудился, хотя вода была ледяная, а он пробыл в ней довольно долго. Поэтому его и отпустили из больницы так быстро.
Вера Ивановна была удивлена, когда я сказала ей, что Толя не раз говорил мне о бессмысленности жизни.
– А я думала, что вы поссорились, что ты дала ему отставку.
Вскоре появились Толя и Михаил Семенович. Толя смущенно улыбался. Он выглядел немного смешно в старых школьных очках, привычные очки в более модной оправе потонули в Неве.
Когда после ужина мы остались одни, Толя встал передо мной на колени и сказал:
– Прости меня, хвостик. Ты была права. Жизнь оказалась сильнее смерти. Когда я понял это, я стал звать на помощь.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































