Текст книги "Однова живем…"
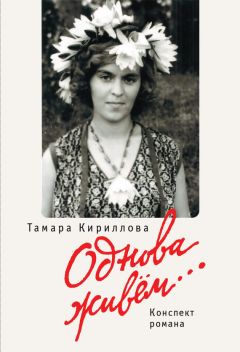
Автор книги: Тамара Кириллова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
– Ты у матери попроси прощения. Сколько она за эти дни пережила. Это же чудо, что ты не разбился. И чудо, что тебя так быстро подобрали, сердце могло от переохлаждения отказать.
– Да, я легко отделался. Значит, так угодно было судьбе… И знаешь, что я ещё понял в воде?
– Что?
– Что я люблю тебя… По-настоящему…
– Спасибо…
В Толиной жизни и в наших отношениях наступил ренессанс. В нашем коридорном романе стало меньше страсти, а больше теплых человеческих отношений, больше разговоров. Толя нанялся грузчиком на железнодорожную станцию, проработал там больше месяца и заработал себе на костюм и пальто вместо своих старых, которые от долгого пребывания в воде безнадежно сели и годились теперь только Сереже. В это время гастролировали американцы с оперой «Порги и Бесс». Толя купил билеты по пятьдесят рублей, для того времени это была фантастическая сумма, до сих пор таких цен на билеты не было.
* * *
В феврале пятьдесят шестого года состоялся ХХ-ый съезд партии. Правда о культе личности оказалась ошеломляющей даже для тех, у кого были репрессированы родственники. Как теперь выяснялось, почти у всех родных и знакомых кто-нибудь сидел или был расстрелян. Сидел по подольскому делу дядя Вася, муж тети Шуры, он был арестован за несколько лет до 37-года и отбывал свой срок в каких-то Темниковских лесах, кажется, в Мордовии, тетя Шура не помнила точно. У них в лагере от холода и дизентерии умирало слишком много людей, была создана какая-то комиссия и совсем доходяг отпустили из лагеря, комиссовали досрочно. Дядя Вася вернулся без зубов и с туберкулезом, от которого он позднее и умер. Так вот почему тетя Шура так ненавидела Сталина.
Ивана Алексеевича, двоюродного брата папы, щеголя и весельчака– я о нём уже раньше писала – арестовали, состряпав на него такое дело, что будто бы он был в банде. В банде был
Иван Алексеевич, но другой, а нашему во время антоновщины было 13 лет, и он по малолетству ни в банде, ни в красных не состоял.
Как теперь выяснилось, Милицу Андреевну отправили на 8 лет в Казахстан, в Карлаг, за то, что она якобы вместе с другими заговорщиками пыталась поджечь «Ленфильм». С нею вместе были арестованы и другие 43 председателя ленинградских профсоюзов. За что был сослан муж моей квартирной хозяйки, я уже писала. Почти каждый день кто-нибудь рассказывал подобные истории с придуманными следователями причинами ареста.
Я ходила, подавленная всем услышанным, вспоминала, краснея, что я говорила Артуру, и снова в моей голове билось: «Пепел Клааса стучит в мое сердце…».
* * *
Для того чтобы отвлечься от тяжёлых дум, камнем лежавших на сердце, я зачастила в Эрмитаж и Русский музей. Чаще всего я приходила к Рембрандту, Эль Греко и Моне. Рембрандт дался мне не сразу. Видимо, в этом была виновата его кажущаяся простота. Простота гения… То совершенство, за которым не видно титанической внутренней работы. Каждый раз, стоя перед его картинами, я заново переживала их психологическую глубину и мастерство его живописи. Сходные, но все-таки другие чувства будили во мне апостолы Петр и Павел Эль Греко. Год смерти – 1614. П – мастерство, перешагнувшее три века. Это было непостижимо… П, наконец, третий этаж. Живопись, достигшая апогея – так мне тогда казалось. После неё – топтание на месте, повторы, уход в формотворчество. На третьем этаже я обычно утверждалась в том, что была права, бросив рисовать.
Однажды я сбежала с какой-то скучной лекции и поднялась к Моне. На третьем этаже и сейчас ещё можно постоять перед картиной, а в те годы там было совсем мало народа. Я долго стояла перед картиной «Мост через Темзу». Солнышко светило как раз со стороны Дворцовой площади. Вдруг я почувствовала какую-то вибрацию, исходящую от картины, меня как будто ударило слегка по голове большим воздушным шаром, я покачнулась и – что-то произошло с глазами, с моей душой. Я увидела картину совсем по-другому, словно на какие-то мгновения побывала в оболочке самого Моне. С этим чувством новизны я постояла перед другими его картинами и ощутила их так, как до сих пор не ощущала. Я назвала то, что случилось со мной, «солнечным ударом», или разрывом связи времен. Позднее это ещё несколько раз происходило со мной, думаю, что я остановлюсь на каждом из этих случаев. Хочу только сказать, что каждый такой удар заменял мне многие страницы написанного о том или ином художнике, то, что я позднее читала, я уже ЗНАЛА.
* * *
В каком-то из польских журналов, которые я читала в Публичной библиотеке, я прочла о писателе Мареке Хласко, написавшем рассказ «Восьмой день недели». Это был рассказ о двух любящих, которым негде было встречаться, чтобы дать любви естественный ход. А негде было встречаться потому, что с квартирами в Варшаве было не лучше, чем в Ленинграде. Восьмой день недели… Как это точно выражало ту безысходность, которую ощущали мы с Толей. Даже если бы у нас были деньги, чтобы снять комнату в коммунальной квартире, я бы на унижение коммуналкой, подглядыванием соседей, не пошла. И даже если бы у нас нашлась фантастическая сумма на отдельную квартиру, мы бы таковую не нашли, таких квартир тогда попросту не было, они существовали разве что только теоретически. О женитьбе мы никогда не говорили, потому что для нас обоих было ясно, что мы не имеем права вешать ярмо студенческого брака на шеи родителей. В наших отношениях появилась трещина, которая день ото дня становилась глубже. Нас неудержимо тянуло друг к другу, мы целовались почти до обморочного состояния, неутоленная страсть разливалась по всему телу, расставаться было трудно, сон долго не приходил и – возникало глухое раздражение друг к другу. Мы стали реже встречаться. Как будто существовала для этого причина: Толя был на курс старше и писал дипломную работу. Он защитил диплом с отличием и получил распределение следователем в одно из отделений милиции в Минске.
Я задержалась с отъездом в Тамбов на каникулы, потому что университет рекомендовал меня для работы с голландской эскадрой, прибывшей с визитом дружбы. Я возила голландцев по городу, водила в Эрмитаж, Русский музей, Исаакиевский собор. Я подружилась с одним голландцем, забыла его имя, очень длинное и трудное. Я показала ему Ленинград, лежащий вне обычных туристских маршрутов. Мы очень много разговаривали, теперь я была потише и помягче, чем в дискуссиях с Артуром. Голландец оказался бароном, на прощанье он подарил мне серебряную пепельницу со своим баронским гербом. По окончании визита нас попросили написать отчет о работе. Память у меня тогда была хорошая, и я на многих страницах расписала все наши разговоры с бароном и другими голландцами.
Потом Толя проводил меня в Тамбов. Честно признаюсь, я ожидала в последние дни, что он скажет мне что-нибудь о нашем совместном будущем. Но он ничего не обещал. На прощанье он только поцеловал каждую ямочку на моей руке – его мои детские ямочки на руках всегда необыкновенно умиляли – и сказал, что умирать будет, а не забудет, как он меня первый раз поцеловал. Я усмотрела в этом прощанье навсегда и проплакала до Бологого. Я решила, что не буду ему писать первой. Но он прислал хорошее письмо сначала из Ленинграда, потом из Минска, и мы стали регулярно переписываться.
Прошло лето. Наступил новый учебный год. Однажды сентябрьским днем, не помню, как, через кого, меня вызвали в одну из комнат главного здания университета. В комнате был среднего возраста человек с недобрым лицом и цепким взглядом. Он сказал, что у него есть ряд вопросов по работе с голландской эскадрой. Я ответила ему на вопросы. Потом он сказал, что им очень понравился мой отчет, и спросил, не согласилась бы я сотрудничать с КГБ.
– Это что, на своих «стучать»? – спросила я.
– Ну, вы скажете! Никто вас к этому не будет принуждать. Мы же контрразведка, морская контрразведка.
– А что, контрразведка разве не держит стукачей?
– Опять вы употребляете это слово. Но – представьте себе, что вы встретите агента, шпиона иностранной разведки, разве вы не скажете об этом?
– Я думаю, что мне такой не попадётся.
– Ну, как знать, не ручайтесь. Так вы бы рассказали нам о таком человеке?
– Если настоящий шпион, то, наверно, рассказала бы.
– А больше нам ничего и не надо. Вы учитесь на немецком отделении, вам придется встречаться с иностранцами, нас интересует всё, с чем они будут приезжать: и хорошее, и плохое. Вы уже нам очень помогли. Мы ждем, что вы и в будущем нам поможете.
Мы ещё поговорили, и в заключение он продиктовал мне подписку о том, что впредь я буду сотрудничать с КГБ. Подписываться я должна была вымышленным именем. Он дал мне телефон и имя человека, с которым я буду встречаться на конспиративной квартире.
Я вышла после этого разговора слегка оглушенная. Я не знала, как относиться к тому, что произошло. Я думала о том, что было бы со мной, если бы я отказалась. Не знаю, что было бы, но уж, во всяком случае, ничего хорошего. Зная себя как фаталиста, я решила, что, видно, это судьба, от которой не отвертишься, что, опять же, нет худа без добра, будут знать немножко больше о жизни. В очень закодированной форме – на случай, если письма вскрываются – я написала обо всём Толе и попросила совета на будущее. Он долго не отвечал, а потом прислал мне письмо с одним минчанином, приехавшим в Ленинград в отпуск. Письмо было очень дельное, и я благодарна Толе до сих пор. Главное, о чём он писал, это чтобы я никогда перед кагебешниками не раскрывалась, даже если они прикинутся отцами родными. Чтобы я не поступалась в каких-то своих жизненных принципах. И раз уж я решила на своих не «стучать», то чтобы стояла в этом намертво.
* * *
На третьем курсе наше отделение разделилось на литераторов и лингвистов. Логичнее всего для меня было бы учиться в группе литературоведов. У Марьи Лазаревны Тройской, которая читала нам западную литературу, я уже писала две курсовые работы, и она очень хвалила и даже зачитывала их на английском отделении, что было лестным для меня. Не помню, как были сформулированы темы, но одна из курсовых работ была по «Норе» Ибсена, а во второй я анализировала рассказ Бодо Узе «Ефрейтор». Обе работы я писала примерно так: ходила в Публичку, страдала, что мне ничего не приходит в голову, читала польские журналы «Фильм» и «Экран». Но в последние два дня и две ночи на меня вдруг снисходило вдохновение, и я в едином порыве писала то, что не могла написать за несколько недель нормальной работы.
Марья Лазаревна просила меня подумать и переменить своё решение, потому что она готова хоть сейчас рекомендовать меня в аспирантуру. Но все преподаватели-лингвисты говорили, что на лингвистическом отделении мы будем знать язык гораздо лучше. Я поколебалась ещё немного и решила, что в литературе я разбираюсь и так неплохо, а вот знать язык получше не помешает, тем более, что по окончании университета мне не так хотелось учиться в аспирантуре, как хотелось поехать переводчиком в ГДР. И хотя я потом писала хорошие курсовые работы по языку, я всё время ощущала, что делаю не свое дело, суффиксы и префиксы меня никогда не вдохновляли. Я смутно чувствовала, что если углубиться в язык, то откроется увлекательный, удивительный и интересный мир, но – этот мир был не мой. Для меня всегда был важен смысл сказанного, ЧТО сказано, а не КАК сказано. Содержание для меня всегда важнее формы, и в этом смысле я, конечно же, плохой филолог. Если писателю или критику есть что сказать, то и форма родится естественным образом, и иногда можно простить какие-то погрешности формы, то, что много лет спустя Валентин Катаев в полемическом задоре назовет мовизмом.
А пока что на последнем курсе мне предстояло год страдать на такую тему: «Экспрессивно-оценочные предложения в немецком языке». Это была тема моей дипломной работы, руководителем её стала профессор Татьяна Викторовна Строева-Сокольская, которую мы все очень боялись и у которой я уже «заваливала» историю немецкого языка. Но даже страх перед Татьяной Викторовной не помешал мне вымучивать дипломную работу по вышеописанной схеме: Публичка, трепотня с коллегами в коридорах, журналы «Фильм» и «Экран». И только весной, когда времени совсем не оставалось, меня озарило, всё как-то встало на свои места, один вывод рождал последующий, и оставалось только время записать это на бумаге. Работа получилась очень короткая, диплом полагалось писать на большем количестве страниц, и я опасалась, что мою защиту отодвинут на осень. В тот день, когда объявляли, кто допущен до защиты, а кто нет, я болела, и на занятия не смогла пойти. Время тянулось невыносимо медленно и, когда наши пришли, я могла только выдохнуть:
– Ну что?
– Поздравляем, Вавилова, ты написала блестящий диплом.
– Что, на осень?
– Какая осень! Строева-Сокольская сказала, что если то, что ты написала, разбавить слегка, то будет кандидатская диссертация.
– Вы издеваетесь надо мной.
– Да правда же!
Я ещё долго не могла поверить. Не верила и тогда, когда защитила дипломную работу. И очень удивилась, когда в июле пришла получать в главное здание диплом, и оказалось, что он с отличием. Я никак этого не ожидала, потому что всем было известно, что для того, чтобы было отличие, надо иметь три четверти пятерок, а у меня была ровно половина. К тому же, я во время учебы пересдавала не только историю языка, но и историю философии.
Помню чувство стыда, которое не покидало меня несколько дней после получения диплома. И позднее оно не раз возникало, когда я думала о том, как напряженно учились другие и как халтурила все пять лет я. Пожалуй, я поверила в реальность своего диплома только тогда, когда на кафедре, куда я случайно зашла, мне сказали, что мою дипломную работу послали в Москву на какой-то конкурс дипломов, о котором я никогда до этого не слыхала.
До сих пор не знаю, каким образом я получила свободный диплом. Ведь в своё время при распределении я подписала направление в Читинскую область. Правда, когда я подписывала, то сказала, что выйду замуж и уеду в Минск. Но мало ли кто что скажет, факт тот, что я подписала распределение.
И вот у меня на руках свободный диплом, и пока что я не знаю, что буду делать в недалёком будущем. Правда, в военкомате Калининского района лежало мое заявление с просьбой направить меня в качестве переводчика в ГДР. Но там мне твердо ничего не обещали.
Еще до получения диплома университет рекомендовал меня и мою подругу Светлану Угрюмову в «Интурист», на временную летнюю работу. «Интурист» не был тогда такой широкоразветвленной и многочисленной организацией, как теперь, он делал свои первые шаги и занимал всего несколько комнат в гостинице «Астория». Нас посадили в одной из них и дали написанную от руки экскурсию по городу. Два дня я учила эту экскурсию, а на третий день утром меня послали в гостиницу «Европейская», сказав, что я буду работать с финским художником. Пока я ехала, то с ужасом думала о том, что совершенно не знаю лексики, касающейся работы художника. В бюро обслуживания меня представили высокому, чуточку полноватому молодому человеку, которого звали Бёрье Аура, и высокому худощавому человеку по имени Владимир Николаевич. Как вскоре выяснилось, он был директором будущей выставки финской моды, а Аура Бёрье был её дизайнером. Владимир Николаевич сам неплохо говорил по-немецки и, когда я что-то не совсем верно перевела, в резкой форме поправил меня. У меня глаза налились слезами, я сказала, что вообще впервые в жизни перевожу. Он извинился за резкость и потом в первые дни помогал мне, пока я не освоилась и не стала переводить довольно бойко.
Начиналась выставка с нуля, с изготовления чертежей, с осмотра и обмеров вестибюлей ДК имени Ленсовета, где должна была проходить эта выставка. Работать было очень интересно. Каждое утро я просыпалась с радостным ожиданием: что нового принесет мне день? Я не чувствовала усталости, хотя спать приходилось мало, потому что мы каждый вечер сидели допоздна в ресторане «Европейской», втроём с Владимиром Николаевичем или только вдвоём с Бёрье. Говорил больше Бёрье, а я слушала его рассказы о работе в разных странах Европы, о том, что интересного он там видел. Больше всего он рассказывал о своём любимом Стокгольме, о шведах и о стокгольмских ресторанах. Я впервые в жизни была в ресторане и после короткого привыкания к салфеткам, сервировке очень быстро разочаровалась во всём – от сервировки до еды. Но особенно разочаровала меня публика. Я по наивности до сих пор думала, что в рестораны ходят небожители и небожительницы, все обязательно по-вечернему одетые и прекрасно воспитанные. Все оказалось гораздо проще. Зато Бёрье демонстрировал мне всю школу европейского воспитания. Он вставал каждый раз, когда я подходила к столу или выходила из-за него, отодвигал и подвигал стул, был само внимание и предупредительность. С первого раза мы с ним удивительно слаженно танцевали, и он говорил, чуточку растягивая слова, с придыханием:
– Du tanzst ja wahnsinnig gut, Natascha.
(Ты до сумасшествия хорошо танцуешь, Наташа.)
Это-то придыхание меня и доконало. Я с удовольствием следила за переменами в его лице: то серьезном, то, чаще всего, лукавом, со множеством симпатичных морщинок вокруг глаз. У него, как и у Толи, были ямочки на слегка удлиненном лице и хорошая улыбка. Я ловила себя на том, что образ Толи, который я носила в своей душе, тускнеет и куда-то улетучивается. А надо сказать, что ближе к весне моя переписка с ним как-то сама собой замерла, и в мыслях я не связывала больше своё будущее с Толей.
И вдруг в самый разгар моей ещё неопределенной влюбленности в Бёрье Толя объявился в Ленинграде. Он нашёл меня у Светланы, к которой я переехала из общежития. Он не знал прежде телефона Светланы и разыскал его каким-то кружным путем, через университет. В Ленинград он приехал совершенно случайно, его вызвали в качестве свидетеля на суд. Когда-то, в студенческие годы, Толя отломил ветку какого-то заповедного кедра. Его за это оштрафовали. Тот человек, который штрафовал, подделывал квитанции, брал штраф, скажем, в тридцать рублей, а квитанцию подчищал и переделывал в три рубля, разницу клал в карман и попался на этом.
Толя пробыл в Ленинграде три дня, что-то прежнее во мне всколыхнулось, и я дала своё согласие, когда он сделал мне официальное предложение. Я сказала, что выйду за него замуж при одном условии: с этого дня он бросает пить. Толя сказал:
– Разумеется. Иначе я бы не просил тебя стать моей женой. Я знаю, как ты переживаешь из-за отца. И ты знаешь мои взгляды на семью. Семья для меня – святыня.
Этот разговор происходил на Университетской набережной. Мы сидели на скамейке у Меншиковского дворца, был тихий, светлый вечер. Я чувствовала себя повзрослевшей и усмотрела некий символ в том, что наш разговор происходит в святая святых Ленинграда, против моего любимого Медного всадника.
Толя посоветовал мне бросить работу и уехать отдохнуть в Тамбов, а в сентябре, когда у него будет отпуск, мы съедемся в Ленинграде. Он уехал, а я позвонила в военкомат и сказала, что не могу ехать в ГДР. Мне ответили, что как раз в эти дни они получили подтверждение, что место переводчика свободно, сказали, чтобы я ещё подумала, место было хорошее, в одной из наших частей под Потсдамом.
Между тем, работа на выставке была в самом разгаре. Стенды изготовлялись в театрально-постановочном комбинате, мы часто туда ездили, там были очень толковые инженеры и рабочие, и Бёрье с похвалой отзывался о плотниках, столярах и других рабочих. Когда изготовили и смонтировали стенды, приехали из Финляндии художники-оформители, привезли с собой экспонаты, и начались оформительские работы. Приехала со своими манекенщицами и владелица школы манекенщиц Табе Слиори. Это была высокая, черноволосая, ярко раскрашенная, экстравагантная женщина с изрядным налётом вульгарности. Перед её приездом художники с удовольствием сплетничали о её бурной жизни и об её длительном романе с престарелым губернатором Хельсинки, который приехал вслед за ней.
С манекенщицами работала моя однокурсница с финского отделения Кира Михайловская, которая позднее подалась в писатели и описала свою работу на выставке в повести «Красный гид», изменив имена и портретные характеристики.
Миссия Ауры на выставке была закончена, и он собрался уезжать. Последний вечер в «Европейской» мы провели в обществе Табе Слиори и её губернатора. Он рабски преданно смотрел на неё и смешно, не прикасаясь губами, целовал дамские ручки, когда приглашал танцевать.
Аура уезжал в Турку, где он жил, но ненадолго, он должен был приехать на открытие выставки через несколько дней. Утром мы с Владимиром Николаевичем проводили Ауру на вокзал, и оттуда я поехала в «Асторию» оформлять расчёт. Работы было немного, и меня отпустили без всяких задержек. Ехать в Тамбов так рано мне не хотелось. После напряжённой работы на выставке образовалась большая пустота, и я не знала, куда себя девать и чем заполнить массу свободного времени. В условленное время я позвонила своему куратору от КГБ Игорю Васильевичу, и мы с ним встретились на конспиративной квартире, как не раз уже встречались с тех пор, как я стала агентом КГБ. На мой взгляд, эти встречи носили совершенно пустой характер, кроме одной, которая произошла весной, ещё перед защитой диплома. Когда я в тот раз позвонила Игорю Васильевичу, он сказал мне, что со мною хочет встретиться его шеф, адмирал. У адмирала было лицо русского былинного богатыря, открытый взгляд, но глаза такие печальные, каких я до сих пор не видела. Я была так захвачена этим лицом и так доверилась ему, что неожиданно разоткровенничалась и даже за что-то обругала советскую власть. У него ни один мускул в лице не дрогнул, он выслушал, почти не перебивая, всё, что я ему наговорила, а потом начал расспрашивать меня, почему я не пошла в Консерваторию. Он сказал, что Игорь Васильевич встречался с Ольгой Васильевной Воскресенской, что она помнит меня и будет рада видеть меня своей студенткой, и ещё сказала, что гарантирует мне мировую славу. Я возразила, что уже несколько поздновато идти после университета в Консерваторию, что я последние годы не пела и не знаю, что у меня с голосом. Адмирал ответил, что Нежданова тоже поздно пошла учиться петь, сказал, что в Консерватории мне не надо будет сдавать некоторые из общеобразовательных предметов из тех, что были в университете, добавил, что комитет поможет мне во время учебы. Я категорически отказалась, сказала, что мировая слава меня абсолютно не трогает, а то обстоятельство, что меня все будут узнавать, будет мне только мешать, нельзя же жить всё время в свете юпитеров. Адмирал предложил подумать ещё неделю-другую. Он попрощался, а Игорь Васильевич остался. Я спросила у него, зачем адмиралу нужно, чтобы я пела. Игорь Васильевич ответил:
– Ситуация такая, что наши связи с Западом будут развиваться. Он хочет сделать из вас Мата Хари от вокала.
– Вон оно что… Мата Хари от вокала… Без меня меня женили… А почему он такой грустный?
– А он только недавно оттуда, – Игорь Васильевич показал пальцем за спину.
Я не поняла:
– Откуда оттуда?
– Из лагерей…
– Ааа… А за что его?
– За то, что других не хотел сажать без причин. Ленд-лизовские дела… Тогда многим шили связь с английской и американской разведкой. Ну и ему пришили, раз он другим отказывался шить.
Через неделю я позвонила Игорю Васильевичу и сказала, что хорошо подумала и в Консеваторию поступать не хочу. Больше мы к этой теме не возвращались. И вот теперь, в разгар лета, я пожаловалась ему, что мне скучно без дела.
– Хотите поработать на аукционе?
– Хочу.
– Позвоните завтра вот по этому телефону. Спросите Смирнова Владимира Кирилловича. Он мой приятель. Очень хороший человек.
* * *
У Владимира Кирилловича был ярко выраженный тип совиного лица, знакомый мне по Косте-алкоголику, с круглыми глазами и загнутым носом. Глаза у него были одновременно печальными и слегка насмешливыми. Он был такой худой, что скулы у него четко обозначились, а щёки провалились. Он был бригадиром на аукционе и назначил мне работать в бюро обслуживания, где, кроме меня, работали ещё две молодые женщины. Как я довольно скоро поняла, эта работа была привилегированной, потому что все остальные переводчицы подтаскивали своим пушникам лоты шкурок, которые издавали специфический и не всегда приятный запах. Лотом называется партия одинаковых по качеству и рисунку – если это каракуль – шкурок. Купец-пушник осматривал шкурки, делал себе соответствующие пометки, а потом, уже на самом аукционе, покупал или не покупал эти шкурки. Жаль, что я тогда не делала никаких записей, много интересного забылось. Мехов я нагляделась на всю жизнь. До аукциона мне не нравился каракуль, я и не знала, что черный каракуль может быть такой красивый. А был ещё белый, бежевый и голубой каракуль. А тончайшая, с муаровыми переливами каракульча! А баргузинский соболь! А первые партии цветной норки! А рыси! И всё это ошеломляющее богатство уходило из снежной России туда, где и без мехов было достаточно тепло, например, в Италию. Становилось обидно за наших женщин…
Многие пушники были выходцы из России, евреи или татары, для большинства из них русский был родным языком, другие же пушники, по три раза в год приезжавшие в Ленинград, более или менее сносно говорили на русском языке. Самой колоритной фигурой был Юрий Френкель из Швеции, он был необъятных размеров и всё время пересыпал свою речь одесскими прибаутками, хотя родился и вырос в Петербурге. Мрачновато шутил Ариович из США, сыпал блёстками остроумия обаятельный Страсбург из Англии, у которого в Ленинграде была постоянная подруга, актриса театра имени Ленинского Комсомола Маша Мелкова, очень женственная и кокетливая, нас познакомили в ресторане «Астории». Пушники по вечерам скучали и часто приглашали переводчиц в рестораны. Я сходила с одним, с другим и остановила свой выбор на Йоханне Шильхабле. Он покупал у нас ковры, клиентами у него были многие известные в Европе люди, и он интересно о них рассказывал. Мне нравилось, что он разбирался в ситуации, не объяснялся в любви с первого взгляда и не делал никаких намеков на то, что можно продолжать вечер у него в номере. В ресторане мы чаще всего объединялись с супругами Отто и Олли Вамбах из Австрии. Они были очень заметной парой, из тех противоположностей, что дополняют друг друга – спокойный, доброжелательный Отто и экстравагантная, импульсивная, молодящаяся Олли. Мы как-то особенно весело отпраздновали мой день рождения. До сих пор у меня «живы» швейцарские часики, подаренные Иоханном. А в конце аукциона меня ждал сюрприз: ко мне подошел Страсбург и с ним еще пара купцов. Страсбург сказал, что каждый год пушники выбирают «La Regina de la Sojuspuschnina»,[4]4
Королева Союзпушнины.
[Закрыть] и что в этом году они выбрали меня, в честь чего он вручил мне коробочку духов, на которой было написано: «Arpege», Lanvin. А мюнхенский пушник, забыла его фамилию, владелец лучшего в Мюнхене мехового магазина, подарил мне духи «Гардения» от Шанель за то, что я вела частично его каталог во время аукциона. Что такое французские духи, я поняла ещё раньше, ими благоухали жёны пушников.
* * *
Я ещё не закончила работу на аукционе, а Игорь Васильевич сказал, что мне предстоит поездка на фестиваль. Дело в том, что в Москву, в составе английской делегации, должен был приехать Артур Уотсон, о чём он мне написал и спрашивал, не смогу ли я приехать в Москву. Игорь Васильевич сказал, что почти нет сомнения в том, что Артур связан с Интеллидженс Сервис, поэтому чем больше мы о нём узнаем, тем лучше. Кто тогда не мечтал попасть в Москву? Я с радостью согласилась. Группу ленинградцев, с которой я ехала, разместили в какой-то из московских школ. Но там я провела всего одну ночь. Московский куратор Николай Николаевич, которому я позвонила, предложил мне поселиться в квартире на улице Горького, напротив памятника Юрию Долгорукому. Квартира была просторная, трехкомнатная, хозяева были на даче, и она была в моём распоряжении на всё время фестиваля, из чего я заключила, что Артур действительно связан с английской разведкой и средств на него не жалеют. Николай Николаевич сказал, что он уже познакомился с Артуром, и они условились с ним о дальнейшей встрече. Он дал мне телефон гостиницы, в которой размещалась английская делегация, я позвонила туда утром следующего дня, и довольно быстро мне разыскали Артура. Мы договорились с ним о встрече у памятника Пушкину. Николай Николаевич сказал, что у него нет пока конкретного задания для меня, пусть всё идет естественным ходом, просто интересна реакция Артура на всех людей, с которыми он встречается, любопытно всё, чем он интересуется.
Я действительно была рада встрече с Артуром, привезла ему из Ленингада какие-то сувениры. Мы встретились, но со стороны Артура я особой радости не заметила. Он был весь какой-то настороженный, дерганный, и первое, о чём он меня стал расспрашивать, это как я разыскала его телефон. На этот счет у меня была отработанная благовидная и убедительная версия, и он стал успокаиваться. Мы много ходили, разговаривали, пообедали где-то, где Артур был прикреплен питаться, а вечером пошли на какой-то концерт. Следующую встречу Артур назначил через два дня, у него были билеты на фильм «Высота», который ему очень хотелось посмотреть, потому что он слыхал, что в этом фильме отразились новые тенденции в культурной политике СССР. Николай Николаевич обеспечил меня на эти дни билетами на разные концерты. На одном из них танцевала изумительная пара из Африки, мне помнится, их имена были Апсита Фраде и Сиссоку, она была значительно старше партнера, а он был молодой бог, и от их танца просто исходили флюиды африканской магии.
На концерте ансамбля Игоря Моисеева моими соседями оказались два немца из Мюнхена. Мы разговорились, почувствовали симпатию друг к другу, долго бродили после концерта, и они дали мне свой телефон с тем, чтобы я позвонила им через день.
А за это время Николай Николаевич внедрил Артура в какую-то компанию с квартирой, и их интересовало, захочет ли Артур пригласить меня в эту компанию. Через час после окончания фильма «Высота» у них с Артуром была назначена встреча у памятника Пушкину. Я должна была провести Артура так, чтобы за несколько минут до их встречи мы повстречались с Николаем Николаевичем на той стороне улицы Горького, где здание Моссовета, там всегда не так много народа. И хотя я плохо знаю Москву, тем не менее, я сумела так рассчитать время по выходе из кинотеатра, что в назначенные минуты мы увидели друг друга, Артур видел двигающегося навстречу Николая Николаевича, но не сделал попытки остановиться и познакомить меня со своим русским другом. Мы прошли с Артуром еще вниз по улице, он сказал, что ему нужно идти на какое-то мероприятие, о дальнейшей встрече мы не уславливались, потому что у Артура была плотно расписанная программа, я сказала, что через несколько дней позвоню ему, на том мы и расстались, чтобы больше не увидеться, я к этому не рвалась, и Николай Николаевич сказал, что больше не надо встречаться, они вокруг Артура создали плотное кольцо.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































