Текст книги "Рядом с тобой"
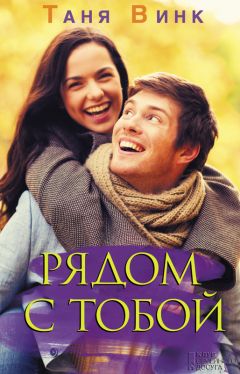
Автор книги: Таня Винк
Жанр: Современные любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Мы купили корову, двух поросят и десять курочек, папа привез сено. Наши мальчишки спрашивают, когда ты приедешь. Я не знаю, что им сказать.
Я не могу передать привет Юре, он куда-то уехал. Куда – не сказал, мы все волнуемся. Мама заболела, она сейчас в Минске, в больнице, папа с ней, мы с Никитой одни на хозяйстве. Каждый день приходит Марковна, очень помогает. Обои мы уже везде поклеили, осталось покрасить лестницу на чердак и потолок на веранде. Спасибо большое тебе, твоему уважаемому папе, маме и строителям за помощь, дом очень уютный и теплый…
У нас сейчас плохая погода, каждый день дожди, в хате холодно…
…Жду ответа. Навсегда твой друг Галя Гармаш. 16 сентября 1975 года.
Жаль, что не могу передать привет твоим родителям».
Последнюю фразу Галя приписала из вежливости.
Письмо получилось на четыре страницы. Закончив, Галя несколько раз перечитала его, и оно показалось ей каким-то казенным – не о том, о чем ей хотелось. Почему так получается – хочешь сказать одно, а пишешь совсем о другом? Она посмотрела на часы – половина второго. Вздохнула, сложила тетрадные листы вдвое, на клочке бумаги написала адрес и легла спать.
Спала она тревожно, все время вздрагивала, и если бы кто увидел ее, то удивился бы – сколько эмоций отражалось на лице девочки: радость сменялась тревогой, надежда – отчаянием, счастье – безграничной печалью. Переворачиваясь с боку на бок, она вздыхала и бормотала что-то невнятное, только ей известное – так она входила в новую пору жизни, еще ничего о ней не зная. Но ее маленькое сердце, уже наделенное женской интуицией, чувствовало беспощадность надвигающихся дней.
В половине седьмого Галя проводила гостя на вокзал, пожелала счастливого пути и пошла в больницу, к Марковне.
– Папа звонил? – спросила она.
– Нет еще. – Марковна раскладывала таблетки на белых бумажных прямоугольничках.
– Когда позвонит, скажите, что я получила письмо от Салмана. Скажите, что все хорошо.
– Обязательно. – Марковна подмигнула и снова принялась за таблетки.
Марковна пришла вечером. Галя пила чай, положив письмо от Салмана поверх учебника обществоведения.
– Проходите, – Галка вскочила с табуретки, – я только чай заварила.
Марковна привалилась к дверному косяку и уставилась на Галю неподвижным взглядом.
– Галочка, девочка моя… – Она сползла по косяку на табурет.
Слушая Марковну, Галя не почувствовала, как описалась. Марковна прошлась по дому, закрыла зеркала и осталась ночевать.
В школу она не пошла – не смогла встать, ноги не слушались. Папа приехал днем на грузовике. Вместе с мамой. Мама лежала в кузове в гробу. Набежали соседи, занесли маму в дом. Пахло свечками, старухи сидели возле гроба и молчали. Свечки трещали. Ночью приехала тетя Наташа, упала на колени, целовала маму и плакала. Папа не плакал и ничего не ел.
Маму отнесли на кладбище, потом были поминки. Тетя Наташа легла в спальне родителей, а папа ушел в баньку. Утром понесли маме завтрак, а потом пошли домой, но папа не пошел, сел в автобус и уехал на работу. Тетка пожила еще два дня и уехала.
Все было очень странно. Странно то, что жизнь продолжалась – приходило утро, а потом вечер. Они ели за тем же столом, из тех же тарелок, разговаривали, смотрели телевизор. Кот сидел на своем прежнем месте, лампочки светили так же ярко, и по двору бегали куры. Папа ходил на работу, Галя – в школу. К ним приходили люди, только мама не приходила. И Юрка не приходил. Их вещи висели в прихожей, обувь стояла под вешалкой.
Так бы и текла жизнь, но вдруг заболела Марковна – что-то с печенью. Что такое больная печень, Галя узнала в детстве, после того как, не отходя от прилавка продуктового магазина, выклянчила у мамы кусочек докторской колбасы. То ли колбаса была причиной, то ли еще что, но на следующий день Галя попала в больницу.
– Твоя печень увеличена, – сказал врач, показывая, где печень должна быть и где она сейчас.
Когда врач ушел, Галя стала на голову, чтобы печень стала на место, и увидела Юрку, входящего в палату. Его печень тоже была увеличена. Теперь они вдвоем становились на голову, но это не помогло – уколы все равно делали…
С утра Галя бежала в школу, потом к Марковне, хоть та и говорила, что не надо приходить, что у нее все есть, но Галя все равно приходила – рядом с Марковной она забывала, что жизнь изменилась. В доме Марковны она чувствовала себя дома, а новый, наполненный запахами краски, обойного клея и новой мебелью, так и не стал ее домом. Больная и пожелтевшая Марковна суетилась вокруг Галки, кормила, гладила по голове. Называла «моя девочка». Это хорошо, а то тетка Наташа сказала «моя сиротинушка». Какая ж она сиротинушка, если у нее есть папа?
– Ты не ссорься с теткой, – сказала Марковна, – она живет в большом городе, у нее большие связи, она много чего может. Тебе еще учиться надо.
– Я сама поступлю, – отрезала Галя.
– Это понятно, но лучше, когда есть связи.
– Не нужны мне никакие связи, я сама все могу!
В доме Гармашей повисла звонкая тишина. Такая же тишина обволакивала Галю, когда она шла по улице: никто ее не окликал, не дразнил, а только здоровались. Одна радость – письма Салмана: «…Галочка, я даже думать не могу о том, что твоя мама умерла. Если б я мог быть рядом с тобой! Если б я мог забрать твое горе!..»
Папа вдруг запил. Галя знала, что сразу после войны, после парада Победы, папа долго пил, хоть и не совсем еще вылечился после ранения. Тогда все пили от радости, что в живых остались, пропивали все заработанное, а папа за войну получил много денег. В одном ресторане он познакомился с Клавдией Шульженко, и она так хорошо говорила о Харькове, своем родном городе, что он вдруг решил туда поехать. Тем более что там был военный аэродром, летное училище. А куда еще податься комиссованному военному летчику? Много позже, увидев Шульженко по телевизору, папа сказал, что с возрастом она становится все симпатичнее.
Теперь папа пил с горя. Не с утра, конечно, а после работы. Оставался допоздна в цеху и домой приходил «на бровях». Вернее, не домой, а в баньку. Он поселился там сразу после похорон – и остался. Галя просила его ночевать дома, но он только опускал голову:
– Доченька, я громко храплю, особенно когда выпью, а тебе надо высыпаться. Не сердись.
Галя не сердилась.
– Мне бы только знать, что с Юрочкой, – говорил папа и трезвый, и пьяный. – Неизвестность – это так тяжко. Что ж это такое – войны нет, а дите пропало, – и смотрел так жалостливо, что у Гали сердце останавливалось.
Галочка не узнавала себя в зеркале – оттуда на нее смотрела худенькая девочка с остекленевшими глазами. Она дышала, ходила, ела, училась, но ничего не чувствовала. Она перестала смеяться, гулять, забросила книги. Ей нужна мама, ей страшно без мамы. Как дальше жить? Как?! И еще в память врезалось, как мама лежала в гробу, а селяне стояли вокруг и волновались, что водки и самогона мало.
Она не могла поверить, что мама оставила ее навсегда. Каждый день она бережно перелистывала томик Цвейга, касалась страничек, сохранивших тепло ее рук, с замирающим сердцем вглядывалась в строчки, тысячи раз отразившиеся в глазах мамы, а потом бежала на кладбище, читала на фанерке черные буквы «Гармаш Вера Федоровна» и… И все равно не могла поверить. Мама уехала, скоро вернется, могила чужая, мамы в ней нет, твердила она, возвращаясь домой. Приходил новый день, и Галя снова открывала книгу. Сколько она себя помнила, томик рассказов Цвейга лежал на тумбочке возле маминой кровати. Иногда там временно поселялись Бальзак, Мопассан, Диккенс и другие книжки, принесенные из библиотеки, но Цвейг никогда никуда не исчезал – мама читала его на ночь. Если мама уходила в лес, иногда на три, а то и четыре дня, особенно весной, Галя хватала Цвейга, и ей казалось, что мама рядом. Она погружалась в мир взрослых, в любовь, предательство, преданность, ненависть, и незаметно для себя потихоньку взрослела. Мама возвращалась из леса, приносила «от зайчика» ягоды, грибы и кисленькие зеленые шишечки, а от жены лесника пахучий домашний хлеб в глубоких разломах с хрустящими краями, и тогда взрослость покидала Галку, уступая место сказочным мечтам, в которых зайчик просит маму передать ей все эти вкусности. Удивительно, но вера в зайчика жила в Галке очень долго и умерла вместе с мамой, оставив Галю наедине с книгой. Умерла не за один день – Галя долго сопротивлялась, как когда-то сопротивлялась принятию неизбежности смерти, пониманию, что она уже не девочка, а девушка, что все чаще «не хочу» пасует перед «надо», и Галка с горечью обнаружила, что в жизни нет места сказке. А есть место тому, о чем написал Цвейг.
Она не могла поверить, что у нее больше никогда не будет дома, такого, как в Молдавии. Он был чужим, но они так долго в нем жили! Он был чудесным, и она очень любила его, свою кроватку, куст пионов под окном. Любила скрип дверей, буфет, раскрашенный под дерево, – его папа сделал. Этот буфет был волшебным – огромный и скрипучий, он вмещал в себя множество запахов, от пасхальных куличей и банок с вареньем до семейного фотоальбома и горчичников. В верхней части стояли чайный и кофейный сервизы, мамины духи «Красная Москва», шесть тоненьких хрустальных рюмочек, пузырек ацидина-пепсина – без этого лекарства пища в папином желудке не переваривается – и картонная шкатулка с удостоверениями к папиным орденам, старыми письмами и красивыми облигациями государственного займа.
Галя была совсем маленькой, когда вся семья поехала в гости в деревню. А там, в этой деревне, не было электричества. С наступлением темноты Галя просила «оттушить» свет, а Юра – включить, и хозяева зажгли две керосиновые лампы, по одной на каждую комнату. Галка боялась керосиновой лампы – однажды дома она схватила ее за стекло, и вся ладонь сразу покрылась волдырями. Ох, и испугались они с Юркой! В их доме, в Бендерах, тоже свет выключался, но ненадолго, а тут вообще его нет. Как же в кромешной тьме спустить ноги с кровати? А если кто укусит? Галя намотала на руку бретельку маминой рубашки, чтоб мама не ушла к папе, как только она заснет, и успокоилась. А Юрка полночи плакал, и на следующий день родители повезли их домой. Выйдя из автобуса, Галка с Юркой наперегонки помчались к дому. Папа открыл дверь, и они бросились к своим кроваткам с радостными криками: «Мой дом! Моя кроватка! Моя подушка!» Они целовали металлические спинки кроватей, обнимали подушки и катались по коврику. Выплеснув радость, дети не сговариваясь вернулись в прихожую, открыли нижние дверцы буфета и сели на пол. Они вдыхали запахи родного дома, еще не зная, что это навсегда: где бы они ни были, услышав их, они со сжавшимся сердцем вспомнят родной дом и счастливое детство…
На сороковины пришло много людей. Постояли возле маминой могилы и пошли к Гармашам домой. Галя шла сзади и вдруг услышала, как мама зовет ее. Услышала отчетливо, возле самого уха, крикнула:
– Папа, мама живая! Она зовет меня, – и со всех ног пустилась обратно.
Люди посмотрели ей вслед, вздохнули: «Бедная девочка», – и двинулись дальше: их же ждали водка и закуска! Петя поручил гостей Марковне, а сам побежал за дочкой. Он нашел ее разгребающей землю руками. Она плакала от счастья и кричала:
– Мамочка, родненькая, подожди! Я сейчас!
В ее глазах плясал болезненный огонек. Петя опустился на колени и, пристально глядя в глаза дочери, тихонько произнес:
– Галочка, идем домой, мама к нам уже никогда не вернется.
Она перестала разгребать землю, медленно встала на ноги и взяла отца за руку. Постояла еще минутку, горестно вздохнула и подняла на него печальные и виноватые глаза:
– Прости, папочка, я не хотела тебя обидеть.
Когда они уже подходили к дому, она споткнулась.
– Что с тобой? – с тревогой спросил Петя.
Лицо Гали пылало. Он приложил ладонь к ее лбу:
– Да у тебя температура!
На крыльце стояли несколько человек и курили.
– Давай ее ко мне, – предложила Марковна.
Они уложили Галю на диван, сунули под мышку термометр – а там тридцать девять и восемь, и ни кашля тебе, ни хрипов, ничего.
– Доча, что у тебя болит?
– Хочу спать, – прошептала Галя, свернулась калачиком и уснула.
Домой Петя не пошел, но его отсутствие принявший на грудь народ не заметил. Галя проспала до пяти утра, а утром температура спала, осталась только страшная слабость, такая, что даже чашку держать не могла. Ее одежда была мокрой от пота. Петя сбегал домой, принес сухую одежду, Марковна переодела Галочку, и Петя отвел ее домой. Он хотел ее покормить, но она отказалась, легла на диван и уснула. Петя убирал со столов, мыл посуду и время от времени подходил к спящей дочке, прислушиваясь к ее дыханию.
Ночью Галя намочила постель. Ее ужасу не было предела – ее трусило, онемели пальцы рук. Папа обнял ее и прошептал, что такое со многими случается, и с ним такое было, мол, ничего страшного – она немножко приболела и скоро выздоровеет. На следующую ночь все повторилось. От страха намочить постель Галя перестала спать. Утром она валилась с ног, болела голова, ныло все тело. На уроках она клевала носом, но не спала – а вдруг описается у всех на глазах?! Если она погружалась в сон, ей казалось, что она в уборной, и еще секунда… Галка вскакивала как ошпаренная и дико озиралась. Дети смеялись. Вскоре на нее стало страшно смотреть. И когда она в конце концов не смогла утром встать с постели, Петя испугался не на шутку. Он не знал, что делать, и сказать никому не мог, даже Марковне. Марковна баба хорошая, но кто знает, не понесет ли она новость по поселку, а им тут жить…
И вот в одну из тревожных ночей приснился ему сон: он идет по дороге, усыпанной снегом, а навстречу ему идет Верочка в изумрудном крепдешиновом платье. Он так обрадовался, что она жива! Он рвется к ней и не может – ноги проваливаются в снег выше колен. Он зовет ее, а крика своего не слышит. И вдруг Верочка сама идет к нему, едва касаясь туфельками снежной корочки. Она протягивает к нему руки, и какая-то сила выталкивает его из снега.
– Любимая, я так скучаю по тебе… – Он обнимает ее.
Мороз, а Верочка такая теплая, такая родная.
– Нам плохо без тебя. – Он смотрит в изумрудные глаза.
Верочка улыбается и снимает с шеи крестик, старенький, на веревочке.
– Ты никогда не носила крестик, – говорит Петя.
– Это твой, ты просто забыл, – она протягивает крестик Пете, – отдай его Галочке.
Он берет крестик и… просыпается.
Он выскользнул из-под одеяла и, стараясь не скрипеть половицами, пробрался в кухню, к ящику с инструментами, стоящему под столом. Вместе с молотками, плоскогубцами, отвертками, диском для заточки ножей и пучками гвоздей, завернутыми в обрывки газеты, лежал маленький сверток из промасленной бумаги, перетянутый резинкой.
…Это случилось под Будапештом, за два дня до последнего боя, в марте сорок пятого. В жутких лохмотьях, сквозь которые было видно тощее грязное тельце, в огромных ботинках, обвязанных тряпками, прямо на него бежала девочка. За ней гналась толпа пьяных русских солдат. Вдруг метрах в пятидесяти обвалилась стена. Он выхватил девочку из пыли и побежал. Рыща глазами в поисках убежища, он приседал, прижимался к стенам, прыгал по развалинам, но ребенка не отпускал. Под ногами хрустели стекла, поднимались клубы пыли, пищали крысы. Что-то ослепило его – это было зеркало. Петя кубарем вкатился в оконный проем и присел на корточки. Они оказались в большой комнате, заваленной разбитой мебелью. Девочка закричала и попыталась вырваться. Он зажал ей рот ладонью, и она укусила, но не до крови – Петя вырвал руку.
– Замолчи! – приказал он шепотом на немецком языке.
Он уже понял, что в Венгрии многие знали этот язык. Она не послушалась и снова крикнула, а может, не поняла. Пришлось ударить по щеке, несильно, но истерика прекратилась. Петя отпустил ее и выглянул в окно – за ними никто не гнался. Сел на пол, достал из кармана шоколадку и протянул девочке. Не сводя глаз с шоколадки, она не шевелилась, а потом робко приблизилась, выхватила шоколадку из рук Пети, прыжками достигнув угла, вжалась в него спиной и зубами разорвала обертку. Глядя на него затравленным взглядом, она запихивала сладость в рот, и по ее подбородку текла коричневая слюна, оставляя кривую борозду. Петя расстегнул ремень. Девочка перестала жевать, затараторила на венгерском и, тихо скуля, упала на колени. Она не плакала, только скулила.
– Не бойся, я дам тебе свитер, тебе холодно.
Она перестала скулить, но страх из ее глаз не исчез. Петя быстро снял куртку и выдернул из штанов гимнастерку. Под гимнастеркой у него был свитер из шерстяного трикотажа – такие свитера летчики получили по ленд-лизу. Он снял свитер и протянул девочке:
– Это тебе.
Она отрицательно мотнула головой.
– Надевай. – Петя положил свитер на гору из кирпичей и сам начал одеваться. – Как тебя зовут? – спросил он, застегивая куртку.
Девочка не ответила. Быстро натянув свитер, она закатывала рукава и бросала на него пугливые взгляды.
– Ты знаешь немецкий?
Молчание.
– Где твоя мама?
Девочка оставила рукава в покое и опустила голову.
– Где твой отец?
Ее плечи напряглись.
– Где ты живешь?
Она втянула голову в плечи и смотрела на Петю исподлобья. В ее взгляде было больше испуга, нежели враждебности.
– Послушай, я не сделаю тебе ничего плохого, просто хочу отвести домой. Где ты живешь? – спросил он, понимая, что вопрос звучит глупо – жить в развалинах нельзя, в них можно только прятаться.
Она расширила глаза и еще больше стала похожа на насмерть испуганного зверька. Петя осмотрелся – ее нужно оставить здесь до темноты. Сейчас город кишит пьяными солдатами, жаждущими мести, которым все равно – венгерка она или немка, ребенок или нет, она – враг. Петя один не сможет ее защитить, еще и пулю получит.
– Здесь было ателье мод, – по-немецки сказала девочка через несколько минут и показала на большую раму с застрявшими в ней осколками зеркала.
Петя улыбнулся и, осторожно ступая, прошелся по помещению. Он вытаскивал из-под камней и щепок то, что могло послужить одеждой, но ничего не мог найти – все было изорвано в клочья. Более-менее целое, конечно, давно унесли. Он еще порыскал и нашел крошечное помещение с выбитой дверью, похожее на кладовку.
– Я ходила сюда с мамой, – сказала девочка, – здесь было красиво. Маму немцы увезли, а папа сейчас на войне.
– С кем ты живешь?
– Я живу с дедушкой. Ты отведешь меня к дедушке? Это близко. Я боюсь сама.
– Да, отведу, когда стемнеет. Сейчас опасно.
– Да, опасно. Как тебя зовут?
– Петя. А тебя?
– Илона.
– Вот что, Илона, я приду, когда стемнеет.
– Я буду ждать. – Она закивала, и на ее губах появилась доверчивая улыбка.
Они вместе стаскивали рванье, чтобы соорудить подобие спального места, и вдруг девочка радостно вскрикнула и показала Пете маленький огарок свечи. Глаза девочки светились такой радостью, что Петя решил принести ей свечи – он выпросит у интенданта. Соорудив место, он усадил ее и дал флягу с водой. Она с жадностью сделала несколько глотков – осторожно, не пролив ни капли.
– Я вернусь. – Он закрыл дверной проем сломанным шкафом, вокруг набросал кирпичей, присыпал штукатуркой и ушел…
Она его дождалась. Выйдя из здания, Илона взяла Петю за руку и потащила в темноту, освещенную слабым светом луны. Она шла легко и быстро, казалось, тоненькие ножки в огромных ботинках едва касаются земли, а Петя все время спотыкался. Они пересекли полностью разрушенный квартал, минули почти не тронутый двор и вошли в огромную дыру в кирпичной стене двухэтажного дома.
– Сюда. – Девочка потянула Петю вниз по ступенькам и, когда лестница закончилась, откинула большую тряпку.
Петю обдало подвальным холодом. На него повеяло ужасом, когда в мерцающем свете двух лучин он увидел несколько десятков огромных испуганных глаз и разноголосое «Ах!» всколыхнуло спертый воздух. Девочка что-то сказала, и все успокоились. К ней подбежал старик, стал обнимать, целовать, они тараторили на венгерском, и Петя ничего не понял. Они умолкли и посмотрели на Петю, уже привыкшего к слабому свету и с болью вглядывавшегося в серые изможденные лица. Девочка взяла старика за руку и подвела к Пете.
– Мой дедушка, – сказала она, – Михай.
– Петя. Вы говорите по-русски? – спросил Гармаш.
– Нет, только по-немецки.
– Не разрешайте Илоне выходить, – сказал Петя, – это опасно.
– Да, конечно! – старик часто закивал.
Петя вытащил из вещмешка три буханки серого хлеба и пять американских шоколадок. Все глаза уставились на его руки. Он положил хлеб и шоколад на большой круглый стол и вынул пять свечей. Илона схватила свечи, прижала к груди и, глядя на дедушку, взволнованно затараторила на своем языке.
– Она будет за вас молиться… – сказал старик. – Подождите, – и он нырнул в темноту.
Вернувшись, он протянул Пете тряпочку:
– Пусть Бог хранит вас.
– Спасибо, ничего не надо, у меня все есть.
– Этого у вас нет. Возьмите.
Петя развернул тряпку – в ней был крестик, маленький и очень старый, на темной веревочке. Креста у Пети действительно не было.
– Мне это не нужно, я…
Петя хотел добавить, что он коммунист, но передумал. Старик коснулся холодными пальцами его кисти:
– Бог нужен всем.
Петя завернул крестик в тряпочку и спрятал в нагрудный карман гимнастерки, рядом с партбилетом.
– Спасибо.
Старик что-то сказал, и девочка начала стягивать с себя свитер. Петя протестующе вскинул руку:
– Он твой.
Гармаш окинул взглядом людей:
– Прощайте.
– Прощайте, – сказала девочка и перекрестила Петю, – пусть Бог хранит вас.
Петя хотел сказать, что в Бога не верит, но снова передумал. Несколько человек проводили его до выхода туда, где раньше была улица, тихо бормоча: «Спасибо». Они еще долго смотрели ему вслед. Он не оборачивался, но чувствовал их взгляды.
…Через два дня крестик спас ему жизнь, так Абу сказал. Петя возразил, что его спасло окно дворца. Позже он наконец разобрал, что за буквы выгравированы на обратной стороне крестика: B. C.
Галочка спала точно как мама – на боку и, как мама, натянув одеяло на ухо. Недолго думая, Петя положил крестик поверх одеяла и опустился на колени. Он молился, вернее, разговаривал с Богом, пока сон не сморил его. Незаметно он уснул, положив голову на край кровати. Разбудила его Галочка. Она вздрогнула, села и, как обычно, испуганно зашарила руками по простыне.
– Сухо… Фух, – она облегченно вздохнула. – Папа, ты тут спал?
Петя тряхнул головой:
– Ага.
Она улыбнулась.
– Тут где-то крестик… – Он показал пальцем на одеяло.
– Какой еще крестик? – Галя принялась распрямлять одеяло, и крестик соскользнул на ковер.
– Вот он. – Петя поднял его и положил на Галкину ладошку.
– Какой старый. – Галя прищурилась. – Откуда он у тебя?
– Мне его одна девочка подарила.
– Какая девочка?
– Я расскажу тебе, только ты никому… Хорошо?
И он рассказала про Илону и про сон. Слушая его, Галя прижала крестик к груди и заплакала.
– Я куплю тебе золотую цепочку.
– Не надо, я не люблю золото, лучше серебряную.
– Не любишь золото? – Он опустил голову. – Твоя мама тоже не любила.
После обеда он отпросился с работы и пошел к Сурэну. Домой он вернулся с тоненькой серебряной цепочкой:
– Носи, только чтоб крестик никто не видел, а то заклюют.
– Я буду надевать его на ночь.
– Правильно.
– Папа, а что это написано – В. С.?
– Не знаю, доченька, наверное, это чьи-то имя и фамилия.
Больше Галка ни разу не намочила постель.
Вечером Петя вернулся в баньку. Здесь он мог себе позволить все – плакать, выть, звать Верочку, просить Бога вернуть Юрку. Он не знал, что иногда сюда пробиралась дочка и долго смотрела на его впалые щеки, на зубы в стакане и мечтала о том, чтобы все стало как было. Чтобы он перестал пить, мамочка запела свою любимую «Ты ж мене пидманула, ты ж мене пидвела-а!», чтоб Юрка обзывал ее дурой набитой. Пусть обзывает, лишь бы рядом был. Пусть даже дерется, хоть Юрка никогда ее пальцем не тронул.
Петя вообще мало что знал о том, чем жила дочь после того, как Верочка закрыла глаза, – он жил тем, что было до того. И конечно, пил. Небо и все вокруг стало серым, приглушенным, звуки доходили до него как сквозь толщу воды. Просветление наступало редко – Петя будто выныривал из мутной заводи. Длилось это несколько часов, на рассвете. Он не хотел просветления, не хотел пробуждения памяти – просто организм не выдерживал и просил передышки. Бил озноб, зуб на зуб не попадал. Он похмелялся и шел на работу. Сутки ничего не ел, только огуречный рассол пил. Марковна сердилась, но он не мог есть. Видеть тоже никого не хотел, но Галочка-то рядом, рядом ее бледное личико и печальные глаза. А Юрка?
Это ж его мальчик. Его сын. Пусть не кровный, но сын.
…Июнь шестидесятого, они уже почти год живут в селе под Ровно. Обязанность Верочки как лесничей – проверять кормушки с солью. В четвертой кормушке, в глубине леса, она обнаружила крошечного, сморщенного, истощенного младенца, который уже не плакал. Петя на всю жизнь запомнил, как Верочка встретила его на пороге – сияющая, рыжие пряди прилипли к щекам, в чистеньком пестром халатике.
– Тише, тише! – прижимает палец к губам и манит в спальню.
А там на подушке – ребенок. Рядом бутылочка с молоком, на ней соска. О том, что ребенка себе оставят, решили сразу – Верочка уже три раза беременела, но больше двенадцати недель не носила, потому что у них кровь несовместимая. Чтобы все было по закону, Юрочку пришлось отдать в родильный дом. Правда, там предупредили, что он слабенький, легкие плохие, вряд ли выживет, мол, езжайте в дом ребенка, там выберете получше. Но лучше им не нужно было. Из роддома Юрочку перевели в дом ребенка, а уж потом передали Гармашам.
Верочка забеременела и через год благополучно родила Галю. Кровь, что ли, вдруг стала совместимой или их сердца успокоились? Лето заканчивалось, и тут, только Вера въехала в лес на телеге, как к ней бросилась женщина: «У тебя мой сын, дай хоть разок взглянуть!» Вера ей: «Не понимаю, о чем вы!» Но та не сдавалась и несколько дней подряд подстерегала Веру. Гармаши расспросили селян, что за странная женщина ходит в лесу, не опасна ли? Оказалось, ее многие знают, она из соседнего села, баба гулящая, вроде родила от женатого конюха-цыгана и ребенка отдала какой-то родственнице.
Гармаши собрались и уехали. Куда – никому не сказали.
Уехали они в Молдавию, под Кишинев. Хороший край, щедрый солнцем, весельем, людской открытостью и вином. Каждую субботу с друзьями ездят на базар и, пока Верочка занимается покупками, Петя пробует вино. Продавцов на базаре много, и к концу ряда мужчины успевают так напробоваться, что на ногах не стоят. Недолго, правда, – вино легкое, через час выветривается. Все хорошо, уже подумывают о том, чтобы остаться тут навсегда, но вдруг встречают на базаре знакомую из села, что под Ровно. И вскоре к ним наведывается санитарка – постаревшая, но по-прежнему настырная, – они уехали в Бендеры с надеждой, что уж здесь она их не достанет. Но она их и там достала – пришлось уехать далеко, в Беларусь.
В начале ноября выпал снег. Подперев щеки кулачками, Галя сидела у окна и любовалась снежинками – рожденная летом, она почему-то больше всего любила зиму. Она усмехнулась, вспомнив, как мама – она тоже родилась летом – говорила:
– Люблю в мороз сидеть дома на горячей печке.
И смеялась… А как она пела! Ее «Ты ж мене пидманула, ты ж мене пидвела-а!» подхватывали сидящие за столом, и неслась песня над улицами, речкой, лесом, вызывая улыбку даже у самых хмурых стариков.
– Ты ж мене пидманула, ты ж мене пидвела-а… – затянула Галя и увидела Костика в цигейковой шапке, приближавшегося к калитке.
Он вошел и снял шапку; лицо его не предвещало ничего хорошего. Галя выскочила на веранду.
– Романович дома? – спросил Костик, хмурясь и вытирая ноги о циновку.
– Нет, он еще с работы не пришел. А что случилось? – с тревогой спросила Галя.
Костик смахнул с шапки снег:
– Я потом зайду.
Костик и еще двое мужчин привели папу поздно вечером. Папа не был пьяный, он просто не мог идти, и глаза у него были как у Толика, местного сумасшедшего, безобидного любителя цветов. Толик заходит во дворы, нюхает цветы, но никогда не срывает. Некоторые хозяева дают ему по цветочку, а он потом идет по улице и раздает всем, кого встретит. Дурачком он стал после того, как его сбил грузовик. Руки-ноги остались целы, только голову сильно ударило. Дети, которые с ним играли, от страха убежали домой, кто в сарае заперся, кто в уборной, кто под кровать залез, только один мальчик остался. Он взвалил Толика на спину и потащил в больницу. Интересно, что Толик запомнил номер этого грузовика – 25-15 МБВ. Он часто бормочет: «25-15 мэбэвэ, 25-15 мэбэвэ…»
Папу посадили на диван, и тут Галя увидела в его руках большую фотографию.
– Что это?
Она взяла фото и поднесла к глазам. На нем был Юркин ремень с пряжкой, она сразу узнала.
– А зачем Юркин ремень сфотографировали? – спросила она, чувствуя, как в желудке становится холодно.
Никто не ответил. Костик и мужчины напряглись.
– Костик, почему тут Юркин ремень? А где Юрка?
Папа качнулся из стороны в сторону:
– Доча… доча… а-а-а…
И он завыл. Завыл страшно, не по-человечески.
– Юрочки нету… Нету больше Юрочки-и-и… – И вцепился руками в волосы.
Галя посмотрела на Костика:
– Что папа говорит?
Костик отвернулся.
Шепча: «Это неправда, неправда», – Галя пятилась, пока не уперлась спиной в подоконник. Это вернуло ее в реальность, но она не хотела принимать ее. Галя размахнулась и ударила кулаком по окну. Белая гардина стала красной. Галя с изумлением смотрела на кисть – сбоку торчало стекло, но больно почему-то не было. Она вынула стекло и куда-то провалилась, а там – корова. На шее коровы висит Юркин ремень, пряжка покачивается и звенит, как колокольчик. Галка схватила пряжку окровавленной рукой, и вдруг корова исчезла, оставив ее в кромешной темноте…
Петю разбудил стук в дверь.
– Кто? – Он включил настольную лампу.
Снова стук. На будильнике половина первого.
– Кто?
– Это я, – услышал он голос Нины.
Петя вставил зубы:
– Чего тебе?
Голова раскалывалась.
– Открой, дело есть!
Он натянул поверх кальсон брюки, сунул ноги в тапки и, пригнувшись, чтоб не удариться головой о низкий потолок баньки, пошел к двери.
– Ты чего? – спросил он, осторожно выпуская из рук большущий крючок. Но крючок все равно ударился о косяк и звякнул.
Она выставила перед собой корзинку, накрытую полотенцем:
– Ты голодный?
– Ночь на дворе.
– Ну и что?
Петя вздохнул:
– Ладно, проходи.
Нина скинула тапки, сняла пальто, платок и осталась босиком в одной ночнушке.
– Ты что, вот так шла?
– Ну да, встала и пошла. – Она ловко вынула из корзинки нарезанный хлеб, несколько картофелин в мундире, сало, колбасу, чеснок, соленые огурцы, две чарки и поллитровку самогона.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































