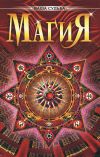Текст книги "Сила Слова в Древней Ирландии. Магия друидов"
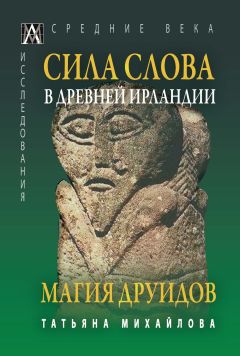
Автор книги: Татьяна Михайлова
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Свинцовые таблички не всегда однозначно имели целью нанесение вреда. Известен интересный свинцовый амулет-табличка, описанный Л. Раденковичем. Он был найден в Сербии после Первой мировой войны и датируется XIII в. Написанный по старославянски (как он пишет – «в сербской транскрипции»), он представляет собой заговор-оберег против дьявола и просит у святых помощи Георигию Братуле. (см. [Radenković 1997]). Сам факт написания имени уже не жертвы, но того, кто должен быть огражден от бед, нам кажется важным, т. к. делает этот текст и этот объект – магическим. Но, конечно – не только это. И употребление свинца, и перечисление частей тела, и упоминание святых – все это, пусть с иной прагматикой, но несомненно воссоздает уже архаический, устоявшийся шаблон «заговорного» текста[16]16
Интересно, однако, что для столь поздней традиции не происходит замены 3-го лица на 1-е, то есть автор текста и заинтересованное лицо еще не слиты, как это происходит в заговорах более поздних. Ср. в данной связи интересные работы [Ганина 2008] и [Сквайрс 2008]. Так, в первой работе анализируются средневековые немецкие кольца с практически однотипными формульными надписями «да отречется от меня Христос», которые автор считает своего рода клятвой («…если я нарушу свою клятву»). Второе исследование посвящено анализу своеобразных амулетов: пергаментных полос с нанесенным на них оградительным текстом, которые средневековые немецкие проститутки повязывали вокруг тела. Основная «прагматика» амулета носила характер оградительный, причем текст также в качестве субъектного имени содержал местоимение Я («…отврати эту напасть, пустулы, называемые французской болезнью, и не дай мне, грешнице, стать запятнанной»). Предположительно, кольца с клятвами могли как изготовляться на заказ, так и покупаться, причем скорее второе, о чем и говорит расплывчатость формулы в целом. Оградительные пергаменты, скорее всего, использовались многократно и передавались подругами. Таким образом, собственно реализация текста происходила именно в момент их активного использования. В данном случае магический текст, нанесенный на амулет, не представляет собой лишь письменную фиксацию текста, который по определению должен быть только устным (см. об этом, например, [Roper 2003: 11]), но является самостоятельным и самоценным объектом.
[Закрыть].
Более того, как полагает Дон Скемер, автор исследования, посвященного средневековым амулетам, самим фактом своего существования в виде сложным образом устроенных артефактов, уже содержащих и имя божества, и (потенциально) имя жертвы или, напротив, заказчика, свинцовые таблички просто не могли не превратиться в амулеты, имеющие уже оградительный характер. «Таблички с проклятиями, – пишет он, – были распространены на всех социальных уровнях и автоматически порождали защитные амулеты, которые делались на тех же свинцовых табличках» [Skemer 2006: 27].
«Заговор это всегда коммуникативный акт, в котором, как предполагается, исполнитель месседжа имеет сверхъественного реципиента», – пишет Х. Иломаки, анализируя трансформацию понятия «Я» в традиционных финских заговорах (см. [Ilomäki 2004: 53]). И, как можно было бы предположить из всех предшествующих рассуждений, этим супернатуральным адресатом как раз и является божество (языческое) или христианский Бог и святые – если мы имеем дело с так называемым феноменом «народного христианства». Но на самом деле, как оказывается, сказанное справедливо лишь отчасти, причем, как я понимаю, характерно не для всех типов культуры с точки зрения конфессиональной. Для римлянина местные божества были где-то тут же, и обращение к ним труда не составляло и далеко не всегда требовало обращения к посвященному «профессионалу». Иное дело колдуны-финны. Я – в финском заговоре неожиданно оказывается не заменой субъектного имени (то есть – заинтересованным лицом), но, напротив, – заменой как на уровне плана выражения, так и в плане содержания – фонового имени. Иными словами, финский колдун взывает не только и не столько к местным божествам, сколько – к самому себе как носителю магического знания. Текст заговора при этом оказывается своего рода катализатором, эту магическую энергию активирующим. И поразительным образом нечто подобное встретится и в традиции кельтской (как в ирландской – «Гимн Аморгена», так и валлийской – «Песнь Талиесина»).
Почему для ирландской традиции неожиданно важными оказываются свинцовые таблички с проклятиями и их дальнейшая судьба в средневековой европейской традиции? Во-первых, они были широко распространены и в римской Британии, и таким образом Древняя Ирландия могла быть с ними знакома. Но в самой Ирландии подобных находок нет. Во-вторых – именно таблички с проклятиями считаются источниками как уже собственно ирландских заговоров, так и специфически ирландского жанра (хотя и не ирландского по своему происхождению – лорик, оградительных молитв заговорного характера). Кроме того, таблички с проклятиями представляют собой очевидные, реальные артефакты, которые совершенно бесспорно существовали в период поздней Античности. Сопоставление с этими «реальными» объектами может помочь нам в описании феноменов, существование которых часто оказывается более чем сомнительным.
И наконец, таблички с проклятиями дают возможность описания структурной модели инвокации: обращение к божеству, имя жертвы, пожелания. Считая данную модель базовой, мы увидим, что в ряде случаев синкопированным может оказаться каждый из трех ее элементов, что не лишает «магического» статуса текст в целом. Но, забегая вперед, отмечу, что сходство в данном случае дает выявить и отличие: несмотря на раннее распространение монастырской культуры, текст-оберег все же в первую очередь воспринимался и предполагался как устный, который надо было заучивать и повторять ежедневно. Хотя, конечно, своего рода амулеты существовали и в Ирландии.
Продолжая рассуждать о словесной магии, следует также обратить внимание и на то, что дошедшие до нас свидетельства ее применения и функционирования в Ирландии, как правило относятся к текстам «второго порядка», то есть фиксируются, по определению О. Бернд-Христиана, «аутсайдерами» по отношению к традиции как таковой, тогда как тексты «первого порядка», т. е. записанные собственно «инсайдерами» (как, например, в случае тех же табличек с проклятиями), до нас практически не дошли (см. [Bernd-Christian 2019: 38]). Исключения есть, но они скорее редки (если не считать монастырской традиции оградительных молитв). Действительно, включения собственно заговорных по своей природе текстов в ирландские средневековые нарративы встречаются не часто. Как пишет, например, компилятор «Книги Фермой» (XV в.) в тексте переписываемой им саги «Воспитание в домах двух чаш»:
¬ dogebfa sen ¬ soladh od’ caraid cumachtaidh cuigi sin do dhenamh,’ ¬ isbert an laidh, ¬ ligfamaid torainn an laidh ann so [Duncan 1932: 190] – …Друг твой научит тебя заговору и чарам, чтобы исполнить это. Так сказал он и спел песнь, которую мы не станем упоминать[17]17
В издании М. Доббс в данном случае дается примечание: «что говорит о наличии более древнего оригинала» [Dobbs 1929–30:230]. Видимо, так, хотя и не обязательно. О формуле и о самом заклинании из саги – см. далее.
[Закрыть].
Однако в данном случае оппозиция аутсайдеры – инсайдеры оказывается осложненной тем, что в традиции ирландской мы в первую очередь будем иметь дело с воспроизведением некой реальности, которая представала как вымышленная уже, как кажется, в глазах самих носителей данной традиции. Причем относится это не только к рассказам о заселении острова разными племенами и об использовании словесной магии в сражениях между ними, но и к повестям о поэтах и святых клириках, которые проклинали обидевших их королей. Но почему бы тогда не привести текст заговора, который всего лишь цитата из «сказочки»? На всякий случай? А вдруг подействует?
Мы можем предположить, что каким-то таинственным (действительно – таинственным!) образом в ряде, если не сказать – в большинстве случаев в том, что касается механизмов «работы» заговора, то действенная составляющая оказывается заключенной не столько в самом тексте, который, естественно, передаваясь из уст в уста, с течением времени должен был бы предстать как полная абракадабра, сколько в структуре заговорного текста. К такому выводу, например, приходит Б. Мердох в работе «Почему же они все-таки действовали?!», посвященной анализу знаменитых Мерзебургских заклинаний (см. [Murdoch 1988]). А в том, что они, скорее всего, реально могли приносить пользу, автор не сомневается. Действительно, чем иначе можно было бы объяснить сохранность текстов, с одной стороны, и распространенность представленной во втором заклинании как собственно структуры (отсылка к прецедентному эпизоду с обязательным упоминанием прецедентных имен и персонажей, затем – описание «недостачи», затем – формула с параллельным уподоблением ситуаций), так и формулы «жила к жиле, кость к кости»[18]18
О распространении формулы и, в частности, ее употреблении в славянских заговорах – см., например [Агапкина 2002], а также другие работы этого же автора. В свое время текст Мерзебургского заклинания в оригинале и в предположительной фонетической реконструкции был применен русским германистом С.: дочь С. упала с дерева и сломала ногу. Врачи (все происходило в Ницце, Франция) сказали С., что девочка поправится, но на всю жизнь останется хромой. Сидя у постели дочери, С. трижды произнесла текст заклинания. В результате – нога быстро срослась, и в дальнейшем никаких последствий падения не было.
[Закрыть]. Приведем этот текст в переводе Т. В. Топоровой, максимально приближенном к оригиналу:
Фоль и Водан ехали к лесу.
Тогда у кобылы Бальдра была вывихнута нога.
Тогда заклинала ее Синтгунт, Сунна ее сестра,
Тогда заклинала ее Фрейа, Фолла ее сестра.
Тогда заклинал ее Водан так хорошо, как он умел,
и от вывиха кости, и от вывиха крови, и от вывиха сустава:
кость к кости, кровь к крови,
сустав к суставу да приклеятся
[Топорова 1996: 129].
Согласно предположению Б. Мердоха, с которым в целом нельзя не согласиться, распространенности и стойкости заговоров данного типа способствовали два фактора. Во-первых, он несомненно применялся не столько по отношению к вывихнутым конским ногам, сколько – гораздо более широко, по отношению к любым ортопедическим нарушениям, причем не только домашних животных, но и людей. Вторым фактором он считает то, что заговор, в котором так ясно просматриваются «фоновые» языческие имена, был устроен таким образом, что мог легко заменять их на христианские, тем самым не только меняя ориентацию, но и, предположительно, попадая в совершенно иную область функционирования – так называемую сферу «народного христианства». В книге Эйлин Пауэр «Люди Средневековья» изображен некто Бодо, крестьянин французский X в., который в качестве основных лечебных средств прибегает к травам, а еще более – к заговорам, а затем – и к местным колдунам, постепенно все более впадая в зону языческих суеверий (см. [Power 1951: 22–24]). Так, по ее мнению, распространялись, в частности, и лечебные заговоры, подобные процитированному выше, которые, как я сама уже продолжаю ее идею, наследовали и передавали, повторяю, собственно структуру, но не сами слова, которые должны были быть пользователю понятны[19]19
О предположительных путях заимствования Мерзебургского заклинания из Германии в Центральную и Восточную Европу, а затем – в страны Балтии (причем с переводом на автохтонные языки) – см., например, в работе [Roper 2009]. Известная формула «жила к жиле» была и в реестре заговорных практик Ирландии, ср. описание ее применения в саге «Битва при Маг Туиред», где она странным образом предстает как нечто чуждое и даже враждебное исконной ирландской традиции (см. в пер. С. Шкунаева – [Предания и мифы… 1991: 36]). Естественно, сюжет в дальнейшем требует отдельного изучения. См. также в [Carey 2019], где автор с поразительно тонкой наивностью дилетанта отмечает феномен так называемой historiola: для того, чтобы заговор подействовал, надо вначале рассказать историю того, как он был создан, применен и оказался эффективным. Более глубокий анализ эпизода см. в известной книге К. Уоткинса «Как убить дракона» [Watkins 1995].
[Закрыть]. Однако, как справедливо отмечает Мердох, эти антицерковные действия на определенном этапе не воспринимались как нечто заслуживающее порицания, поскольку не содержали ни обращений к Сатане, ни каких бы то ни было дурных пожеланий. И, как полагает он далее, сменив «фоновые имена» на имена христианских святых, этот же заговор могли применять и клирики, тем более что и дошел он до нас в рукописном виде, т. е. был зафиксирован в монастырской среде. Безусловно, он прав[20]20
Чему есть множество примеров, в которых действующим прецедентным персонажем выступает Христос, едущий на осле: осел падает, Христос же немедленно излечивает его, произнеся: кость к кости, жила к жиле, сустав к суставу и так далее. То есть делает то, от чего Евангельский Христос постоянно остерегал.
[Закрыть], однако его работа скорее представляет собой аргументированный ответ на вопрос: почему заклинания, подобные Мерзебургским, так широко распространялись в разных районах. С некоторой осторожностью он добавляет к своим рассуждениям еще один аргумент: они были так широко распространены, потому что они, скорее всего, действовали. Но почему?! И как?! На этот вопрос он прямого ответа не дает и даже сомневается в том, что он может быть задан, по крайней мере, в такой форме. «Мы исходим из посылки, что носители заговора считали его действенным», – пишет он, далее свою мысль не развивая. Так почему же они все-таки действовали или, по крайнем мере, считались действующими?
Вернемся к определению заговора Н. И. Толстым (о котором мы все, наверное, уже и забыли – «Заговор, как правило, не просто фольклорный текст, но и определенное действие определенного деятеля с определенными предметами»). Выше мы фрагментарно иллюстрировали его положения о необходимости сочетания: текста, действия и предмета. Определение Толстого содержит также намек на четвертый элемент заговора – «определенного деятеля», т. е. фигуру профессионального изготовителя и исполнителя заговора (в принципе, в ряде случаев она может быть нивелирована и сливаться с заказчиком). Совершенно очевидно, что данная фигура выступает в роли медиатора между пользователем заговорной традиции и какими-то иными силами. Для действенности заговорного текста и шире – магического действия необходимо участие лица, являющегося носителем знания, хотя, как мы понимаем, на самом деле знание это является условным. Почему условным? Потому что текст заговора (понимая текст в самом широком смысле как совокупность знаковых действий вербального и невербального характера), который данное сакральное лицо передает другому сакральному лицу или исполняет для непосвященного, всегда – и постоянно обновляется и редактируется. Это ясно хотя бы из чисто лингвистического взгляда на текст заговора, который в противном случае представлял бы собой абракадабру (отчасти, кстати, так и бывает). В качестве иллюстрации данной идеи вспомним уже приведенный выше эпизод с Кухулином, который пишет огамом на деревянном кольце некий текст, несомненно – заговорного характера:
Кухулин направился к лесу и одним ударом срубил молодое деревце дуба у самого основания. Стоя на одной ноге и прикрыв один глаз, связал он его одной рукой в кольцо и, начертав письмена на огаме, водрузил на острый верх камня в Ард Куиллен [Михайлова, Шкунаев 1985: 137].
Уладский герой, который был знаменит своими воинскими подвигами, но не магическими знаниями, в данном случае временно, тем не менее уподобляется магу, который черпает знание из Иного мира и для этого как бы исчезает частично из мира этого, оставаясь в нем лишь наполовину. Ср. аналогичная ритуальная поза Кальб[21]21
Ведьмы? Местной богини? Или просто – сведущей женщины?
[Закрыть] в саге «Разрушение Дома Да Дерга»:
На одном дыхании пропела она это, стоя на одной ноге у входа в дом [Предания и мифы 1991: 112].
То есть, говоря проще, «определенный деятель» в данном случае понятие необычайно широкое, так как им может оказываться и лицо, которое имеет занятие магией в качестве основного профессионального, но также – лицо, к магии лишь отчасти приближенное и имеющее дар и знание в нужный момент переходить в лиминальное состояние, необходимое для успешности реализации вербальных и ритуальных действий[22]22
И вновь – отдельная тема изучения для традиции ирландской, описывающей особые экстатические состояния, в которые намеренно впадали поэты-филиды для осуществления своих предречений (так называемое imbas forosnai).
[Закрыть].
Но есть ли в заговорах «пятый элемент»? Мы полагаем – да, может быть, это то, что может быть названо «верой», причем не верой объекта заговора (часто тот, кого заговаривают или против кого совершается проклятие, не знает об этом), но некоей условной верой внутри субкультуры, в которой существуют участники заговорного процесса. В свое время я спросила известного специалиста по русскому фольклору Е. Левкиевскую: «Неужели в реальной действительности крестьянин, встретивший в лесу волка, мог надеяться на то, что слова “Волк, волк, где ты был, когда Христа распинали?” могут его спасти, а не предпочтет залезть на дерево?». Она ответила мне совершенно серьезно: «Вас они не спасут, да и меня тоже, но человека, который с детства твердо верит в действенность этих слов, они спасут, и волк повернется и убежит». И я ей поверила и запомнила ее ответ.
Аналогичным образом человек поздней Античности, живший в мире «свинцовых табличек», верил в их действенность. И если, например, вор, укравший ожерелье в раздевалке терм при храме Сулис-Минервы в Британии, на следующий день начинал почему-то плохо себя чувствовать, он невольно приписывал это началу воздействия заклинания, которое, как мог он предположить, против него уже кто-то написал. И, может быть, действительно решал, что лучше вернуть украденное, пока еще хуже не стало.
Уже в начале XVII в. (!) лорд Маунтджой и сэр Джордж Кэрью наняли ирландского барда по имени Энгус О›Дали, получившего затем прозвище «Красный бард» (bardruadh), чтобы тот исполнил песни насмешки против глав ирландских кланов, которые оказывают сопротивление английской короне. Энгус принял это предложение и отправился в путешествие по Ирландии: он поочередно прибывал к домам ирландской знати и пел коллективные поношения против всего рода. И никто не мог противостоять ему, пока слуга главы рода Магиров, который, как пишет Дуглас Хайд, «будучи человеком темным, не знал, что личность поэта неприкосновенна», не кинулся на него и не перерезал ему горло [Hyde 1903: 277].
То есть, иными словами, сейчас на нас свинцовые таблички подействовать не могут, но русский любовный заговор – может, но зато он не подействует, например, на современного жителя Океании. И поэтому, может быть, действенным оказывалось чтение стихов «Жди меня» и зарывание в землю фотографии нового русского его оставленной женой (вспомним об исполнении немецкими солдатами в качестве оберега песни «Лили Марлен»).
Резюмируя наши затянувшиеся вводные рассуждения, мы в качестве предположения можем сформулировать следующее определение заговора или шире – магического текста: это традиционное действие, предполагающее наличие либо текста, либо обряда, либо предмета, либо деятеля-медиатора (либо нескольких из этих элементов в комбинации), исполняемое при наличии условия «каузативной синкопы» и осмысляемое как магическое. И поэтому, возможно, собственно молитва под это определение не попадет.
Глава 2
К попытке реконструкции общекельтского заговорного «кода», или Семантическая реконструкция древнеирландского bricht как опыт контекстуального анализа
После всех долгих вводных рассуждений, результатом которых, как можно суммировать, явился общий вывод о принципиальной невозможности дать точное определение самому базовому понятию «заговор», можно все же попытаться реконструировать некое общее понятие, которое обладает такой же размытой семантикой и которое фиксируется и в древнеирландской традиции, и в традиции, может быть, и континентальной, то есть – в галльских диалектах. Конечно, так рассуждая, я не совсем честна ни с собой, ни с моей возможной аудиторией. Во-первых, говоря о невозможности дать определение заговора, я отчасти лукавлю: напротив, я прихожу к выводу, что данное Н. И. Толстым определение («определенный текст, определенные действия, определенные обстоятельства, определенный деятель») при всей его емкости необычайно точно передает идею заговора, причем не столько как текста, сколько как многоканального акта, включающего в себя как собственно вербальные (как устные, так и письменные), так и невербальные, но конвенционально знаковые элементы. Кроме того, как пыталась я показать выше, для реализации данного акта необходимо присутствие либо «специалиста», либо субъекта, наделенного хотя бы временной нерационализуемой силой (эмоции и проч.). Ясно при этом, что само понятие «заговор» предстает как нечто совершенно условное и применяемое не только к традиции русских суеверий (где, кстати, в узком смысле оно имеет синонимы), но и к иным традициям, например – к античным табличкам с проклятиями. И все же нельзя забывать о том, что в основе самой лексемы «заговор» все-таки лежит глагол, описывающий речевое действие, иными словами, все-таки именно текстовая составляющая в данном случае оказывается наиболее важной.
Какой же, предположительно, аналог данному понятию может быть реконструирован для общекельтского? Наверное, с одной стороны, говорить о реконструкции какой бы то ни было общей основы мы не можем, поскольку лексема, кодирующая «магический акт», по самой природе своей не должна быть стойкой, так как обозначает все-таки не совсем ясный для носителей языка денотат, природа которого с течением времени к тому же может меняться. Подобно тому, как меняются с течением времени и сами тексты заговоров, как бы подлаживаясь под диалектное и чисто языковое диахроническое развитие и стремясь быть понятными носителям. Так они обеспечивают себе выживание. Точнее, так им обеспечивают выживание носители и пользователи соответствующей архаической традиции. Но можно предположить, исходя из общей теории «рекурсивных семантических переходов», что одна и та же базовая лексема в родственных (и даже – не родственных) языках может по мере оформления традиции соответствующих суеверий развить указанное комплексное значение – «магический акт, сопровождающийся исполнением текста, либо – предполагающий исполнение конвенциального ритуала». И, как кажется, на кельтском уровне такую лексему, точнее – ее когнаты в языках-потомках вычленить можно.
В одном из ранних ирландских поэтических оградительных текстов, относящихся к жанру «Лорика» (Lorica, букв. ‘броня’) и датируемых VIII в., поэт[23]23
Данный текст традиционно называется «Лорикой святого Патрика», иначе – «Криком оленя».
[Закрыть], перечисляя злые силы, от которых он хочет себя защитить, называет, в частности:
Tocuiriur etrum indiu inna uili nert-so /…/
fri brichtu ban ocus gobann ocus druad,
fri cech fiss arachuille corp ocus anmain duini [Carey 1998: 133] —
Ограждаю я себя ныне всей этой силой /…/
против заклинаний женщин и кузнецов и друидов,
против любого знания, которое может повредить телу
и душе человека.
Авторство этого текста, несмотря на более позднюю датировку, приписывается самому святому Патрику (V в.)[24]24
Конечно, данные языка делают предположение об авторстве абсурдным, однако, как ни странно, оно не столь уж фантастично. Можно осторожно высказать идею, что во времена самого Патрика, т. е. в период ранней христианизации Ирландии был действительно создан некий текст оградительного характера, однако написан он был, точнее – сохранившиеся его фрагменты на латинском языке и имел в качестве прецедентного памятника собрание псалмов. А позднее он был переложен уже на древнеирландский, развит и дополнен. Тема лорик, их происхождения и распространения в Ирландии, а также функционирования псалмов в качестве магических оградительных текстов, естественно, заслуживает отдельного специального анализа. Русский перевод «Лорики Патрика» – см. [Михайлова 2008].
[Закрыть], который был известен последовательной борьбой с реликтами языческих верований. Поэтому важно, что в списке лиц, которые, по его мнению, могут подозреваться в умении исполнять вредоносные заклинания, стоят не только жрецы-друиды и кузнецы (сакральная фигура практически всюду[25]25
О магии кузнецов, точнее – о попытке ее реконструкции см. в недавно вышедшей работе [Carey 2019].
[Закрыть]), но и просто – женщины, и таким образом, стратификация профессиональная смыкается с половой (то есть – определенные деятели!).
Не обращаясь в данном случае к более детальному анализу трех указанных анонимным клириком категорий носителей архаической, магической и безусловно вредоносной силы, отметим сам употребленный им термин – brichtu (acc. pl.) «заклинания», перевод которого, естественно, неточен и более чем условен. Сами представители монастырской культуры, будучи, конечно, в первую очередь христианами и видящие одно из своих предназначений в борьбе с языческим верованиями, принимающими форму народных суеверий, были тем не менее не чужды и словесной магии. Но это была магия, так сказать, христианизованная, на одном конце которой располагалось просто исполнение в качестве магических оградительных текстов псалмов, упоминаний имени Господа, использование крестного знамения в качестве оградительного символа. Затем – исполнения в определенное время суток неких латинских или уже ирландских текстов, возникших в ирландской же монастырской среде. А затем уже – хранение и распространение несомненно магических текстов, упоминающих местных языческих божеств, но текстов, обрамленных псевдохристианским окладом[26]26
См., например, об этом в статье [Кэри 2008].
[Закрыть]. Как пишет об этом Ж. Борч в большом исследовании, посвященном разным формам магии и антимагии, распространенным в монастырской среде ранней Ирландии: «Святые используют различные формы словесной магии; Патрик призывает Господа, проклинает, поет псалмы, благословляет и молится. Колумба поет псалом, взывает к Христу, молится и благословляет. Наши источники, звучащие христианскими голосами, умалчивают о том, к каким средствам прибегали их противники – друиды или люди, желающие совершить зло в самом широком смысле, поэтому о реальных магических текстах дохристанской или нехристианской Ирландии мы можем только гадать. Если мы соберем вместе все термины, которыми обозначались магические словесные действия, мы будем потрясены их количеством. Многие из них могут быть переведены просто как ‘магия, заклинание, заговор, заклятие’, но, как можно предположить, само разнообразие терминологии предполагает и разнообразие стоящих за ней реалий. Но точные значения многих понятий утрачены навсегда. Этот процесс, предположительно, начался с установления христианства в Ирландии, когда лица, которые должны были как-то фиксировать местную традицию, избегали подробностей, касающихся словесной магии, как из страха, так и от отвращения. Все эти действия назывались обобщенно – magia; ars magica» [Borsje 2015: 18].
В примечании к этому фрагменту автор дает длинный список лексем, семантика которых действительно не всегда понятна и среди которых, как мы можем предположить, пересекались как родовые, так и видовые термины: aidmilled, airbedruad, amainse, ammaitecht, bluga, bricht, cerdcumainn, cerd ngenntlichtae, comal, corrguinecht, cumachtae, díchetal, doilbe, dolbaid, druídecht, elada, éle, eólas, epaid, faisdinecht, féth, felmas [Borsje 2015: 42].
Список этот, как пишет сама Ж. Борч, далеко не полон: действительно, как мы можем увидеть, он обрывается на букве f, и его источником несомненно послужил электронный словарь ирландского языка (eDIL). Имеет он и лакуны: так, не упомянуто слово cétal ‘пение, распев’, которое в ряде контекстов употребляется именно для обозначения друидических заклинаний. Впрочем, автор и не претендовала на полноту описания, более того – именно размытость семантики указанных терминов, как пыталась она показать, и делала сам список принципиально открытым и не систематизированным. К тому же часть упомянутых ею терминов довольно экзотичны и употребляются редко: например bluga, которое встречается всего несколько раз, причем, как правило, в сочетании cen bricht ┐ cen bluga – «без заклинания и без…», видимо – со значением «без каких бы то ни было магических механизмов»[27]27
Возможно, в данном случае использовано характерное для древнеирландского нарратива формульное употребление однородных аллитерирующих синонимов, один из которых практически десемантизирован.
[Закрыть]. Другие, напротив, кроме «заклинательных» имеют и более широкие значения, например – cumachtae ‘власть, сила, могущество’ и ‘магическая сила’, или cerdd ‘искусство, ремесло’ и ‘магическое искусство’ (ср., например, аналогичное значение у русск. знать = ‘обладать магической силой, колдовскими умениями’[28]28
Обильные примеры данного семантического перехода см. в книге [Христофорова 2010], написанной в основном на материале суеверий При-камского региона. Так, в обыденном языке глагол знать имеет традиционное значение – «располагать сведениями о чем-либо», однако в контексте обсуждения проблем заклинаний, особенно – наведения порчи, приобретает значение специфическое: «обладать магическими знаниями и искусством». Ср. характерный диалог: «Вот, у коровы молоко пропало! – Да тебе, небось, сделали! – А кто мог? – Ну, может золовка твоя, она ведь зна-ат!».
[Закрыть]).
Следует признать, опираясь на широкий древнеирландский текстовый материал, что находящееся также в этом списке и употребленное автором «Лорики святого Патрика» слово bricht может быть отнесено к одному из наиболее частотных. Однако именно широта его употребления, с одной стороны, позволила автору «Лорики» употребить его именно как родовое понятие (более широкое), а не видовое: как можно предположить, некие магические действия, которые не только в языческой, но и раннехристианской Ирландии предпринимались женщинами, кузнецами и друидами для принесения зла людям, могли быть далеко не равнозначны в плане выражения и воплощались как в вербальной, так и в иной форме магии. Неравнозначными они были, скорее всего, и в плане содержания: если женские «колдовские действия», как бы широко ни были они распространены, все же относительно невинны, то языческая магия друидов как свергнутых жрецов проигравшего и враждебного христианству культа действительно на определенном историческом этапе могла составлять серьезную угрозу либо представляться таковой. Но, с другой стороны, эта же многозначность понятия bricht составляет несомненное затруднение как для собственно перевода, так и для теоретической оценки его семантики.
Может ли здесь какую-то помощь оказать этимология лексемы и ее сопоставление с данными других языков, как кельтских, так и относящихся к другим группам? Отчасти, возможно, может, но лишь отчасти[29]29
Ср., например, генетически тождественные русск. путь, греч. póntos ‘море’ и лат. pons, – tis ‘мост’, с предположительным исходным значением – «преодоление пространственной преграды», о чем подробнее см. [Benveniste 1954: 256–257]. Ср., однако, обозначение римского жреца – pontifex, сохраняющее архаическую семантику: не «строитель мостов», конечно, но «делатель путей», предположительно – определяющий будущее и даже его создающий. Надо признать, однако, что данная трактовка принимается далеко не всеми. Семантическая реконструкция римского жреца как «прокладывающего путь» оспорена в [Ernout-Meillet 1939: 788], где предлагается буквальное понимание семантики лексемы: понтифик изначально это лицо, которое является ответственным за мост через Тибр, соединяющий южную и северную части Италийского полуострова и собственно положивший начало основанию Города. См., также осмысление изначальной семантики имени римского жреца как «устанавливающего мост между богами и людьми» [Schrijver 1991: 372; DeVaan 2008: 480]. О древнеинд. параллелях см. [Бабаева 2006: 802–803], о «мосте между небом и землей» см. также [Топоров 1982: 176–177].
[Закрыть]. Тем не менее, как я полагаю, этимологизация в данном случае может послужить вскрытию глубинной семантики лексемы, проявляющейся в ее дальнейших деривациях. Анализируемый мною термин относится к так называемым «словам культуры», сохраняющим семантическую память в рамках более широкого поля и в силу этого отчасти – тождественным не осознаваемым носителями значениям, якобы языком утраченным.
Как принято считать, в древнеирландском слово bricht (n., m., – u-) означает ‘чары, заклинания, тайное знание’ и имеет единственную бриттскую параллель с той же семантикой в композите: ср. валл. lletuirith ‘чары’ (из leth ‘часть, половина, доля’ и – brith ‘заклинание’ [LEIA-B: 89]). Лексема восходит предположительно к протокельтской основе *brik-tu– ‘светлый, блестящий’ (< *bhṛgh-tu, от общекельтской вербальной основы *bhregh– ‘вы-носить, про-являть, по-казывать’, видимо – с фонотактическим оглушением исходного консонанта основы под влиянием суффикса t-, откуда также др. исл. bragr ‘поэзия’, Bragi – имя легендарного исландского бога поэзии и одновременно – первого поэта исландцев, а также готск. bairhts ‘ясный, светлый’ и англ. bright ‘то же’, и широко представленное в и.е. языках название березы как светлого дерева). Ср. также предположительно тождественный генетически др. ирл. глагол brigid ‘показывает’. В. П. Калыгин предлагал соотносить исходную семантику др. ирл. bricht с именем общекельтского женского божества Brigita/Brigantia, возводимом, однако, традиционно к и. е. *bherg’h– ‘высокий’[30]30
См. [Калыгин 1998; 2006: 44; Королев 1993]. Следует отметить, однако, разницу в суффиксальном образовании: – nt– в имени божества и – t– в слове brik-t– «заклинание».
[Закрыть] (см. IEW 140). В то же время предложенная Ж. Вандриесом деривация кажется более перспективной и соотносимой семантически с другими предполагаемыми когнатами и.-е. основы: «заклинание (поэзия) это то, что озаряет, освещает» [LIEA-B: 89]. Однако семантическая контаминация могла возникнуть еще на и.е. уровне: видным, заметным является одновременно сияющее и возвышенное.
Соотнесение образа богини поэзии Бригиты с исландским богом Браги отмечалось еще В. Стоуксом [Stokes 1868: 23] и сейчас для ирландистики считается общим местом. В Глоссарии Кормака, составленном в конце IX в., Бригита называется поэтессой, дочерью Дагды. Она – «богиня, которую почитают поэты, и всех богинь называют поэты ее именем» (см. [Meyer 1913: 15]). Сходным образом в «Младшей Эдде» Снорри Стурлусона говорится: «Есть ас по имени Браги. Он славится своею мудростью, а пуще того, даром слова и красноречием. Особенно искусен он в поэзии, и поэтому его именем называют поэзию и тех, кто превзошел красноречием всех прочих жен и мужей» (пер. О. А. Смирницкой [Младшая Эдда 2005: 29–30]).
В своем «Этимологическом прото-кельтском словаре» Р. Матасович предполагает, что значение ‘заклинание, заговор, магия’ реконструируемая форма *brixtu– могла получить уже на ОК уровне [Matasović 2009: 79], опираясь при этом на галльские лексико-семантические данные, действительно, поразительным образом близкие к древнеирландским.
Так, галльская лексема brixt- встречается несколько раз, причем действительно в магическом контексте, а точнее – на свинцовых табличках, которые в начале н. э. были заимствованы порабощенными галлами у их завоевателей римлян и использовались довольно широко. Языком табличек в Галлии, как и в Британии, была в основном крайне испорченная разговорная латынь, и лишь по субъектным именам собственным мы можем сделать вывод, что данный вид магии практиковался и среди местного населения. На территории центральной Галлии, где латинское письмо начало распространяться раньше, т. е. примерно уже в середине I в. до н. э., оно начало использоваться и для фиксации оригинальных текстов. В частности – тех же defixio, адресованных подземным богам. Как полагает П. И. Ламбер, в данных контекстах местное население отчасти добровольно, отчасти под давлением римлян отказывалось от культа локальных божеств и предпочитало адресовать свои просьбы и пожелания богам имперским (см. [Lambert 1994: 149]). Но в то же время, как он пишет, поскольку местом действия оставалась Галлия и проклинаемые лица также в основном были галлами, данные тексты были адресованы также одновременно и локальным божествам, и именно поэтому писались по-галльски (там же). Остается добавить к этому парадоксальное наблюдение над осмыслением квалификации божества в примитивной картине мира: локальные боги мыслились грамотными, но скорее владеющими галльским языком, а не латинским. Вопрос о том, как местные божества могли получить базовые знания о фонетическом наполнении символов латинского алфавита, видимо, как-то и не ставился. Это казалось самоочевидным.
Интересующая нас лексема встречается один раз в так называемой «табличке из Шамальера», найденной во время раскопок в небольшом городке Шамальер в центральной Франции 15 января 1971 г. Табличка имеет следующие размеры: примерно 6 на 4 см, толщина – 1 мм. Несмотря на небольшие размеры, на ней умещается текст из 12 строк, написанный только на одной стороне латинским курсивом (см. публикацию, фотографии и прориси в издании – RIG II, 2: 269–280). Общее содержание, во многом предположительно сводится к воззванию к местным божествам и также богу по имени Мапонос причинить некий вред перечисленным в табличке лицам, которые могут (или – уже смогли) свидетельствовать против заказчика текста в ходе судебного разбирательства. Для римской традиции ситуация достаточно банальная.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?