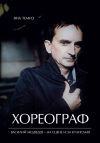Текст книги "Хореограф"

Автор книги: Татьяна Ставицкая
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
8
Нет занятия блаженней, чем сидеть на веранде лицом к закату, провожая солнце за кромку моря. Зимняя, обделенная солнцем Москва утомляла Залевского вечной сыростью, туманной монохромностью пейзажей и к марту вгоняла его в глухую тоску. До спазмов сосудов, до головной боли и тошноты ненавидел он это мартовское – «грачи прилетели». Черные птицы вернулись из райских мест и кричат: зачем мы здесь?! Как нас опять сюда занесло?! И от ужаса совершенной ошибки загаживают подтаявший снег под деревьями. Но до этого кошмара есть еще пара месяцев белой за городом зимы. А потом земля захлебнется половодьем околоплодных вод и в муках исторгнет из себя новую жизнь – листья, травы, злаки и цветы. Чтобы уже через несколько месяцев схоронить все это в белом саване и скорбеть до следующих родов. Какое насилие – эти ежегодные роды и похороны…
Ритмично били в барабаны на берегу – традиционная в здешних местах увертюра к закату. Такой насыщенный выдался год – с ума сойти от этого ритма! Еще недавно он был на подъеме. Из него перло и выплескивалось! С утра уходил в работу, как в запой. Не ждал, когда к нему с дарами пожалует муза. Музы, считал он, – выдумки ленивых бездарей. Приходил в репетиционный зал, видел свою труппу, молодые вдохновенные лица, молодые прекрасные тела, готовые подчиняться его воле, и это заводило его. Он нашел свой стиль, свою лексику, свой способ выражения чувств. И воплощал все это посредством тел и душ своих артистов. Он дарил им новые ощущения, но требовал сотворчества, желал, чтобы они удивляли его, чтобы можно было перетекать друг в друга эмоциями. Он взламывал их. Заставлял открываться. И каждый из них отчаянно жаждал его внимания, прикосновений его властных рук. Заполночь отключался, сраженный «усталости последним поцелуем», и видел сны – всегда выпуклые, цветные, волнующие иносказанием и незавершенностью сюжета. Просыпался с ощущением явленных ему откровений.
Страсти человеческие – главный корм искусства! Ах, эти податливые тела! Эти фейерверки эмоций! В нем бурлило плотское, не отягощенное чувствами. Но не в этот раз. Этот человек – нов и прекрасен. Его гладкость-уязвимость, проницаемость, без каркаса натруженных мышц… Солнечное затмение, его личное.
Хореограф вспомнил, как тогда в клубе напряженно вглядывался в лицо невероятного артиста, в естественную мимику, идущую не от осознания себя на сцене, а из глубокого погружения в собственные переживания, в свой яркий и возбуждающий эмоциональный опыт. Парень словно забыл, что стоит перед публикой. Эдакий неконтролируемый душевный стриптиз. Как это верно подмечено Симоной де Бовуар: нагота начинается с лица. Быть может, ему все-таки удастся подпитаться этим юношей, бросить его в топку своих страстей и своего творчества? А если вдруг все-таки случится страшное – Господь отнимет у него свои дары, он сможет нежиться в новых красках эмоций этого человека. Да, следовало признать, что он стал повторяться. И когда Залевский понял это, он испугался – ощущения пустой формы, гиблой полости. Неужели он иссяк?
Работа – его главный поршень. Он благодарен судьбе за то, что так востребован и почитаем, что столько ему привалило счастья – даже завидовать некому. Путешествия – отдых или гастроли – калейдоскоп впечатлений. Секс? Утоление жажды. Всплеск эмоций. Зарядка аккумулятора. Пусть где-то рядом. Не вплотную, не каждодневно. Чтобы не пресытиться. Чтобы не утратить новизну и трепетность прикосновений. Чтобы иметь личное пространство. Он легко получал желаемое и так же легко отпускал, стоило только желанию остыть. И вновь чувствовал жизнь, ее ликование и острый вкус. Никто не обижался. Впрочем, он не проверял. Просто терпеть не мог, когда за него цепляются, особенно буквально – держат за руку в самолете или прижимаются в другом людном месте. Он ощущал себя фигурой круглой, гармоничной, равно выпучившейся во все стороны, не оставляющей никому шанса комфортно встроиться в его жизнь. Он был доволен своей жизнью, которая благоухала и осыпала его дарами. Возможно ли отыскать в мире человека счастливее Марина Залевского? Иногда его посещала тревожная мысль: а не идиот ли он? Только идиот может быть так полно и окончательно счастлив. Быть может, все вокруг сговорились и играют в «великого хореографа» миру на потеху? Нет, конечно же, он не идиот. Он везунчик! Баловень Фортуны! Должно же хоть кому-то в этом мире везти? Просто ради статистики в теории вероятностей.
Временами эта бочка меда становилась столь приторной, что возникало непреодолимое желание добавить в нее перца и быть объятым внутренним жаром. Чтобы полыхало и корчило в невыразимой муке! Но не долго, а ровно столько, сколько потребно, чтобы завести его двигатель внутреннего сгорания. Буквально, искру.
Входить как нож в масло ему с некоторых пор наскучило. Он желал ощущать трение – до искр. Отсутствие сопротивления, противодействия среды действовало разлагающе, постепенно притупляло страсть, коварно, исподволь ослабляло защиту. И он опасался, что в таком состоянии однажды может пропустить роковой удар: например, потеряет финансирование и вместе с ним утратит свой театр. Или его в конце концов затопит скука. Другое дело – мальчишка: молодой, на азарте, на нервах работает. Ему нечего терять. А Залевскому все трудней заводить себя, добывать из себя огонь. Мысли, идеи есть, а желанный огонь едва тлел. Но над ним витал ореол неуязвимости. Его нельзя было убрать со столичной сцены, из эфиров центральных телеканалов. Потому что он еще не превратился в прижизненный памятник, не покрылся патиной. От него ждали – удивительного совместного полета в неведомое туманное, всегда граничащее с грешным, плотским – всего того, что они не смогли себе позволить в жизни. Творческого человека не забывают, пока от него чего-то ждут. И пока он в состоянии удивить.
Хореограф испытывал нетерпение и в то же время беспокойство. Он нервничал оттого, что ему предстояло остаться один на один с волновавшим его человеком. Что-то было в этом парне не прочитанное или неправильно понятое. В нем таилась какая-то ошибка. Или она существовала в самом условии задачи. Чем-то надо жить. Никогда еще его жизнь не была так ощутимо и мучительно пуста, как в тот момент. Залевский не надеялся. А теперь ему предстояло как-то это пережить. Включить какие-то внутренние тормоза, чтоб не разбиться об эту стену из огнеупорного кирпича – о доверчивое простодушие человека, который вольно или невольно искушал его. Из чего состоит теперь его картина мира? Из карамельного запаха вишневой жвачки, очерка чувственных губ, счастливых глаз, обращенных к нему. В нем по-прежнему звучит его голос, смех. Нет, жизнь его не пуста. Она уже не пуста. Она полна желаний, химер и миражей.
Он качался в старом кресле с резным изголовьем, пил прихваченный в duty free виски и смотрел на хрупкую фигурку на берегу. Мальчишка, кажется, собирался искупаться, но почему-то медлил. Возможно, тоже был впечатлен красотой заката. Залевский вспомнил, как тащил его на себе к берегу, и это была просто игра – двое мужчин баловались. Или парень был действительно напуган? Эпизод утреннего совместного купания и больше ничего. Но тело его помнило. И от нахлынувшего воспоминания, от молниеносно вспыхнувшего ощущения его рук на плечах и последующего «бонуса» Марина бросило в жар. И в этот момент парень обернулся, словно услышал зов, подхватил полотенце и зашагал к дому. Он шел размеренным шагом, спокойно и уверенно, как идут знакомым маршрутом, не озираясь по сторонам, не обращая внимания на окружавший его пестрый балаган, как будто выключил его для себя или выключился из него сам. Марин тоже умел так – выключаться из любого балагана, когда звучал внутренний призыв. Парень шел, как идут в одиночку, не отвлекаясь на сопровождающего, как идут именно домой. Думал ли он в тот момент, что его ждут?
Как странно… Хореограф держал в своих руках множество прекрасных тел. Каждая репетиция проходила в тесном контакте, в крутом замесе: он гнул тела артистов против физиологически возможного, закручивал и выворачивал, ощущая их своей собственной периферией – продолжением себя. А этот – вон какой, отдельный, не принадлежащий Залевскому. И те прикосновения – как сигнал, как маленький шажок навстречу. Ближе, еще ближе. Но… это раньше Марин был нетерпелив, несдержан, а теперь он про это уже кое-что знает. И не спешит. Пусть это будет медленный танец. Мужской. Пожалуй, он сделает попытку. Быть может, он даже спросит: ты позволишь мне любить тебя? И насладится его смущением и трепетом, растерянностью и замешательством. Он опустит глаза и вспыхнет застенчивым румянцем. Как-то так. Да. И еще раз: ты позволишь мне любить тебя? И смущение, и трепет, и румянец…
Сумерки не принесли прохлады. Воздух сгустился, обволакивал киселем, насыщенным ароматами сандалового дерева, моря и специй, миазмами скотного двора, вплывал вонью свежих экскрементов из зарослей папоротника, сладковато-тошнотворным запахом тления всего, почившего за этот день и разлагающегося в ожидании перерождения. Вот бы с каждым случалось то, во что он верит! Залевский затащил кресло в дом и включил кондиционер.
Юноша вошел, швырнул на спинку стула полотенце и рухнул навзничь на просторную тахту. Наверное, был под завязку сыт впечатлениями первого дня. Надо бы мальчишку покормить, подумал Залевский.
– Ты голоден?
Мальчишка молчал, глядя в потолок, и хореографу показалось, что в подступавших сумерках парень слышит музыку. На его белых, не успевших загореть, лодыжках Марин заметил песок, в раскрытой ладони – ракушку. Повинуясь внутреннему безотчетному порыву, приблизился к тахте и опустился на колени. Легкими движениями отряхивал он песок с босых ног мальчишки и чувствовал себя в этот момент библейским персонажем. «Возвращение блудного сына». Хореограф словно со стороны наблюдал за движением своих рук, видел себя стоящим на коленях перед распростертым юношей. Это могло быть выразительно, сценично. И вдруг заметил, что тело юноши до смешного точно вписалось в границы фаллоса, изображенного на покрывале. И в этом протоиероглифе было столько невыразимого совершенства и столько непристойности, сколько могло возникнуть только в самых смелых фантазиях хореографа. Что это, если не знак? И так ясно, так очевидно открылось ему: это то, чего он хочет больше всего. Он даже готов еженощно замаливать свои старые грехи, лишь бы дозволен, лишь бы дарован был ему этот.
Неожиданно мальчишка сел и посмотрел Залевскому в глаза. А в следующее мгновение обхватил его за шею и потянул на себя.
– Черт! Что ты делаешь… – задохнулся Марин и, утратив равновесие, повалился на него.
– Ты же этого хочешь… – не то сказал, не то спросил мальчишка.
– А ты… ты хочешь? – выдохнул хореограф и услышал в ответ:
– Я тебя люблю…
Или ему послышалось? И прозвучали какие-то другие – бесстыдные – слова?
Что ему со всем этим делать?! Обрушить на это юное тело лавину ласк, которыми он грезил? Никто лучше него не может ласкать так умело и сильно, доводя партнера до полуобморока. Уж он-то знал толк в настоящем, изысканном, разнообразном сексе! Но дело же не только в телесном. Он вдруг понял, что дорожит этим человеком – таким новым, незнакомым и чувственным. Сколько же накопилось в нем невысказанного, горячечного! Ему так долго удавалось маскировать свои истинные желания, держать в тугой узде свои вздыбленные чувства! Он был уверен, что удавалось. Но юноша не только все понял. Он помог Марину. Сам Залевский, возможно, так никогда и не решился бы. Или со временем перегорел.
Он приник к Марину всем телом.
– Ты – мой!
Неужели?.. Неужели этот человек такой ценой хочет «застолбить» его, привязать к себе? Его – взрослого состоявшегося мужчину, в котором, возможно, он мечтал видеть друга, покровителя и даже отца? Неужели он готов платить такую цену? Неужели он не понимает, что близость – это нечто, не подлежащее возврату? После близости между ними будут невозможны никакие другие отношения. И разве он не знает, что дружбу, как и любовь, дарят? Так чего он хочет на самом деле, этот божественный андрогин, готовый за любовь покупать дружбу?
– Не бойся, я хочу этого… – услышал Залевский ответ на свой, так и не прозвучавший, вопрос.
У него помутилось в голове. С другими это было чем-то иным: плотскими утехами, свободным сексом… Никто из них не выражал свои чувства словами. И никогда его не настигало в этот момент чувство ответственности за партнера, не накрывала теплая волна нежности и трепета до сердечного мления. Внутри у него все дрожало и полнилось благодарностью. Он будет терпелив и бережен. Он познает его тайну и кротость… Этот парень никогда не забудет его ласку – сладкую, сильную и изощренную, как сам Восток.
Он не ожидал такого самозабвенного порыва, таких наивно горячих ответных ласк! Схлестнулись телами, утратив контроль… Марину хотелось кричать. Но из груди вырывался только сиплый рык.
Залевский проснулся, сжимая в объятиях подушку. Прекрасный сон дотлевал в его сознании. Или это был не сон? Его тело помнило каждое прикосновение, каждое напряжение мышц, нежнейшую текстуру кожи под руками. Химеры и миражи. Его вдруг потрясло открытие: все, чего он так страстно желал, дано было ему, словно в насмешку, во сне. Явью оказалась пустая постель и брошенная ракушка. Ее бесстыдно-розовое атласное нутро сделалось зрелищем невыносимым и породило в нем тихий отчаянный стон.
Ощущая песок под босыми ногами, Марин отнес ракушку в свою сумку. Когда все закончится, она будет напоминать ему эти блаженные дни. Вечера. Ночи. Или сон на закате. Как это его так сморило?
Внезапно до него донесся смех. Так неуместно он ворвался в его переживания! Залевский вышел из спальни и увидел, что мальчишка курит, сидя на корточках на пороге дома, и заигрывает с девчонкой, убиравшей их жилище. Зачем она здесь? Ей нравится этот белый парень? Или он позвал ее?
– Она еще маленькая, – не узнавая своего голоса, произнес Марин, скорее с целью привлечь внимание, чтобы заглянуть мальчишке в глаза, нежели предупредить его об опасности связей с местными феминами.
– Я же не собираюсь тащить ее в постель. – Он оглянулся на Залевского. – Хотя, я так понимаю, они тут ранние.
– Есть много нюансов, – обронил Марин и ушел в ванную.
Долго умывался, стараясь избавиться от наваждения. Было или не было? Неужели подсознание способно выстроить все так тщательно, так подробно и ярко воплотить томившие его желания? Или он уснул уже после? Тогда почему – одетым? Садистская игра воображения…
– Мы ужинать сегодня будем? Мой живот играет готик-рок.
В дверях стоял мальчишка. Так близко, что Марин уловил исходящий от него слабый запах спиртного.
– Ты уже где-то бахнул? – спросил он.
– Да, какую-то дрянь из банки.
– Что ж ты так себя не бережешь? Спиртное должно быть как минимум качественным. А лучше – элитным. Впрочем, как и всё остальное, что употребляешь и чем пользуешься.
Марин вышел из ванной и увидел на полу возле кресла почти порожнюю бутылку виски. Значит, он приговорил ее в одиночку, под расплавленное зрелище аравийского заката. Стоит ли удивляться снам? Впрочем, он ощущал себя досадно трезвым.
– Элитным? Ты – сноб? – прозвучало за спиной.
Залевский обернулся и поймал на себе удивленно-насмешливый взгляд.
– Нет, это вопрос отношения к себе. А зачастую – и вопрос безопасности. Не есть «сухой корм» вроде чипсов, не пить дрянные напитки. Есть такая популярная формула: ты есть то, то ты ешь. Слышал?
– Краеугольная колбаса какая-то, – усмехнулся мальчишка. – Мне жаль того, кто так считает. Я – это мои мысли и чувства. А употреблять внутрь я при этом могу что угодно.
– Ты меня услышал? Не смей тут пить без меня! И вообще ходить куда-то без меня!
– Э-э-э… вот прямо – «не смей»? Я с тобой еще не так близко знаком, как с собой. Даже не знаю, с кем безопасней.
Что такое? Щенок скалится? Но он вынужден опекать его здесь! Учить правилам выживания несмотря на то, что тот умудрился при очевидном их несоблюдении дожить почти до восемнадцати лет. И не просто дожить, а чего-то достичь. Хотя, кто знает, чего это ему стоило? Хореограф знавал тех, кто не дожил, кто погиб от неразборчивости и невоздержанности. Остальным же просто повезло. Иногда его посещала мысль, что с целью сохранения популяции молодняк до самой зрелости следует выкармливать специально разработанными сбалансированными кормами, как кошек и собак. И только окрепнув, они могут вкусить излишеств.
9
Их было двое: мальчишка напротив и его тень на стене веранды ресторанчика на берегу. И вели себя они по-разному: реальный визави был лиричен, а тень фиглярничала: показывала Марину то вдруг удлинившийся нос, то рожки отброшенных рукой прядей. Тень была подвижной, графичной и напомнила хореографу марионетку яванского театра теней.
Курили в ожидании заказа, сидя на широких диванах, познавших за сезон множество тел. Хореографа удручала сложившаяся тональность их общения, дерзость и неожиданная суверенность спутника. Он опасался, что парень вновь пуститься насмешничать, сам Марин будет опять выглядеть глупо и нелепо, беседа выйдет дурацкой и обидной, окончательно развеет волшебство его фееричного сна. Поспешив задать безобидное направление неизбежному разговору, обратился почему-то к тени.
– Ты сам-то пишешь музыку?
– Пишу, чаще в депрессняке. Чтобы ты состоялся как музыкант, ты должен нести свою музыку.
– И много уже нанес?
– Нет, пока тяжело дается. Слишком много всего во мне звучит! Когда слышу чей-то хороший музыкальный материал, завидую люто – кому-то удалось что-то вычленить, сфокусироваться. Но это очень особенная работа, – тень встрепенулась, взмахнула крылом, – когда пишу все партии сам, сразу понимаю, что хор, инструмент, диапазон, который развивал, – все не зря! Только нужен хит. Чтобы ты звучал в эфире. Без хита – никуда. Я все время думаю об этом. Я ведь могу писать только о своем. О себе. Понимаешь, – завелся мальчишка, – самым лучшим, самым настоящим, самым хитовым хитом будет песня, совпадающая с ритмом мира! На ритм человека ориентироваться нельзя, потому что у каждого свой ритм. А вот поймать ритм мира – это было бы реально круто! Какой-то внутренний его бит. Попасть в унисон! Есть же у мира пульс, сердцебиение? Что там в нем реально бьется?
Голос с хрипотцой, будто надтреснутый. Шмыгает носом. Организм не успел приспособиться после заснеженной Москвы.
– Фантазер, – усмехнулся Залевский. – «Пульс мира» – не более чем фигура речи.
– Ну и пусть! Чтобы стать коммерчески успешным, мне нужно уловить что-то общее, чтобы меня слушали миллионы.
– Единственное общее у миллионов – это иллюзорная надежда на лучшую жизнь. Вот она и стучит в головах. И это – единственный бит мира.
Визави отвернулся, устремив взгляд к морю, в непроглядную тьму. Наверное, шум волн в тот момент показался ему более существенным и заслуживающим внимания, чем сентенции хореографа, и даже тьма влекла сильнее лица собеседника. Уловил фальшь? Залевский и сам удивился. Куда его понесло? Что за дело ему, успешному человеку, до чьих-то растраченных иллюзий, зачем он увел разговор от единственной, моментально пришедшей на ум, картины: мир сотрясает ритм секса. Вся планета совокупляется. Каждой твари по паре. Он был уверен, что подтекст любой музыки – секс, с той лишь долей разнообразия, которая присуща разным партнерам. Он всегда чутко различал музыку, написанную, несомненно, телом, от обилия секса или в предвкушении его, излившуюся на нотный стан из постели животворящим семенем, и музыку, созданную отсутствием такового в жизни композитора. Во второй было существенно меньше жизни, зато много жалости к себе, псевдо-значительных умствований и тщательного формотворчества. Недавно он вновь обращался ко Второму концерту Рахманинова и ясно слышал в этом низком тестостеронном фа контроктавы, в нарастающей динамике аккордов тему влечения и обретенной плотской любви! Во второй части – удовлетворение и блаженный длящийся покой. С бокалом вина, быть может, в еще подрагивающей руке. Восстановление сил. И третья часть: слияние звонов, стремительно летящих скерцо, плясовых и маршевых ритмов – раз за разом все ярче и ярче – беспечная радость обладания и изысканное баловство… Музыканту в тот год – двадцать восемь. И что бы ни писали в официальных либретто, все эти грозовые раскаты и шум зеленых дубрав, степь и ковыли, колокольный набат и хрустальная свежесть морозного утра, былинность и отголоски народности (в дворянском переложении, ха-ха) – лишь приличествующие драпировки истинных переживаний композитора. Хотелось вовлечь собеседника в тенета звучащей в нем самом темы, но ему показалось, что еще не пришло время, не найден комфортный для обоих язык. А может, Марин был просто задет тем, что собеседник отвернулся, предпочтя его светлому лику безликую тьму. И он продолжил, удерживая до поры безопасную дистанцию.
– Прислушивайся к себе, ищи индивидуальное звучание.
– А если моя музыка окажется никому не нужна?
– Главное, чтобы она тебе была нужна. А погоня за коммерческим успехом – незавидная доля. Тараканьи бега. Посмотри свой номер на спине: он же – шестизначный.
– А ты не гонишься за коммерческим успехом?
– Я? Нет. Я делаю только то, что хочу делать, – с апломбом заявил Залевский и мысленно поблагодарил своего мецената. Подумал, что все-таки меценаты – это высокий уровень культуры: они дают возможность талантливым людям своей эпохи формировать ее культурное наполнение – делать по-настоящему значительные вещи, которые останутся знаковыми, определяющими свое время. – Но я хотел тебе сказать о другом, хотел сказать, что зависимость от успеха ежесекундно губит артиста. Борьба между тем, как ты чувствуешь, и тем, чем хочешь угодить публике, это борьба между подлинным и притворным. Публика видит в художественном результате лишь то, что победило, и не догадывается о том, что могло победить, но погибло.
Сказал и увидел, как муторно сделалось собеседнику, как изменилось его лицо, как вспорхнули тонкие руки в попытке протестовать, защититься.
– «Погибло» – это же что-то окончательное. Но я же – не окончательный. Я расту, меняюсь, еще долго буду меняться. Возможно, до самого конца. Вот, скажи: ты всегда одинаковый? Тебе важно, чтобы тебя узнавали в твоих спектаклях? В смысле авторства. К примеру, люди видят по телевизору миниатюру, и сразу узнают в ней твою хореографию.
– А тебе важно, чтобы ты был узнаваем в своей музыке?
– Конечно! Моя музыка – это и есть я, в любом случае. И если она похожа на чью-то еще, значит, я не смог найти собственное звучание. Заразился чужим. Я боюсь этого. Я пока только ищу свое. Не могу себя распознать. Индивидуальное не могу поймать.
– Ну, купи себе хит и не мучайся, – посоветовал хореограф.
Юноша внимательно смотрел на Залевского, как будто хотел понять, слышит ли его собеседник.
– А ты не думал, что у каждого человека – своя песня? Образно говоря. Это его чувства и мысли, тревоги, сомнения, страсти, его способ выражения их. А?
– Нет. Я о песнях вообще не думал и не думаю. И вряд ли буду.
Случайно или намеренно свел он ответ к песне, не приняв заявленный мальчишкой широкий смысл вопроса? Вероятно, он сделал это интуитивно.
– Ну, это же не только к песням относится. Но и к спектаклям. Нет? Я много думаю об этом. Зачем петь чужие чувства, если свои распирают? Глупо как-то.
Залевскому не нравился такой поворот в разговоре. Он не собирался оправдываться и вообще говорить о себе.
– Слушай, может, ты напрасно живешь в наушниках? Я не понимаю, как может зазвучать в голове свое, если ты в прямом смысле по уши в чужом.
Но собеседник не давал ему выскользнуть с ринга увенчанным лаврами.
– А ты не смотришь чужие балеты?
– Смотрю, чтобы сверить координаты. Но вдохновляюсь другими вещами, не имеющими прямого отношения к балету. Музыкой, мыслью, вещью, природой… Бывает, что поразившими формами чего-либо, человеком, книгой, строчкой из книги, жестом, снами. В чужом есть опасность. Когда я стал пробовать себя как хореограф, я был уверен, что способен сделать что-то новое. Пересмотрел в тот год все, что было доступно из авангардного. И в какой-то момент испугался, что все уже придумано до меня. Но постепенно мне открылось, что дело совсем не в форме, а в идее, из которой и рождается новая пластика. Я не о либретто. Пока ты не сформулировал для себя, что ты хочешь вложить, вынести на люди, ничего не сработает. После всех этих бесконечных просмотров я понял, что мы отстали непоправимо, окончательно! И на этом поле работают игроки высшей лиги. Как с ними можно тягаться? Но широкая публика у нас в те времена не видела эти постановки. И это оставляло мне крошечный шанс. Только времени для разбега у меня не было. Надо было прыгнуть с места. Вот тут мне и пригодилось все, что вкладывал в меня отчим. Потому что на пустом месте только сорняки растут.
Ветер с моря порывами доносил запах водорослей, шелестел сухими ветками пальм над рестораном. Лодка оказалась не декором, а самой настоящей, и рыбаки грузили сети, стаскивали ее в море, чтобы выйти за ночным уловом. У них такая работа и такая жизнь. И притягивала картинка, и невозможно было оторвать взгляд от этой сцены, пока персонажи не канули во тьму.
Говоря о чужих балетах, хореограф не упомянул, что мог зажечься от кого-то, а потом тщательно скрыть за вариациями первоисточник. Он замечал, что этим в той или иной мере грешит каждый автор. Но находил это не плагиатом, а заботой о том важном, что следует сохранить. Он брал на себя роль преемника: подбирал оброненное зерно на чужой скошенной пашне, чтоб оно не потерялось, не засохло и обязательно дало всходы в его постановках. Он делал это ради сохранности прекрасного. Ради сохранности. Правда, в итоге мог получиться неубедительный подстрочник Бежара. И тогда он понимал, что продукт его творчества оказался вторичен. И опасался, что искушенный зритель непременно уличит его. Да где он – искушенный зритель?
– Но это никогда не бывает прямым перенесением на сцену, – продолжил он свою мысль, – спектакль рождается из конфликта с этим моим внутренним переживанием. Я его на сцене никогда не возношу, не показываю своего личного отношения, восхищения, а напротив, демонизирую. Даже травлю, глумлюсь, убиваю, и тогда оно становится таким же переживанием для тех, кто смотрит.
– Слушай, в этом есть что-то гадкое. Нет? Замучить, убить, чтоб возлюбили? И не ново, кстати. Старая история: чтобы возлюбили Христа, его замучили и убили. То есть, каждая твоя постановка в каком-то смысле – это, типа, новое «убийство Христа»?
Залевский усмехнулся.
– Молодец. Налету ловишь.
– Кажется, я понял, что меня так напрягло в твоем спектакле. Ты врешь, потому что боишься проговориться о своих страстях. Ты на сцене глумишься над тем, что исповедуешь сам.
Залевскому вдруг стало неудобно сидеть – он вымел из-под себя руками песок, дотоле не беспокоивший его, дважды переменил позу. Почему-то не находились сигареты, к тому же светил в глаза фонарь…
– Публика – потребитель. Я не обязан кормить их собой.
– А чем ты их кормишь?
– Искусством. Спектакль – это метафора, художественный образ.
Тень вытянулась в вибрирующую струнку и вдруг проросла руками. Они словно искали в пространстве опору, но не находили.
– А я что делаю? Работу работаю?
– А ты как раз кормишь собой. И публика тычет вилочками, пробует, оценивает на вкус: нравится или не нравится поданное блюдо. Просто нравится или не нравится. Не пытается понять, не ловит волну. Тебя оценивает, а не то, что ты поешь. Ты же себя им подал? Грубо говоря, торгуешь собой.
Он хотел – грубо. Он же сам именно купился. Но как могло с ним быть иначе? Он – гурман, а блюдо оказалось редким изысканным деликатесом. Он даже ревновал парня к музыке, к тому, что он так страстно отдается ей, так жарко и безоглядно увлечен ею.
– А тебе разве не случалось собой барыжить? – тихо спросила тень.
– Нет. Бог миловал. В меня вкладывают деньги именно для того, чтобы я делал искусство.
Тень застыла.
– Кстати, о музыке, – продолжил Залевский, – мне однажды попалась парадоксальная фраза из проповеди Мустафы Сабри, выдающегося персидского проповедника двадцатого века. Ты знаешь, что шариат запрещает музыку?
– Я даже не очень хорошо представляю, что такое шариат.
– Если кратко, то это комплекс религиозно-правовых норм, которым должен следовать мусульманин. Так вот, фраза звучала так: музыка – это бесполезное занятие, поскольку она есть состояние пассивности. Удовольствие от музыки означает глубокое порабощение страстью.
Несмотря на теплынь, руки визави от коротких рукавов до кистей покрылись «гусиной кожей», вздыбившей поросль светлых волос. Реакции на физиологическом уровне Марин не ожидал. Он лишь собирался уйти от личного в отвлеченно-интеллектуальную беседу. Впрочем, когда-то хореографа и самого поразила эта мысль, и теперь он с исследовательским интересом наблюдал за произведенным эффектом.
И тут с тенью что-то случилось – она улетучилась вслед за дымом сигареты. Как будто хозяин ее скурил. Наверное, кто-то закрыл собой фонарь. Перед Марином остался только мальчишка.
– Хорошо, что у нас не шариат. – Он потянулся за салфеткой и вытер нос. – Он слушал. А другим запретил. Как и прочие страсти, которым предавался сам. Зачем они делают это с людьми?
– Они хотят, чтобы люди работали, не покладая рук.
– Я бы не смог так жить. Музыка – это то, что меня возбуждает… как-то… особенным образом… Что ты на меня смотришь? Ты представь, что тебе запретили ставить балет, вообще отлучили бы от балета. И сказали, что теперь ты будешь собирать картонные коробки.
– Почему – коробки?
– Ты что-нибудь еще умеешь?
– Я бы собирал коробки, а в уме ставил спектакли. Поверь, собирая коробки, никто не думает о коробках. Ты же не думаешь о картошке, когда ее чистишь?
– Когда мне приходится чистить картошку, я психую, – огрызнулся мальчишка.
– Если бы родители не отдали меня в балет, я бы стал, наверное, математиком. Или физиком. Меня до сих пор увлекают естественные науки. Сейчас, конечно, не потяну уже. Развилка дорог давно пройдена, теперь осталась одна ровная дорога.
Залевский вдруг подумал, куда деваются все те, кто не смог зацепиться, кого не подхватили. Вот этот желавший большой сцены молодняк. Кем работают? Дают мастер-классы? Частные уроки? Или вынуждены были уйти из профессии? Мало выбрать профессию артиста, существуют еще некоторые обстоятельства, вынуждающие вновь и вновь делать выбор, но уже другого рода: чем ты готов поступиться. И одного желания сцены становится мало. Дальше твоей движущей силой станет только настоящая одержимость. Потому что каждая развилка ведет не к цели, а к новой развилке. И на каждом распутье у тебя что-то отнимают: здоровье, честь, достоинство, семью, детей… Ты всё ещё идешь? А тогда отдай последнее – то, что прятал глубже всего – себя самого. И стань до конца своих дней кем-то другим. И не пытайся вернуться к себе – там уже никого нет.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?