Текст книги "Природа охотника. Тургенев и органический мир"
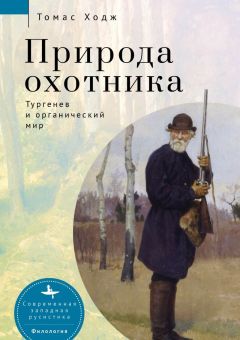
Автор книги: Томас Ходж
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Герцен познакомился с Тургеневым в Москве в феврале 1844 года, сблизились же они в Париже, регулярно видясь с весны 1848 года по май 1849 года[26]26
См. [Schapiro 1982: 31; Герцен 1954–1965, 22: 176; Kelly 2016: 412; Летопись 1995: 138–146]. О сходстве взглядов Тургенева и Герцена на природу см. [Курляндская 1971: 50].
[Закрыть]. В этот необычайный переломный момент – когда Европу накрыла революционная волна «Весны народов», Тургенев работал над рассказами, которые составят «Записки охотника», а Герцен писал статьи для книги «С того берега» – двое писателей, несомненно, обсуждали свои представления о природе, имевшие еще и до их личной встречи много общего. Трудно дать точную характеристику их взаимовлиянию, но вполне возможно, что именно решительная интонация Герцена придала форму словам Тургенева о «жестоком равнодушии природы» [Тургенев 19786, 1: 406], адресованным Полине Виардо летом 1849 года:
Эта штука – равнодушная, властная, прожорливая, себялюбивая, подавляющая – это жизнь, природа, это Бог; называйте ее как хотите, но не поклоняйтесь ей. Прошу понять меня: когда она прекрасна или когда она добра (а это не всегда с нею случается) – поклоняйтесь ей за ее красоту, за доброту, но не поклоняйтесь ей ни за ее величие, ни за ее славу! [Тургенев 19786, 1: 425].
Очень показательно, что Тургенев упоминает красоту и поклонение – понятия чужеродные для скорее научных герценовских формулировок. Надо сказать, что Тургенев вообще часто изображал мир природы в виде прекрасной, таинственной, женственной, богоподобной персоны. В этом вновь ощущается шеллингианское представление о единстве природы с Абсолютом, возможно, даже Богом. В «Поездке в Полесье» (1850–1857), например, Тургенев описывает отношение природы к человеку как «холодный, безучастно устремленный на него взгляд вечной Изиды» [Тургенев 1978а, 5: 130]. Это стремление к обожествлению проявилось в наиболее чистой форме, когда он уже приближался к концу своего жизненного пути, в стихотворении в прозе «Природа», написанном в 1879 году. Это короткое произведение представляет собой аллегорический сон, в котором величавая женщина в одежде зеленого цвета, погруженная в глубокую думу, олицетворяет мир природы. Вторя образам матери и ребенка из «Die Natur», повествователь обращается к ней: «О наша общая мать!» – и спрашивает, не о будущих ли судьбах человечества она размышляет. В ответ же эта богоподобная фигура говорит, снижая пафос повествования, что думает о том, как бы придать большую силу мышцам ног блохи, чтобы восстановить равновесие нападения и отпора. На вопрос же ошарашенного рассказчика: «Но разве мы, люди, не любимые твои дети?» – Природа отвечает: «Все твари мои дети <…> и я одинаково о них забочусь – и одинаково их истребляю. <…> Я не ведаю ни добра, ни зла… <…> Я тебе дала жизнь – я ее отниму и дам другим, червям или людям… мне всё равно…» [Тургенев 1978а, 10: 164–165]. Ключевая идея, выразительно повторяющая «Die Natur», предельно ясна: важнейшей целью природы является равновесие, которого она может достичь лишь через абсолютное равнодушие.
Русские критики убедительно доказали связь «Природы» Тургенева с «Разговором Природы с Исландцем» Джакомо Леопарди (из его «Нравственных очерков»), написанным в мае 1824 года и опубликованным три года спустя. В диалоге Леопарди Исландец оказывается в глубине Африканского материка, куда не проникал ни один человек, и там ему встречается гигантская, прекрасная и вместе с тем грозная женщина, которая утверждает, что она – сама Природа. Отчаянно пытающийся убежать от страданий Исландец заключает, что природа – явный враг всех живых существ, включая человека, на что богоподобная фигура отвечает:
Уж не вообразил ли ты, будто мир создан ради вас? Знай же, что, творя, устанавливая порядок и вообще что-либо совершая, я почти всегда имела и имею в виду нечто иное, нежели счастье или несчастье людей. Когда я каким-либо образом или действием причиняю вам зло, я этого не замечаю, за редчайшими исключениями; и точно так же, если я порою даю вам наслаждение или благодетельствую, я обыкновенно даже не знаю об этом; я никогда не делала и не делаю ничего, имея в виду, как вы мните, доставить вам радость и угодить вам. И наконец, если бы даже мне случилось истребить весь ваш род, я бы этого и не заметила. <…> Мне кажется, ты не обратил должного внимания на то, что жизнь этого мира есть вечный круговорот рождения и уничтожения, связанных между собой так, что одно непрестанно служит другому, и оба вместе – сохранению самого мира, который распался бы, если бы прекратилось или одно, или другое. Потому было бы миру во вред, если бы хоть что-нибудь в нем оказалось свободно от страданий [Леопарди 1978: 109–111].
Леопарди приводит сразу две возможные концовки этой истории. Два истощенных льва съели разговорчивого Исландца, что дало им силы прожить еще несколько дней. Или же, как вариант, «поднялся жесточайший ветер, который простер его на земле, а над ним воздвиг горделивый мавзолей из песка, под коим Исландец, на славу высушенный и превращенный в превосходную мумию, был обнаружен некими путешественниками и помещен в музей в одном из городов Европы» [Леопарди 1978: 111].
Для Тургенева, равно как и для Леопарди, глупый самообман – верить в то, что Природа антропоморфна и потому обладает состраданием и моралью, потому что она – несмотря на древнюю традицию ее персонификации – нечто неодушевленное, бесчувственная совокупность видов и явлений. Поэтому тот факт, что рассказчик Тургенева и Исландец Леопарди представляют себе Природу в виде женщины, абсурден, но при этом оба писателя не смогли устоять перед соблазном персонифицировать гётеанские абстракции с помощью диалогов между антропоморфной богиней и ее опечаленным поклонником.
Тургенев смог достичь леопардианского уровня саркастической иронии по отношению к природе, но у него была и любимая альтернатива образу богини: взаимосвязанные метафоры, основанные на жизни насекомых и изображающие зацикленное на себе хищничество на «настоящем поле брани» (yrai champ de carnage), которое он так живо обрисовал в письме к Полине Виардо от 1868 года[27]27
См. [Тургенев 19786, 9: 23].
[Закрыть]. Впервые подобный образ насекомого появляется в более раннем письме, также адресованном Виардо, от 1849 года:
…она [природа] равнодушна; – душа существует только в нас и, может быть, немного вокруг нас… это слабое сияние, которое вечная ночь неизменно стремится поглотить. Но это не мешает злодейке-природе быть восхитительно-прекрасной, и соловей может очаровывать нас и восхищать, а тем временем какое-нибудь несчастное, полураздавленное насекомое мучительно умирает у него в зобу [Тургенев 19786, 1:406–407].
Безразличная к страданию, которое она причиняет, поддерживая собственное существование, насекомоядная птица просто занята своими обычными делами, даже если дела эти – прекрасное пение. В 1859 году Тургенев дважды использовал похожий образ, но на этот раз в шутливом споре Шубина с Берсеневым в романе «Накануне» хищником стал паразит:
Меня больше всего поражает в муравьях, жуках и других господах насекомых их удивительная серьезность; бегают взад и вперед с такими важными физиономиями, точно и их жизнь что-то значит! Помилуйте, человек, царь созданья, существо высшее, на них взирает, а им и дела до него нет; еще, пожалуй, иной комар сядет на нос царю создания и станет употреблять его себе в пищу. Это обидно. А с другой стороны, чем их жизнь хуже нашей жизни? И отчего же им не важничать, если мы позволяем себе важничать? Ну-ка, философ, разреши мне эту задачу! Что ж ты молчишь? А? [Тургенев 1978а, 6: 162].
В написанной примерно тогда же статье «Гамлет и Дон-Кихот» Тургенев приводит еще более разительный пример: «…всё живущее считает себя центром творения и на всё остальное взирает как на существующее только для него (так комар, севший на лоб Александра Македонского, с спокойной уверенностью в своем праве, питался его кровью, как следующей ему пищей…)» [Тургенев 1978а, 5: 341]. В своей второй рецензии на охотничий труд Аксакова 1852 года Тургенев взял для иллюстрации той же самой идеи «муху, свободно перелетающую с вашего носа на кусок сахару, на каплю меда в сердце цветка» [Тургенев 1978а,4:516–517][28]28
Полный текст рецензии см. в приложении 3.
[Закрыть]. В романе «Отцы и дети» нигилист Базаров видит муравья, тащащего полумертвую муху, и обращается к нему: «Тащи ее, брат, тащи! Не смотри на то, что она упирается, пользуйся тем, что ты, в качестве животного, имеешь право не признавать чувства сострадания, не то что наш брат, самоломанный!» [Тургенев 1978а, 7: 119]. Хищнический образ жизни, позволяющий выжить самому, окружает нас повсюду и показывает великое равнодушие природы, только, так сказать, в более мелких масштабах: равнодушие индивидуальных организмов, совершающих насилие, чтобы утолить собственные физические потребности.
Для Тургенева связанные с насекомыми метафоры могут также воплощать отчаяние, порожденное созерцанием природного равнодушия. В 1864 году он писал Валентине Делессер:
Сфинкс, – который будет всегда перед всеми возникать, смотрел на меня своими неподвижными, пустыми глазами, тем более ужасными, что они отнюдь не стремятся внушить вам страх. Мучительно не знать разгадки; еще мучительнее, быть может, признаться себе в том, что ее вообще нет, ибо и самой загадки более не существует. Мухи, без передышки бьющиеся об оконное стекло, – вот, думается, самый точный наш символ [Тургенев 19786, 6: 194].
Об охотничьем типе равновесия
Таким образом, вдумчивый наблюдатель природного мира сталкивается с проблемой. Природа восхитительно прекрасна и даже близка к божественности в своей способности вызывать благоговейный трепет и преклонение со стороны тех, кто наблюдает ее. Не желая того, она вынуждает любить себя, но при этом не любит (да и не может любить) в ответ. Вспоминается известное изречение Спинозы, игравшее столь важную роль в жизни Гёте: «Кто любит Бога, тот не может стремиться, чтоб и Бог его любил» [Спиноза 2001: 314][29]29
Подробнее о влиянии Спинозы на Гёте см. в [Rosenzweig 2000: 60–61].
[Закрыть]. Почти век спустя, после Лиссабонского землетрясения 1755 года, Кант сформулирует другую мысль: «Человек должен научиться подчиняться природе, но он хочет, чтобы она подчинялась ему»[30]30
«Geschichte und Naturbeschreibung der merkwurdigsten Vorfalle des Erdbebens welches an dem Ende des 1755sten Jahres einen grossen Theil der Erde erschuttert hat». Цит. no: [Buek 1907: 321].
[Закрыть]. Что же делать такому любящему природу художнику, как Тургенев, перед лицом этой равнодушной и всемогущей богини?
В своем выдающемся эссе «Корень и цветок» (1974) Роберт Л. Джексон делает обзор эстетических взглядов Тургенева и характеризует их в следующих понятиях: единство, консервативный, центростремительный, гармония, ясность, безмятежность, беспристрастный, равнодушный, баланс, сдержанность, равновесие, покой, объективность, спокойный, мера, отчужденность, примирение, перемирие [Jackson 1993: 164–169]. Исследователь отмечает сходство между этими признаками спокойствия в произведениях Тургенева и сущностными характеристиками, которые писатель видел в самом мире природе и приходит к выводу, что,
будучи художником, он принимает Природу как проводника. Возможно, беспристрастная справедливость Природы и не сулит ничего хорошего [человеку], но эта же самая Природа становится моделью для искусства и художника в <…> своей строгости, в своем олимпийском спокойствии и объективности. <…>
Художник в полном смысле слова для Тургенева <…> это тот, кто находит природу в себе и со спокойствием и мерой, характерными для самой природы, постигает жизнь в ее основополагающих взаимоотношениях, законах и преемственностях [Jackson 1993: 167, 169].
Тургеневский идеал писателя-охотника действительно заключался в отмеченной Джексоном имитации природного баланса, но это также было и равновесие, имеющее в своей основе куда большее насилие (вспомнить хотя бы описанные выше сцены переваривания полумертвых насекомых и сосания крови), нежели подразумевал Джексон. Это, конечно, «перемирие», но происходит оно на «поле брани». Равновесие, которого достиг Тургенев, было особого, охотничьего типа, отмеченного своими внутренними противоречиями и уникальными знаниями, доступными лишь охотникам. На то, как природа служила Тургеневу «проводником» и «моделью», глубоко повлиял опыт неустанного наблюдателя, преследователя и убийцы животных. Более того, вполне возможно, что именно этот опыт и побудил его принять беспристрастное равнодушие природы. Любовь Тургенева к охоте, начавшаяся еще в раннем отрочестве и ставшая уже во взрослом возрасте поводом для серьезных размышлений, привнесла в его жизнь такую физическую деятельность и такие привычки к наблюдению, которые на протяжении всех последующих лет оказывали влияние на его эстетику. Изучая его охотничью жизнь, составлявшие ее элементы и значение, которое он стремился ей придать, мы приближаемся к главному источнику художественных склонностей Тургенева, его постоянных литературных проектов и его философии.
В глазах Тургенева охотники отличались от всех прочих наблюдателей природы. Сам глубоко чувствуя природную красоту, он разделял отвращение Аксакова к романтической моде на преклонение перед природными пейзажами, которая оказывала дурную услугу охотничьему искусству и оскверняла почти религиозное преклонение перед миром природы, характерное для многих охотников. Аксаков писал:
Конечно, не найдется почти ни одного человека, который был бы совершенно равнодушен к так называемым красотам природы, то есть: к прекрасному местоположению, живописному далекому виду, великолепному восходу или закату солнца, к светлой месячной ночи; но это еще не любовь к природе; это любовь к ландшафту, декорациям, к призматическим преломлениям света <…>. Для [подобных людей в открывающихся перед охотниками пейзажах] нет красот природы <…>. Их любовь к природе внешняя, наглядная, они любят картинки, и то ненадолго [Аксаков 1955–1956, 4: 10][31]31
Мнение Аксакова поразительно совпадает с мнением Генри Дэвида Торо, высказанным примерно в то же время: «Угрюмость, с которой дровосек рассказывает о своих лесах, относясь к ним с тем же равнодушием, с каким он относится к своему топору, лучше, чем сладкоречивый энтузиазм любителя природы» (написано в 1845–1847 годах) [Thoreau 1849: 112–113].
[Закрыть].
В своей ранней повести «Бретер» (1846) Тургенев вкладывает аналогичное отношение в светскую болтовню добродушного, но поверхностного романтика Кистера: «“Я здесь нашел такое приятное общество… а природа!..” – Кистер пустился в описание природы» [Тургенев 1978а, 4: 42]. Василий Васильич, заглавный герой «Гамлета Щигровского уезда», говорит рассказчику «Записок охотника»: «Кажется <…> я могу пройти молчанием первые впечатления деревенской жизни, намеки на красоту природы, тихую прелесть одиночества и прочее». На что рассказчик-охотник с облегчением соглашается: «Можете, можете» [Тургенев 1978а, 3:265–266].
Наблюдать за природой лишь для получения удовольствия недостаточно. На охоту отправляются вовсе не потому, что следуют некоему плану маршрута, навязанному поверхностными представлениями о красоте. В мировоззрении Аксакова и Тургенева (хотя для охотников из их произведений это и не всегда так) целью является добыча, а не пейзаж. Долгие и частые пребывания любителей охоты на природе второстепенны по отношению к их задаче, состоящей в убийстве птиц и зверей, и, по мнению Юлиана Шмидта, стремясь к ее достижению, охотники становятся открытыми и внимательными ко всем явлениям природы, которые они могут встретить. При этом даже охотники, никак не связанные с традиционной литературной деятельностью, всё равно описывают то, что они видят и делают под открытым небом: рассказывают охотничьи истории у костра, составляют скрупулезные списки добычи, делятся подробностями походов в переписке с товарищами. Эндрю Дуркин так резюмирует данное Аксаковым в «Записках ружейного охотника Оренбургской губернии» изображение охотника как внимательной и интегрированной составляющей органического мира: «Охота продолжает существовать как средство прямого участия в жизни природы, понимаемой как сложная система знаков, которые необходимо научиться интерпретировать и контролировать посредством наблюдательности и опыта» [Durkin 2003: 12].
В исследованиях, посвященных Тургеневу, уже стало общим местом описывать его как беспристрастного наблюдателя, имитирующего равнодушие природы. Но несмотря на то что охотники полностью отдаются непрекращающемуся взаимодействию хищника и жертвы, раскрывающему равнодушие природы, сами они от какого бы то ни было равнодушия максимально далеки. Эпитет «страстный» – противоположность «равнодушному» – очень часто характеризует слово «охотник» в русских охотничьих текстах, в особенности у Тургенева и Аксакова[32]32
Например, прилагательное «страстный» встречается в «Записках охотника» десять раз, из них четыре раза (40 %) в словосочетании «страстный охотник». Словосочетания с прилагательным «страстный» и другими существительными встречаются не более одного раза. Аксаков в «Записках ружейного охотника» употребляет прилагательное «страстный» 22 раза: 12 раз – с существительным «охотник» (55 %), три раза – с существительным «охота» (14 %) и лишь семь раз (32 %) – с другими существительными.
[Закрыть]. С другой стороны, характерной чертой Тургенева является то, как беспощадно он расправляется со своими главными героями (Гиршелем, Кистером, Чулкатуриным, Муму, Рудиным, Инсаровым, Базаровым и т. д.). Здесь, властвуя над художественным миром своих произведений, Тургенев как будто действительно берет на себя роль равнодушного бога Природы, обладающего над своими созданиями абсолютной произвольной властью, которая служит цели эстетического равновесия: он убивает их, заставляет их влюбляться, передвигает их с места на место – как говорится, «дает природе взять свое».
Подобные внутренние противоречия, характерные для охотничьего типа равновесия, оказывают существенное влияние на литературный метод. Для исследования данных подтекстов в следующих главах могут быть полезны такие уже широко известные экокритические понятия, как антропоцентризм и экоцентризм, но если мы действительно хотим оценить по достоинству характерные для Тургенева изображения того, как люди-наблюдатели взаимодействуют с миром живой природы, нам потребуется более детализированный набор терминов.
Не так давно Аарон Мо разработал очень полезный термин «зоопоэтический» для описания поэзии, достигающей «творческих прорывов в значении» за счет того, что поэт проявляет живое «внимание к телесному поэзису другого биологического вида», результатом чего становится «сотворчество» двух разных биологических видов [Мое 2013: 10; Мое 2014: 2]. По отношению к Тургеневу, в первую очередь прозаику, я предлагаю использовать термин «зоотропный», происходящий от греческих существительных (/дог — ‘животное’ и трот] — ‘поворот’ Под зоотропным я понимаю способ литературного восприятия и представления, в котором животное явно не используется в качестве приема (символа, метафоры, эмблемы, метонимии, олицетворения и т. д.), отсылающего к чему-либо или означающего что-либо в мире людей, но принимается само по себе и описывается как есть; автор сам поворачивается в сторону животного (а не поворачивает его в сторону людей) и просто наблюдает его как часть органического мира[33]33
Я подразумеваю нечто сродни тому, что Ньюлин называет «экологическим мышлением», подъем которого он отмечает в русской литературе середины XIX века: «Проще говоря, оно показывает базовое приятие природы как она есть, то есть настоящего, действительного мира природы, во всем его зачастую неопрятном и на первый взгляд “безлюдном” очаровании и разнообразии» [Newlin 2003: 74].
[Закрыть]. Человек уступает не являющемуся человеком существу, а не требует, чтобы уступили ему. Зоотропная литература отказывается апроприировать животное или, если развить данную мысль в область нравственной философии, не подчиняет волю животного воле автора с целью использовать как инструмент для создания некоего более глобального значения, имеющего отношение уже к человеку. Зоотропизм отказывается от идеи «поймать природу за хвост» [Тургенев 1978а, 5:178][34]34
Необходимо добавить, что человек, конечно же, не может создавать чисто зоотропные произведения, поскольку уже сам факт изображения любого живого существа в тексте, запечатления его в человеческом языке поворачивает животное к той или иной форме использования его человеком. См. введение и [Marvin, McHugh 2014: 7–8].
[Закрыть]. Расширяя данную терминологическую основу, мы также можем назвать неподчиняющее изображение растений (в том числе и деревьев) фитотропизмом, земли и ландшафта – геотропизмом, неба – целотропизмом. Обобщая, мы можем объединить все четыре понятия и использовать термин экотропизм, означающий движение авторского внимания, направленное вовне, в окружающую его среду[35]35
Значение, в котором я использую термин «экотропизм», близко, но не тождественно значению, в котором его используют поэты Джон Кэмпион и Джон Херндон в манифесте «К экотропной поэзии»; см. [Campion, Herndon 1990].
[Закрыть].
Термин же антропотропизм я буду использовать как противоположность экотропным модальностям, а именно чтобы обозначать склонность писателей к использованию животных и растений в качестве очевидных тропов или намеков, которые отсылают к понятиям и проблемам мира людей[36]36
Термин «антропотропизм» уже имеет некоторое ограниченное хождение в теологическом значении; введен на немецком языке Абрамом Хешелем в книге «Пророки». Первый раз термин «Anthropotropismus», в противопоставление термину «Theotropismus», используется в [Heschel 1936: 141]. См. книгу Роберта Эрлевайна «Иудаизм и Запад»: «В антропотропном повороте нарушение повседневного таково, что поворот (Wendung) происходит со стороны Бога и направлен в сторону (Richtung) отдельного человека» [Егlewine 2016: 119]. Также термин «антропотропизм» используется в исследовании технологий: «Писатель-фантаст и профессор медиаведения Пол Левинсон (1998) определил ремедиацию как “антропотропный” (от anthropo – ‘человек’ и tropic — ‘направление’) процесс, посредством которого новые медиатехнологии улучшают или исправляют предшествующие технологии в том, что касается воспроизведения возможностей человека» [Hillesund, Belisle 2014: 133]. Хиллесунд и Белиль ссылаются на книгу Пола Левинсона «Неясный край: Естественная история и будущее информационной революции»: «“Антропотропная” теория – эволюция медиа по направлению к возможностям человека» [Levinson 1998: xvi]. И далее: «“Антропотропная” эволюция медиа <…> эволюция медиа по направлению к более “человечному” функционированию» [Levinson 1998: 82].
[Закрыть]. Подобный тип иносказательного искусства может рассматриваться как форма произвола — произвольного утверждения авторской воли над автономией иного живого существа[37]37
В статье, впервые опубликованной в 2003 году, Роберт Л. Джексон пишет: «В русском языке слово “произвол” имеет примерно три разных, хоть и связанных друг с другом значения: собственный выбор, своеволие, произвольность» [Jackson 2013: 103].
[Закрыть]. Антропотропизм являет собой осуществляемое писателем подчинение нечеловеческого человеку, риторический прием, использующий элементы природной среды. Хотя и справедливо утверждение о том, что художники, склонные к антропотропизму – в рамках которого человечество рассматривается как центр, а всё остальное – как периферия, – чаще всего создают антропотропное искусство, я не намерен использовать термины антропотропизм (эстетическая модальность) и антропоцентризм (мировоззрение) как синонимы. Когда Тургенев пишет о природе или людях, то в подавляющем большинстве случаев он не описывает целые категории живых существ (всё человечество, скажем, или всех животных) как рассматривающие себя в качестве центра или некоего ядра. Напротив, он постоянно направляет свое внимание на стремления индивидуумов, на невероятную множественность микроцентров: отдельного комара, отдельного соловья, отдельного императора. Таким образом, как мы увидим в главе четвертой, основополагающим для Тургенева обычно является не противопоставление центра и периферии, а подчиняемого и подчиняющего.
Внутреннее противоречие между экотропизмом и антропотропизмом оживляет описания природы в произведениях Тургенева, и примеры этих противоположных модальностей легко обнаружить в среде, где он жил. Как тонко отмечает Костлоу в своем анализе описаний леса, возникает конфликт «леса как такового и того, что “шелестит аллюзиями”» [Костлоу 2020: 49]. Являясь в этом отношении типичным представителем своей эпохи и социального круга, Тургенев был постоянно окружен антропотропными изображениями. Если сегодня приехать на экскурсию в Спасское-Лутовиново, родовое имение писателя неподалеку от Мценска, то можно услышать рассказ о том, что лет за десять до рождения Тургенева его двоюродный дед Иван Иванович Лутовинов велел высадить в парке липовые аллеи, образующие гигантское латинское число XIX, чтобы оно символизировало наступление нового, девятнадцатого века. Поэтому получается, что всю свою жизнь Тургенев ходил дорожками, которые в прямом смысле этого слова вписали символы человеческой истории в ландшафт. Рос же он на таких книгах, как «Бюффон для юношества» – русская адаптация работ французского натуралиста, в которой он мог, например, прочитать следующее: «Из всех четвероногих, усмиренных человеком, самое величественное есть лошадь. Сие гордое и пылкое животное разделяет с ним военные труды и славу сражений. Лошадь, будучи так же неустрашима, как и ее всадник, презирает все опасности» [Бюффон 1814: 117–118][38]38
Данное издание представляет собой русский перевод адаптации важного труда Бюффона [Buffon 1809].
[Закрыть]. Ни один образованный житель России в начале XIX века не мог избежать встречи с чрезвычайно антропотропными текстами: от басен о животных (И. А. Крылова, И. И. Дмитриева и других) до повсеместного использования классической мифологии (особенно «Метаморфоз» Овидия), не говоря уже о множестве других, менее очевидных примеров.
Из всех книг о флоре и фауне, целью которых было изображение природного мира как вместилища практичных символов, на Тургенева с детства особенно сильное впечатление производила книга «Эмблемы и символы» Нестора Максимовича Максимовича-Амбодика, опубликованная в Санкт-Петербурге в 1788 году. В письме к М. А. Бакунину и А. П. Ефремову 1840 года он делился своими впечатлениями от этого компендиума, попавшего к нему в руки, когда ему было восемь или девять лет:
На мою долю досталась «Книга эмблем» и т. д., тиснения 80-х годов, претолстейшая. <…> Целый день я перелистывал мою книжищу и лег спать с целым миром смутных образов в голове. <…> Я сам попадал в эмблемы, сам «знаменовал» – освещался солнцем, повергался в мрак, сидел на дереве, сидел в яме, сидел в облаках, сидел на колокольне и со всем моим сидением, лежанием, беганием и стоянием чуть не схватил горячки. Человек пришел меня будить, а я чуть-чуть его не спросил: «Ты что за эмблема?» С тех пор я бегал «Книги эмблем» пуще черта; и даже в прошлом году, бывши в Спасском, взял ее в руки с содроганием [Тургенев 19786, 1: 168].
Этот фолиант с длинной и сложной историей представлял собой книгу эмблем и был первым получившим широкое распространение русским образцом популярного в эпохи Возрождения и Просвещения жанра, чьей функций, по словам одного русского комментатора XIX века, было «приурочить аллегорический рисунок к выражению нравственных сентенций или вообще остроумных и замысловатых изречений»[39]39
Буслаев Ф. И. Мои досуги. Цит. по: [Тургенев 1978а, 6: 420].
[Закрыть]. На левую страницу разворота были помещены «эмблемы» (аллегорические изображения), а на соседней странице – «символы» (их значения) на русском, латинском, французском, немецком и английском языках. Эти 840 изображений с сопровождающим их текстом являют собой антропотропную модальность в практически идеально чистой форме и максимально далеко отстоят от шелленгианско-гётеанского взгляда на природу как на живое существо[40]40
Подробнее о книге Максимовича-Амбодика, ее источниках, технологических приемах изготовления, текстологической истории и иллюстрациях см. во вступлении к факсимильному изданию [Maksimovic-Ambodik 1989: xiii-xlvii]. Данная книга, как будет показано в главе пятой, играет важную роль в романе «Дворянское гнездо».
[Закрыть]. Таким образом, данная книга оказала сильное и неоднозначное влияние на восприятие Тургеневым мира природы в его ранние годы, оставив в памяти представление о том, что природные образы должны означать нечто конкретное и глубокое. И действительно, не исключено, что позднее тургеневское представление природного равновесия в образе богини («Природа») частично имеет основой своего происхождения следующее описание из книги Амбодика: «Натура, Естество, Природа, изображается <…> иногда младою девою в простой одежде, в венце из цветков, подающею руку художнику» [Максимович-Амбодик 1788: ххх].
Тем не менее Тургенев, как мы увидим в главе четвертой, с презрением отзывался об антропотропной модальности:
…мы любим природу в отношении к нам; мы глядим на нее, как на пьедестал наш. Оттого, между прочим, в так называемых описаниях природы то и дело либо попадаются сравнения с человеческими душевными движениями <…> либо простая и ясная передача внешних явлений заменяется рассуждениями по их поводу [Тургенев 1978а, 4: 516].
Объявляя Аксакова величайшим русским художником того, что я называю экотропной прозой, Тургенев клеймит грубый антропотропизм Бюффона:
Я <…> не дерзаю отрицать великих заслуг «отца естественной истории», но я должен сознаться, что такие блестящие риторические описания, каково, например, всем нам с детства известное описание коня: «Конь самое благородное завоевание человека» и т. д., в сущности очень мало знакомят нас с теми животными, которым они посвящены [Тургенев 1978а, 4: 518][41]41
Тургенев здесь спорит с определением Бюффона, впервые опубликованным в статье «Лошадь», которую оно открывает: «Между всеми приобретениями, сделанными когда-либо человеком, есть наизнаменитейшее порабощение сего горделивого и скоротечного животного, разделяющего с ним военные подвиги и славу в битвах приобретаемую» [Бюффон 1817: 60]. Впервые Тургенев иронизировал по поводу этого панегирика лошади в рассказе «Лебедянь» из цикла «Записки охотника»: «Всякий охотник до ружья и до собаки – страстный почитатель благороднейшего животного в мире: лошади» [Тургенев 1978а, 3: 172–173]. В первом абзаце «Пэгаза» Тургенев открыто спорит с утверждением Бюффона и пишет, что собака «гораздо больше, чем лошадь, заслуживает название “самого благородного его [человека] завоевания” – по известному выражению Бюффона» [Тургенев 1978а, 11:157]. Пушкин в черновике статьи «О прозе» (1822), опубликованном лишь через год после смерти Тургенева, спорил с тем же самым утверждением: «Д’Аламбер сказал однажды Лагарпу: “Не выхваляйте мне Бюфона. Этот человек пишет: Благороднейшее изо всех приобретений человека было сие животное гордое, пылкое и проч. Зачем просто не сказать лошадь”. <…> Точность и краткость – вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей – без них блестящие выражения ни кчему не служат» [Пушкин 1977–1979, 7: 12–13].
[Закрыть].
Далее в склонности к этому он упрекает поэта В. Г. Бенедиктова и Виктора Гюго, после чего, в противовес им, превозносит описания природы у Шекспира и Пушкина (см. приложение 3).
Хотя его идеалом и было экотропное описание природы, на практике Тургенев сам постоянно (и особенно в романах) совершал антропотропные «вылазки», помогавшие развивать эстетические, социальные и политические цели его произведений. В сущности, как станет видно из его комментария к книге Аксакова, он сам признавал это. Яркий пример того, как Тургенев «ловит природу за хвост», можно найти в повести «Ася» (1857). Описывая заглавную героиню, рассказчик называет ее «хамелеоном», отмечает, что она «дика, проворна и молчалива, как зверек», обладает «полудикой прелестью»; она жаждет отрастить крылья, взвиться и полететь, а голову прячет, как «испуганная птичка» [Тургенев 1978а, 5: 163, 169, 174, 176, 186]. В ней соединяются человеческие и животные черты, последние при этом служат метафорой ее непредсказуемой натуры и жажды свободы. Удивительнее всего попытка рассказчика спроецировать свои отношения с Асей на миф об Ацисе и Галатее: «Она сложена, как маленькая рафаэлевская Галатея в Фарнезине. <…> Асе нужен герой, необыкновенный человек – или живописный пастух в горном ущелье» [Тургенев 1978а, 5: 162, 173]. На знаменитой фреске (около 1514 года), созданной для римской виллы Фарнезины, изображен апофеоз нереиды Галатеи, которая спасается от домогательств Полифема, убившего ее возлюбленного, пастуха Ациса[42]42
Рафаэль взял за основу сюжета для своей фрески рассказ Овидия из книги тринадцатой «Метаморфоз» в пересказе Полициано конца XV века («Стансы на турнир»). См. [Полициано 2013; Kinkead 1970]. О горячей любви Тургенева к Рафаэлю см. [Pearson 1981: 364–368].
[Закрыть]. Наполовину в воде, наполовину в небе, Галатея стоит на колеснице-раковине, запряженной двумя дельфинами (один из которых пожирает осьминога), в окружении нескольких фигур, соединяющих в себе человеческое и нечеловеческое: Тритона (получеловека-полурыбы), сжимающего в объятиях морскую нимфу; наполовину женщины, наполовину морского змея, которая обнимает кентавра; частично покрытого рыбьей чешуей человека, дующего в рог; дующего в раковину всадника и крылатых ангелочков-путти вверху и внизу фрески. Перед нами в вакханалии живописного антропотропизма предстает вихрь животных и их черт, используемых во вполне человеческих, аллегорических целях. И в первую очередь этим целям служат гибриды людей и животных. Как и Ася, которая «сложена» словно Галатея, гибриды эти тоже «сложены», но в значении «составлены из отдельных частей». Более того, все фигуры находятся в разного рода подчинении, за исключением двух – Тритона и Галатеи. Как мы увидим в следующих главах, живой интерес Тургенева к подобным, ориентированным на человека образам природы проявлялся неоднократно.
Если говорить более обобщенно, антропотропной ориентированностью могут быть наделены сами герои книг. Рассмотрим в качестве примера следующий фрагмент из наиболее известного произведения Тургенева – романа «Отцы и дети». Главный герой – Евгений Базаров, молодой студент-медик и нигилист. Его антагонист – Павел Петрович Кирсанов, главный представитель романтического либерализма, характерного для старшего поколения, педантичный и высокомерный англоман. В пятой главе романа Базаров возвращается после утреннего сбора образцов для исследования:
– Что это у вас, пиявки? – спросил Павел Петрович.
– Нет, лягушки.
– Вы их едите или разводите?
– Для опытов, – равнодушно проговорил Базаров и ушел в дом [Тургенев 1978а, 7: 26].
Этот диалог может показаться совершенно незначительным, однако на деле представляет собой мастерски выстроенную биологическую иллюстрацию глубочайших различий между поколениями, к которым принадлежат герои. Отправляясь на болото во времена Павла Петровича, доктора собирали пиявок – водных кольчатых червей, которые сажались на тело пациента и высасывали у него кровь. Использовались они в различных целях, некоторые из которых, с точки зрения современной медицины, совершенно нелепы, а другие имеют вполне научное обоснование. Человек обманывает паразита, чтобы тот стал симбионтом. Медицинское же мировоззрение Базарова в корне отличается: он собирает амфибий, значительно более сложные формы жизни, чья анатомия сходна с анатомией человека. «Я лягушку распластаю да посмотрю, что у нее там внутри делается; а так как мы с тобой те же лягушки, только что на ногах ходим, я и буду знать, что и у нас внутри делается» [Тургенев 1978а, 7: 21–22], – объясняет Базаров любопытному дворовому мальчишке ранее в той же главе. Прогрессивный подход Базарова основан на антропотропных предположениях: лягушка представляет собой аналог человеческого существа, в отличие от пиявки, чей способ питания может быть использован человеком для улучшения своего здоровья. Базаров изувечивает лягушку и лишает ее жизни, принося животное в жертву, поскольку оно, в сущности, является удобной медицинской метафорой. Человек получает пользу, а животное умирает в мучениях на столе для вивисекции. Базаровский сбор лягушек тонко, но пугающе дает понять, насколько беспощадно его революционное мировоззрение и насколько огромна пропасть между взглядами двух поколений на то, как человек может и должен взаимодействовать с миром природы.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































