Текст книги "Природа охотника. Тургенев и органический мир"
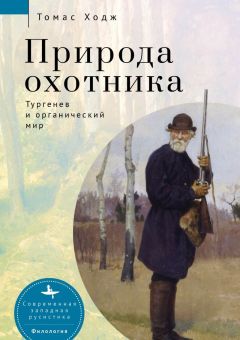
Автор книги: Томас Ходж
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Охотничьи произведения Тургенева
Тургенев, сохранявший страсть к охоте практически до самого конца жизни, создал в 1870-х и 1880-х годах несколько нехудожественных произведений в аксаковском духе, непосредственно посвященных этому своему увлечению и поразительным образом согласующихся с его собственными ранними сочинениями на эту тему За два десятилетия до того у него совершенно очевидно не получилось написать практические статьи для охотничьего сборника Аксакова, однако сейчас, уже пройдя апогей своего художественного творчества, он осознал, что внутреннее сопротивление перед этой задачей отступает. Первая из этих работ, «Пэгаз», была написана в Париже в декабре 1871 года и посвящена одному из главных любимцев Тургенева – собственно Пэгазу, помеси немецкой овчарки и английского сеттера, многократно проявлявшему свои выдающиеся охотничьи качества[100]100
В письме к И. П. Борисову из Парижа от 28 января (9 февраля) 1865 года Тургенев отмечал: «Пес такой, что целой вселенной на удивление – коронованные особы <…> перед ним шапки ломают – и предлагают мне громадные суммы… Он так отыскивает всякого раненого зверя, птицу – что на легенду сбивается, право… Спросите любого мальчугана в Великом герцогстве Баденском: а слыхал ты о Пегазе, собаке одного русского в Бадене? – так он о русском ничего не знает – а Пегаза знает!» [Тургенев 19786, 6: 98].
[Закрыть].
Хотя в творческом наследии Тургенева и нет руководства по охоте вакселевского типа, это его страстное увлечение нашло непосредственное выражение в небольшой и довольно мало известной статье «Пятьдесят недостатков ружейного охотника и пятьдесят недостатков легавой собаки» (1876), опубликованной им в «Журнале охоты» за семь лет до смерти (см. полный текст в приложении 4)[101]101
Впервые опубликовано в: Журнал охоты. 1876. Т. 4, № 6. С. 1–5. Текст приводится по [Тургенев 1978а, 10: 272–277].
[Закрыть]. Сформулированные в виде лаконичных запретов «Пятьдесят недостатков» – это руководство по охоте в миниатюре, сокровищница идеалов и законов ружейной охоты, которые Тургенев пестовал на протяжении всей жизни и в той или иной форме включал в свои художественные произведения. Именно поэтому они представляют собой важнейший документ-источник.
Основанная на отрицании структура «Пятидесяти недостатков» также характерна и для подхода Тургенева к рассказам и романам, в которых он естественным образом тяготел к историям недостатков и неудач; герои же позитивисты и счастливые развязки в духе Чернышевского были чужды его художественному видению. Согласуется подобная риторическая структура и с тургеневским восприятием охоты как упражнения в самообладании, противостоящем необоснованной импульсивности, что отражает равновесие, лежащее, по его мнению, в основе жизни природного мира. Отдельные проблески юмора, особенно в недостатке охотника № 50 («Не дает товарищам хвастаться или даже прилгать в своем присутствии… негуманная черта!»), перевешиваются серьезным взглядом на это занятие, которое Тургенев усвоил от Афанасия Алифанова: охота – дело нешуточное. Решение включить равное количество недостатков охотника и собаки отражает обыкновение Тургенева, перенятое им у Гёте и Шеллинга, смотреть на животных и людей в одной экзистенциальной плоскости и напоминает нам о его вере, которую разделяли Аксаков и Блаз, в то, что «хорошая собака – хороший охотник, хороший охотник – хорошая собака» [Blaze 1837: 27, 353, 366]. Этот прием выводит на передний план партнерство человека и собаки, лежащее в основе ружейной охоты. Преобладание в его творчестве бинарных оппозиций, подкрепленное ранним погружением Тургенева в гегельянскую философию, повторяется здесь не только в присущей «Пятидесяти недостаткам» дихотомии «человек – собака», но также в заявленной позиции автора по поводу того, как следует читать это миниатюрное руководство: «Если же кому придет в голову спросить меня, зачем я не перечислил достоинств охотника и собаки, то я отвечу, что на эти достоинства указывают самые недостатки: стоит только взять их противоположную сторону».
Достоинства, которые мы можем вывести из данного списка, со всей очевидностью отражают реальный охотничий опыт Тургенева, рассмотренный в главе второй: ранний подъем (недостаток охотника № 1), бесшумность (недостаток охотника № 39), выносливость (недостатки охотника № 2,47), использование подходящей одежды и экипировки (недостатки охотника № 6, 7, 43, 44) и внимание к потребностям собаки (недостатки охотника № 10–16). Некоторые из нареканий звучат так, будто направлены писателем в свой адрес: «Нетерпелив, легко раздражается, досадует на себя, теряет хладнокровие и неизбежно начинает дурно стрелять» (недостаток охотника № 3) или «Слишком много ест и пьет на охоте» (недостаток охотника № 45). Некоторые до боли напоминают о сценах с боявшейся ружейных выстрелов Бубулькой (недостаток легавой собаки № 35) или нерешительной собакой, которую он испытывал в Содене в 1860 году (недостатки легавой собаки № 2,6).
Самое важное из всех тургеневских замечаний является также одним из самых пространных – недостаток охотника № 9: «Не приметлив, не обращает внимания на привычки дичи, на условия местности и времени – или хочет всё переупрямить: и дичь, и собаку, и погоду, и самую природу». Комментарий этот заключает в себе самую суть ружейной охоты, нашедшую отражение в аксаковских «Записках ружейного охотника Оренбургской губернии» и тургеневской рецензии на них: чуткое наблюдение за своей дичью и за своей собакой, а также внимательное изучение самого мира природы. Экотропные достоинства, подразумеваемые недостатком № 9, на самом деле сосредотачивают в себе все достоинства, выводимые из всех остальных недостатков охотника, включенных в составленный Тургеневым перечень. Недостаток охотника № 9, первостепенный недостаток (практически смертный грех), изначально присущ гоньбе и псовой охоте, и именно он способствовал тому, что русские охотники стали отходить от этих традиционных форм охоты в середине XIX века и всё чаще обращаться к охоте ружейной, резкий рост популярности которой пришелся как раз на это время. Таким образом, «Пятьдесят недостатков» служат одновременно обвинительным заключением в отношении эпически грандиозных видов охоты, которые Тургенев отвергал, и систематизированным прославлением правил охоты ружейной. Охотничьи идеалы, закрепленные в «Пятидесяти недостатках», можно смело отнести также и к характерным особенностям тургеневского литературного стиля: наблюдательность, внимательность к деталям и контексту эпохи, гибкость и желание подчинять персонажей и сюжеты непредсказуемому течению равнодушной природы. Значение, которое Тургенев придавал тому, что желание «всё переупрямить» является недостатком, отражается вдобавок еще и в его неизбывном стремлении не оставаться в плену догм и стандартизированных систем, а также не спешить с нравственными осуждениями.
Тургенев вернулся к охотничьим сюжетам в цикле стихотворений в прозе, написанных с 1878 по 1882 годы и озаглавленных «Senilia». Особый интерес в этом отношении представляют «Воробей» и «Куропатки». Сюжеты «Воробья» и еще одной написанной в поздние годы, но не вошедшей в цикл истории «Перепелка» (1882) вращаются вокруг птиц, которые, повинуясь родительскому инстинкту, отвлекают хищников от своих детенышей. Подобное поведение часто отмечал и Аксаков, в особенности у семейств ржанковых и бекасовых[102]102
См. замечания Аксакова в «Записках ружейного охотника Оренбургской губернии» о болотных куликах [Аксаков 1955–1956, 4: 204], травниках [Аксаков 1955–1956,4: 214–215], лысухах [Аксаков 1955–1956,4: 304], кроншнепах [Аксаков 1955–1956, 4: 338] и кречетках [Аксаков 1955–1956, 4: 344].
[Закрыть]. В «Воробье» (апрель 1878 года) рассказчик возвращается с охоты со своей собакой Трезором и становится свидетелем того, как взрослый воробей храбро защищает своего выпавшего из гнезда оперившегося птенца. Стихотворение в прозе «Куропатки» было завершено в июне 1882 года, когда Тургенев уже страдал от рака позвоночника, который станет причиной его смерти четырнадцать месяцев спустя. Лежа в постели и мучаясь от боли, рассказчик задается вопросом, за что ему послано это страдание, и отказывается признавать, что заслужил его. Затем он представляет себе семейку молодых куропаток, весело прячущихся в густом жнивье. Неожиданно их вспугивает собака, они дружно взлетают, раздается выстрел, одна из них падает с подбитым крылом. Несчастная жертва прячется в кусте полыни[103]103
Научное название полыни горькой, Artemisia absinthium, происходит от имени богини Дианы (Артемиды). С древних времен эта ароматическая трава использовалась как глистогонное средство, а в более поздние времена – как главный, придающий ему своеобразный вкус компонент абсента. См. [Rowland, Frey 2014]. Важнейший ботанический элемент описаний природы у Тургенева, полынь, может ассоциироваться с чувством горечи (например, отвращение к жизни Санина в начале «Вешних вод» [Тургенев 1978а, 8: 255]) или, как мы увидим далее в данной главе, с галлюциногенной дезориентацией (например, приближающееся замешательство рассказчика в «Бежином луге» [Тургенев 1978а, 3: 87]).
[Закрыть]. Пока собака ищет ее, раненая птица вопрошает: «Нас было двадцать таких же, <как> я… Почему же именно я, я попалась под выстрел и должна умереть? Почему? Чем я это заслужила перед остальными моими сестрами? Это несправедливо!» Рассказчик завершает зарисовку сравнением умирающей птицы с собственной жизнью и безотрадно обращается к самому себе: «Лежи, больное существо, пока смерть тебя сыщет» [Тургенев 1978а, 10: 187]. Последней завершенной им охотничьей историей стала «Перепелка», в которой рассказчик вспоминает детство и горюет над матерью-перепелкой, полетевшей в сторону, чтобы отвлечь охотников от спрятанных детенышей, и убитой Трезором, легавой собакой его отца. Тургенев, которому всю его жизнь не давало покоя подобное отважное родительское самопожертвование, утверждал, что впервые столкнулся с ним, будучи десяти лет от роду, а в 1849 году он писал Полине Виардо о таком же поведении куропатки, свидетелем которого стал во Франции тем летом[104]104
См. [Тургенев 19786, 1: 433]. В этом письме к Полине Виардо Тургенев объясняет, что куропатки отлично разыгрывают драматические представления: они могут притвориться ранеными, чтобы отвлечь собак и охотников от своих птенцов. Далее он рассказывает, как за два дня до того Султан (охотничья собака, которую он взял на время у Луи Виардо) схватил такую куропатку-мать, но, «так как он – perfect gentleman [совершенный джентльмен]», птица осталась нетронутой, и Тургенев «возвратил свободу этой отважной матери и слишком хорошей актрисе».
[Закрыть].
«Записки охотника» и структура полевых заметок
«Записки охотника» появились на пике краткого подъема русской охотничьей литературы, пришедшегося на середину XIX века, но Тургенев сделал нечто значительно более масштабное, нежели его современники, привнеся в свои охотничьи истории потрясающую стилистическую изысканность и наполнив их множеством примеров человеческого стремления угнетать: раз за разом мы сталкиваемся с желанием персонажей подчинять чужую волю произвольным велениям собственной воли, осуществлять произвол. Томас Хойзингтон в своем исследовании тургеневского цикла сформулировал эту мысль так: «Мир как целое может быть разделен на две общие группы: гонители и гонимые» [Hoisington 1997: 93]. Если воспользоваться биологической терминологией, эти рассказы являют собой полевые заметки о поведении хищников и жертв – мучительном взаимодействии человеческих существ, находящихся на разных уровнях пищевой цепи. Сцены природы представляют разительный контраст с до боли частым гонением одного человека другим, постоянно, но при этом ненавязчиво напоминая читателям о том, насколько вопиюще подобное поведение в органическом мире, неотъемлемой (хоть и диссонирующей) частью которого являются люди. Иногда этот прием реализуется в экотропных терминах, с соблюдением автономии животных и сохранением безразличия природных явлений по отношению к наблюдающим их людям. В иных же местах Тургенев использует антропотропную апроприацию флоры и фауны, которые выступают в роли образов и эмблем, отсылающих к сфере человеческого. Структурно «Записки охотника» в некоторой степени напоминают охотничий справочник-определитель, содержащий наблюдения, в которых Тургенев впервые испытал пределы охотничьего типа равновесия и исследовал парадоксы того, что Дейл Питерсон назвал «культурной экологией деревенской России» [Peterson 2000: 93][105]105
См. обзор первых русских охотничьих справочников-определителей и трактатов в [Durkin 2003: 7-12].
[Закрыть].
Исследуя контекст, в котором создавались «Записки охотника», трудно не учитывать стремление к отмене крепостного права, непосредственно связанное с любовью Тургенева к охоте. В 1852 году Ваксель, помимо прочего еще и талантливый иллюстратор, нарисовал карикатуру, изображающую сенатора М. Н. Мусина-Пушкина, попечителя Санкт-Петербургского учебного округа, наблюдающего за тем, как по его приказанию сжигают «Записки охотника». Мусин-Пушкин, которого считали «главным инициатором заключения Тургенева под стражу», уже конфисковал у Тургенева ружье и рукописи, а теперь указывает на тюрьму-крепость на вершине холма, писатель же в охотничьей одежде, но уже с закованными в кандалы ногами бесстрастно смотрит перед собой [Waddington 1999: б][106]106
Известны также несколько других карикатур работы Вакселя, изображающих Тургенева; см. [Тургенев 19786, 2: 582; Waddington 1999: 6–7]. Кроме того, в 1854 году Ваксель изобразил Л. Н. Толстого; см. [Цакни 1939].
[Закрыть]. За спиной Тургенева полицейский незаметно вытаскивает у него из ягдташа не то страницы рукописи, не то мертвую птицу. Ваксель изображает Тургенева охотником, которого грубо прервали во время его любимого занятия, как могли бы это сделать, например, инспектора, осуществляющие контроль за соблюдением законов об охоте.
Герцен, в 1850 году назвавший «Записки охотника» шедевром[107]107
В работе «О развитии революционных идей в России» Герцен использует фразу «1е chef dbeuvre de J. Tourgueneff Recits du Chasseur» («шедевр И. Тургенева “Записки охотника”»; фр.) [Герцен 1954–1965, 7: 97, 228].
[Закрыть], также воспринимал этот цикл как своего рода охоту Тургенева, мишенью которой было крепостничество:
Аристократическая Россия отступала на второй план, ее голос стал слабеть; может, она, как Николай, была сконфужена событиями 1848 года. Чтоб оставаться народной в литературе, ей пришлось оставить городскую жизнь, взять охотничье ружье и бить по земле и на лету дичь крепостного права [Герцен 1954–1965, 17: 102].
Герцен уверен, что эта метафорическая охота преуспела в освещении глубин этого ужасающего института:
Никогда еще внутренняя жизнь помещичьего дома не подвергалась такому всеобщему осмеянию, не вызывала такого отвращения и ненависти. При этом надо отметить, что Тургенев никогда не сгущает краски, не употребляет энергических выражений, напротив, он рассказывает совершенно невозмутимо, пользуясь только изящным слогом, что необычайно усиливает впечатление от этого поэтически написанного обвинительного акта против крепостничества. <…> [Его художественное мастерство], устояв перед двойною цензурой, заставляет нас содрогаться от ярости при виде этого тяжкого, нечеловеческого страдания, от которого изнемогает одно поколение за другим, без надежды, не только с оскорбленною душой, но и с искалеченным телом [Герцен 1954–1965, 13: 177].
Вполне возможно, что Тургенева на создание очерков и рассказов, вошедших в «Записки охотника», подстегнул роман самого Герцена «Кто виноват?» (печатался выпусками в журнале «Отечественные записки» в 1845–1846 годах, отдельным изданием вышел в 1847 году), который Эйлин Келли назвала «самым смелым и прямым произведением 1840-х годов, критикующим крепостничество» [Kelly 2016: 169].
Оглядываясь в 1867 году на двадцать лет назад, когда он только начинал работу над циклом, Тургенев и сам видел в «Записках» литературное воплощение борьбы с крепостным правом:
Тот быт, та среда и особенно та полоса ее, если можно так выразиться, к которой я принадлежал – полоса помещичья, крепостная, – не представляли ничего такого, что могло бы удержать меня. Напротив: почти всё, что я видел вокруг себя, возбуждало во мне чувства смущения, негодования – отвращения, наконец. <…>
Я не мог дышать одним воздухом, оставаться рядом с тем, что я возненавидел. <…> Мне необходимо нужно было удалиться от моего врага затем, чтобы из самой моей дали сильнее напасть на него. В моих глазах враг этот имел определенный образ, носил известное имя: враг этот был – крепостное право. Под этим именем я собрал и сосредоточил всё, против чего я решился бороться до конца, с чем я поклялся никогда не примиряться… Это была моя аннибаловская клятва [Тургенев 1978а, 11: 8–9].
Эти замечания указывают на такое же нравственное отвращение, которое, по мнению Герцена, «Записки охотника» вызывали у читателей. По словам самого Тургенева, его знаменитый цикл больше похож не на охотничий выезд, а на военное противостояние неравных сил: одинокий писатель против воплощения бескрайней и порочной социальной системы. Эдмон де Гонкур приводит 2 марта 1872 года в дневнике слова Тургенева о том, что «Записки охотника» повлияли на решение Александра II отменить крепостное право:
Будь я человеком тщеславным, я попросил бы, чтобы на моей могиле написали лишь одно: что моя книга содействовала освобождению крепостных. <…> Император Александр велел передать мне, что чтение моей книги было одной из главных причин, побудивших его принять решение[108]108
Цит. по: [Петров, Фридлянд 1983: 263]. См. также [Гутьяр 1907: 165].
[Закрыть].
Хотя в этих утверждениях и видна изрядная доля ретроспективного самовосхваления, Леонард Шапиро все-таки прав, когда отмечает, что «эффективность историй как оружия против крепостного права несомненна» [Schapiro 1982: 66].
Начиная эту метафорическую битву, Тургенев вполне мог выбрать для своего цикла более традиционного повествователя, приняв, например, что-то вроде иронической точки зрения герценовского всеведущего наблюдателя в только что вышедшем из печати «Кто виноват?». Подобное решение сделало бы «Записки» скорее чем-то наподобие сатирического трактата, в который роман Герцена временами превращается. Тургенев также мог сильнее завуалировать свой образ, не заостряя внимание на отсылках к охоте и скрываясь за разнообразными повествовательными рамками, которые он использовал в трех рассказах, предшествовавших «Запискам охотника»: «Андрей Колосов» (1844), «Три портрета» (1845), «Жид» (1846). Действительно, охота присутствует в двух из этих ранних произведений: главный рассказчик «Андрея Колосова» косвенно упоминает свое увлечение охотой, а основной сюжет «Трех портретов» представляет собой рассказ помещика Лучинова, который развлекает пятерых «записных охотников», собравшихся в его поместье осенним вечером после псовой охоты на волков и зайцев [Тургенев 1978а, 4: 9, 81]. В «Бретере» (1846), вероятно последнем рассказе, написанном Тургеневым перед тем, как он взялся за «Хоря и Калиныча», секундант Кистера говорит перед роковой дуэлью с Лучковым: «Мы его подстрелим, как куропатку» [Тургенев 1978а, 4: 78], но больше в тексте прямых отсылок к охоте нет. И ни в одной из этих ранних историй охота не играет такой же центральной роли, как в «Записках охотника».
Однако, создавая образ героя-повествователя на отчасти автобиографическом материале, Тургенев наполняет действие «Записок охотника» глубоко личной близостью с собственным жизненным опытом, что придает циклу лирическую непосредственность и краеведческую убедительность, которые подкрепляются еще и охотничьими реалиями. Наш главный герой (некий, как мы – хоть и не сразу – узнаем, Петр Петрович) родом из Костомарова, всего в десяти верстах к северо-западу от тургеневского родного Спасского-Лутовинова, сразу же за границей Тульской губернии [Тургенев 1978а, 3: 25, 326–327]. Сделать рассказчика, через призму восприятия которого мы видим изображаемые в цикле события, местным ружейным охотником было умным и тонким решением по целому ряду причин. Это дало Тургеневу возможность писать совершенно естественно, пользуясь своим колоссальным личным опытом, который он, приближаясь к тридцати годам, накопил на охотах, а кроме того, благодаря этому действие оказалось привязано к деревне, органически укорененной в ландшафте русской провинции. Странствующий охотник мог квазипикарескным образом натолкнуться на множество русских мужчин, женщин и детей из всех социальных слоев в самых разных ситуациях их повседневной жизни (а порой и смерти). Как заявляет сам рассказчик в первом же предложении «Лебедяни»: «Одна из главных выгод охоты, любезные мои читатели, состоит в том, что она заставляет вас беспрестанно переезжать с места на место, что для человека незанятого весьма приятно» [Тургенев 1978а, 3:172]. Похожая мысль звучит и в «Певцах»: «Но наш брат, охотник, куда не заходит!» [Тургенев 1978а, 3: 212][109]109
См. рассуждения Одесской о естественной тенденции охотника встречать всё многообразие человеческих типов и обстановок [Одесская 2000:204–205].
[Закрыть]. К тому же бесшумная бдительность, без которой немыслима именно ружейная охота, усиливает наше ощущение того, что практически ничто не ускользает от внимания этого рассказчика-путешественника.
Что, возможно, еще более важно, ружейная охота – в противовес псовой охоте и гоньбе – во времена Тургенева как раз обретала всё более либеральный подтекст. Как утверждает Генриетта Мондри,
крестьяне ассоциировали борзых и гончих с их могущественными хозяевами, а потому ненавидели. В особенности борзые в русских литературных произведениях часто упоминались именно в связи с тем, насколько они были более ценны для помещиков в сравнении с крепостными и их детьми [Mondry 2015: 38][110]110
Заоблачная стоимость охотничьих собак в XIX веке обусловила появление историй о помещиках, которые приставляли к своим бесценным щенкам крепостных кормилиц [Mondry 2015: 31–37] и могли затравить провинившегося крепостного ребенка гончими [Mondry 2015: 46–48]. Вторая из них стала основой одного из рассказов Ивана Карамазова о человеческой порочности в четвертой главе («Бунт») пятой книги «Братьев Карамазовых» Достоевского [Достоевский 1972–1990, 14: 221].
[Закрыть].
Ретроградность псовой охоты и гоньбы не раз тонко затрагивается в цикле. Таким образом, ружейная охота повествователя была, с одной стороны, невинным увлечением, но, с другой стороны, ниспровержением традиционных общественных порядков, включая и те порядки, которые поддерживали существующее угнетение.
И всё же этот рассказчик-охотник – персонаж далеко не очевидно автобиографический. Тургенев искусно опускает ряд собственных охотничьих привычек, рассмотренных нами в главе второй, которые подорвали бы нравственный авторитет персонажа как наблюдателя социальной несправедливости. Здесь нет пышных походных пиров, дурного настроения и недомоганий. Вместо обычной для Тургенева группы из нескольких слуг – всего один крестьянин-проводник – Ермолай, что делает главного героя в глазах читателя надежным наблюдателем тяжкой доли крепостных. Хотя егеря играли ключевую роль в ходе псовой охоты и гоньбы, общение между ними и господами в процессе преследования зверя было крайне ограниченно. На ружейной же охоте дворянина-охотника сопровождал пешком по нескольку дней кряду крестьянин, обычно намного лучше разбиравшийся в премудростях охоты. Наш рассказчик подчеркивает несравненное мастерство Ермолая уже в самом начале «Ермолая и мельничихи», но щедро перечисляет и многочисленные личные недостатки своего проводника. Таким образом, Петр Петрович предстает наблюдателем, который, с одной стороны, признает превосходство крестьянина в деле, которому он, дворянин, горячо предан, но, с другой стороны, крестьянина этого вовсе не идеализирует. В равной степени вслед за Ньюлином можно сказать, что рассказчик в определенном смысле неумеха, временами «поразительно праздный» и как охотник совершенно не обладает теми собранностью и мастерством, которые, насколько известно, отличали Тургенева в реальной жизни [Newlin 2003: 80]. Другими словами, наш костомаровский помещик непредвзят в своих наблюдениях социальных механизмов, поскольку признает авторитет и компетентность, когда они заслужены, а не даны по праву рождения. Биографические данные свидетельствуют, что именно так Тургенев относился к Афанасию Алифанову, видя в нем человека, чьи пороки и социальный статус не мешали ему быть мастером охоты, на одном уровне с Аксаковым и Блазом.
Принимая во внимание характер занятий рассказчика и момент появления цикла, читатели-современники вполне естественно могли воспринимать «Записки охотника» в аксаковском свете, то есть как что-то вроде статей в справочнике-определителе или карманной книжке охотника-натуралиста. «Записки об уженье рыбы» Аксакова впервые вышли в феврале 1847 года, примерно через месяц после того, как Тургенев опубликовал открывающий цикл очерк «Хорь и Калиныч», охотничьи же «Записки» Аксакова были опубликованы в марте 1852 года, приблизительно за пять месяцев до того, как читатели смогли приобрести сборник Тургенева отдельным томом. И охотничьи труды Аксакова, и цикл Тургенева объединяет обозначение «Записки», и, хотя заголовок «Записки охотника» придумал не сам Тургенев, именно он решил его сохранить[111]111
Полезный обзор переплетающихся историй создания «Записок» Тургенева и Аксакова см. в [Борисова 2018]. Борисова даже высказывает предположение, что Некрасов намеренно выбрал для «Записок охотника» Тургенева название, предложенное Панаевым, чтобы воспользоваться энтузиазмом читающей публики на волне недавно опубликованных «Записок об уженье рыбы» Аксакова, и что Аксаков намеренно поменял заголовок своего охотничьего труда, чтобы тот не совпал полностью с тургеневскими просто «Записками охотника», и он мог более ясно «подчеркнуть свой приоритет» [Борисова 2018: 173].
[Закрыть]. Некоторые отрывки в обеих книгах очень похожи друг на друга, как, например, тургеневское выразительное, написанное во втором лице и раскрывающееся одновременно через зрение, слух и обоняние описание ружейной охоты на вальдшнепов на тяге в «Ермолае и мельничихе» и аксаковский лирический рассказ, написанный примерно через два года, ровно о такой же охоте в главе «Записок ружейного охотника Оренбургской губернии», посвященной вальдшнепам [Тургенев 1978а, 3: 19; Аксаков 1955–1956, 4: 444–445]. Специалист по творчеству Аксакова В. В. Борисова в недавней публикации предположила, что «в диалогическом контексте жизни и творчества Тургенева и Аксакова “Записки охотника” и “Записки ружейного охотника Оренбургской губернии” представляют собой своеобразный диптих, во многом тематически, идейно и стилистически однородный» [Борисова 2018: 180].
Убедительность описания людей и пейзажей в тургеневских «Записках» натолкнула в начале XX века М. О. Гершензона на мысль о том, что книгу можно рассматривать как своего рода зоопарк:
«Записки Охотника» – словно прекрасный зоологический сад: какие очаровательные звери, каждый в другом роде, но все – особенные, занятные, самобытные, личные – Хорь, Калиныч, бурмистр Софрон, Бирюк, Чертопханов, Радилов, и сколько, сколько еще! <…> Хорошо, что Тургенев дал их все не в фабулах, как зверей в клетках, а показал их в свободном состоянии. И между ними, как в больших зоологических садах, стелятся луга, шумят вершинами рощи, текут речки [Гершензон 1919: 70].
Метафора зоопарка представляется весьма уничижительной. Было бы уместнее говорить о литературном воплощении зоопарка – бестиарии– или, еще лучше, чтобы не уводить наше обсуждение от окружавшей Тургенева среды, об эквиваленте бестиария в России середины XIX века – охотничьем трактате, справочнике с основными сведениями о различных представителях фауны (и иногда флоры). Мысль о том, чтобы рассматривать тургеневский сборник как нечто сродни справочнику-определителю различных подвидов человеческого рода, населявших деревенскую Россию того времени, не так уж и надуманна, как может показаться. Более того, на мой взгляд, она позволяет нам глубже понять многообразную риторическую эффективность книги: от ее «могучего освободительного пафоса» [Peterson 1989: 55] до создания ярчайших лирических откликов на природную среду во всей русской литературе. Я не хочу сказать, что «Записки охотника» действительно посвящены исключительно охоте как таковой, но, с моей точки зрения, сотканы они именно из природных материалов и приемов охоты. В дальнейшем обсуждении я надеюсь продемонстрировать, что, даже применяя в качестве шаблона охотничьи полевые заметки и пользуясь культурным резонансом руководств по охоте, Тургенев неизменно бросал вызов данной парадигме и преодолевал ее, добавляя таким образом новые уровни сложности в свою концепцию органического мира.
Благодаря советскому исследователю М. К. Клеману нам известно, каких усилий стоило Тургеневу выбрать заглавия и определить порядок следования рассказов, образующих цикл, когда пришло время объединить их для публикации отдельным изданием [Клеман 1941; Тургенев 1978а, 3: 373–384]. Названия двадцати двух из них, первоначально вошедших в «Записки охотника», можно разделить на две группы: эпонимические (тринадцать рассказов) и топонимические (восемь рассказов)[112]112
«Смерть» я отношу к топонимической категории. Добавив в 1870-х годах в «Записки охотника» еще три рассказа, Тургенев отошел от изначального подхода с противопоставлением эпонимических и топонимических заглавий.
[Закрыть]. Лишь в двух заглавиях – «Касьян с Красивой Мечи» и «Гамлет Щигровского уезда» – объединены имя и топоним, что подчеркивает глубокую связь Касьяна с природной средой, которую он защищает, и ироничный разрыв между «Гамлетом» и окружающим его миром русской провинции. Параллель между произведениями Аксакова и Тургенева станет еще более явной, если вспомнить, что главы в трудах Аксакова о рыбной ловле и об охоте (за вычетом примерно дюжины вводных, посвященных снаряжению) поименованы названиями соответствующих птиц и рыб («Красноножка, щеголь», «Серая утка», «Форель, пеструшка», «Карась» и т. д.), а в охотничьих записках к ним прибавляются также подробные разборы мест их обитания, в каждом случае имеющие собственные заглавия: «Болота», «Воды», «Степь» и «Лес».
«Русский народ на прозвища мастер» [Тургенев 1978а, 3: 216], – говорит рассказчик в «Певцах», и фраза эта дает нам понять, что внимательное изучение того, как именно Тургенев называет своих персонажей, не лишено смысла. Несколько эпонимических заглавий представляют собой занятия или характеристики героев, а иногда и то и другое вместе («Бурмистр», «Бирюк», «Однодворец Овсяников», «Два помещика»), но большинство из них – это личные имена. Открывающий цикл очерк «Хорь и Калиныч» совершенно не случайно начинается с прозвища, образованного от названия животного. Калиныч же, чью фамилию мы так и не узнаем, – это отчество, и значит, что отца персонажа звали Калина. Это разговорная форма имени Каллиник, образованного от греческих слов κάλλος – ‘красота’ и νίκη – ‘победа’ [Петровский 2000: 157]. Есть у этого имени и ботаническое значение: калина – растение рода Viburnum (как правило, Viburnum opulus), известное своими ягодами, прославленными популярной песней в народном духе И. П. Ларионова «Калинка» (1860). Таким образом, два заглавных героя – Хорь и Калиныч – носят имена, прямо и косвенно связанные с фауной и флорой, символически охватывая всю полноту живой природы. Кроме того, из приблизительно девяноста фамилий и прозвищ персонажей-людей, упоминаемых в «Записках охотника», более 20 % связано с животными, растениями или природными объектами[113]113
С животными связаны четырнадцать прозвищ и фамилий (в ряде случаевуказанные ниже этимологии имеют предположительный характер и речь может идти скорее о созвучиях): Хорь (=Mustela putorius), Пичуков (<пичуга), Зверков (<зверь), Карасиков (<карась=Carassius auratus), Блоха (=отряд Siphonaptera), Пеночкин (<пеночка=род Phylloscopus), Бирюк (=волк-одиночка [нар. – разг.]), Кобылятников (<кобылятник<кобылятина<кобыла=самка Equus cabalius; у Тургенева фамилия в тексте написана во французской транслитерации – Kobyliatnikoff), Касаткин (<касатка=Hirundo rustica), Кулик (=подотряд Charadrii), Горностаев (<горностай=Mustela erminea), Бобров (<бобр=Castor fi ber), Козельский (<козел=Capra hircus), Хряк (=самец Sus scrofa domesticus). Шесть имеют прямое или опосредованное отношение к растениям: Овсяников (овсяник<овес=род Avena), Сучок, Лоснякова (<лосняк=Liparis loeselii), Ситников (<ситник=род Juncus), Крупяников (<крупяник<крупа), Чертопханов (<чертополох=род Carduus). Одно личное имя происходит от наименования природного явления: Туман. Чтобы получить представление об относительной распространенности в «Записках охотника» личных имен, связанных по своему происхождению с природой, можно воспользоваться информацией, которую Б. О. Унбегаун приводит в книге «Русские фамилии»: из списка 112 наиболее распространенных русских фамилий, составленного им по материалам адресной книги Санкт-Петербурга 1910 года, лишь девятнадцать (17 %) происходят от наименований животных, растений или природных явлений [Унбегаун 1995: 312].
[Закрыть].
Спустя двадцать лет после выхода «Записок охотника» особое внимание на взаимосвязь персонажей, места действия и социальной справедливости в книге обратил Гончаров:
И Тургенев, создавший в «Записках охотника» ряд живых миниатюр крепостного быта, конечно, не дал бы литературе тонких, мягких, полных классической простоты и истинно реальной правды, очерков мелкого барства, крестьянского люда и неподражаемых пейзажей русской природы, если б с детства не пропитался любовью к родной почве своих полей, лесов и не сохранил в душе образа страданий населяющего их люда! [Гончаров 1977–1980, 8: 143][114]114
Цитируемая статья Гончарова «Лучше поздно, чем никогда» была написана в период с 1869 по 1879 год и опубликована в 1879 году.
[Закрыть].
Для Гончарова любовь Тургенева к природе неразрывно связана с состраданием, которое он испытывает к закрепощенным крестьянам, и по раздельности эти любовь и сострадание существовать не могут. Таким образом, оценка Гончарова объединяет два основных структурных элемента цикла: изображение русских социальных типажей и изображение русского пейзажа.
Порядок рассказов в «Записках охотника» позволяет нам приблизиться к пониманию того, каким образом Тургенев мог концептуализировать равновесие между людьми и местами/ситуациями в своем произведении. Первые пять по времени написания историй названы по персонажам– эту последовательность первый раз прерывает весной 1847 года «Льгов» (название села). В дальнейшем, создавая рассказ за рассказом, Тургенев достаточно регулярно чередует эпонимические и топонимические заглавия вплоть до февраля 1851 года, когда он завершает цикл «Касьяном с Красивой Мечи» с его гибридным заглавием. Конечно же, даже истории, озаглавленные по географическим названиям, посвящены в первую очередь людям, которых главный герой встречает в этих местах: двум старикам в «Малиновой воде», торговцам лошадьми в «Лебедяни», стерегущим табун крестьянским ребятишкам в «Бежином луге» и т. д. Тем не менее, как показывает исследование Клемана, Тургенев стремился к тому, чтобы заглавия двух типов имели более равный вес, а потому решил вставить рассказ с топонимическим заглавием («Малиновая вода») после «Ермолая и мельничихи», чтобы разорвать первоначальную последовательность заглавий эпонимических. В окончательной программе для издания книги последний по времени написания рассказ «Касьян» располагается примерно после первой трети цикла, а «Лес и степь», как предполагалось во всех черновых вариантах программы, держится в резерве как замыкающий цикл очерк. Можно лишь гадать, был ли завершающий очерк Тургенева источником вдохновения для Аксакова, давшего названия «Лес» и «Степь» двум главам «Записок ружейного охотника Оренбургской губернии».
Внимание «Записок охотника» к персонажам напоминает об известном комментарии Генри Джеймса относительно тургеневской техники «досье»:
В основе произведения лежала не фабула – о ней он думал в последнюю очередь, – а изображение характеров. Вначале перед ним возникал персонаж или группа персонажей – личностей, которых ему хотелось увидеть в действии. <…> С этой целью он составлял своего рода биографию каждого персонажа. <…> Он, как говорят французы, заводил на них dossier. <…> Если читаешь Тургенева, зная, как рождались, вернее, как создавались его рассказы, то видишь его художественный метод буквально в каждой строке [Джеймс 1981:520].
Сохранявшееся до конца жизни обыкновение Тургенева сопровождать появление в тексте нового персонажа информацией о его имени, предыстории и привычках очень напоминает прием, которым пользовался Аксаков, приводя те же самые данные относительно рыб и птиц, которых он так подробно описывает в своих охотничьих трудах. Самым ярким примером может служить начало «Хоря и Калиныча», в котором речь идет о местообитании и внешних отличительных особенностях крестьян Орловской и Калужской губерний, особенно если принять во внимание, что аналогичные абзацы, которыми начинается следующая же история («Ермолай и мельничиха»), посвящены уже собственно птицам (вальдшнепам) и их брачным играм.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































