Текст книги "Природа охотника. Тургенев и органический мир"
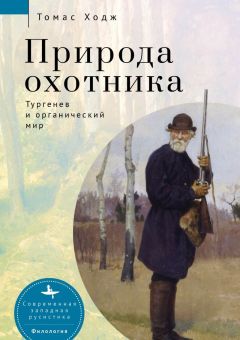
Автор книги: Томас Ходж
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Еще один отрывок, ближе к концу романа, также иллюстрирует то, как тонко Тургенев использует антропотропные приемы. Бывший последователь Базарова, молодой выпускник университета Аркадий Кирсанов, сильно влюбляется. Взбудораженный, напуганный, заикающийся, он просит руки своей возлюбленной Кати Локтевой, и она соглашается. Однако в начале этой сцены счастливый исход далеко не был очевиден: Аркадий запинался и перескакивал с мысли на мысль, а тем временем «зяблик над ним в листве березы беззаботно распевал свою песенку» [Тургенев 1978а, 7: 165]. В этом фрагменте Тургенев, с его профессиональным охотничьим знанием птиц, мягко посмеивается над извечным страхом Аркадия, придавая голосу этого классического орнитологического символа холостяцкой жизни легкость и счастье, которых в данный момент так не хватает взволнованному юноше, готовому вот-вот стать женихом. Это единственное место во всем романе, когда появляется данная конкретная птица. Латинское название зяблика Fringilla coelebs означает «холостой вьюрок». Оно «происходит от латинского слова со значением “не состоящий в браке” и указывает на преобладание самцов-зябликов зимой в северных частях ареала их обитания, в то время как самки мигрируют на юг» [Friedman, Hoyle 2004: 328][43]43
Русское слово «зяблик» связано с его миграционными привычками: «Возм., от зябнуть, потому что зяблик появляется уже с первым таянием снега и улетает только с наступлением зимы» [Фасмер 1996, 2: 111].
[Закрыть].
Зоотропные элементы повествования – лягушки, зяблики – могут показаться случайными, но при внимательном рассмотрении становятся источниками огромного количества информации, придающей глубину персонажам, сюжету, нравственному мировоззрению и атмосфере произведений Тургенева. Примеров этому очень много, и их изучение позволяет обнаружить красноречивые детали, которые могли остаться вовсе незамеченными, могли подсознательно влиять на читателей, а могли быть и обнаружены проницательными натуралистами – или охотниками, – обратившимися к творчеству Тургенева. К сожалению, в англоязычных изданиях подобные фрагменты часто затушевываются в силу того, что переводчики не справляются с передачей аксаковской точности Тургенева в именовании обитателей мира природы.
Возможно, главным внутренним противоречием тургеневского охотничьего типа равновесия является неустойчивый баланс между экотропным представлением мира природы и его антропотропным применением, между простым изображением сцены, происходящей на природе, и использованием ее с очевидно интеллектуальными целями. Хотя Тургенев и декларировал, что (перефразируя Арчибалда Маклиша) природа должна не «значить», но «быть», он часто разрывался между этими двумя полюсами[44]44
Последнее предложение стихотворения Маклиша «Ars Poetica» (1926): «Стих должен не значить, ⁄ но быть» [Маклиш 2018].
[Закрыть]. На одном были Аксаков, экотропизм, ружье и мир природы, на другом – Амбодик, антропотропизм, книга и мир домашнего очага. Помещая две эти описательные модальности в рамки наиболее известной тургеневской дихотомии, можно говорить о том, что экотропизм во многих отношениях является донкихотовским (простым, прямым, определенным), антропотропизм же – гамлетовским (сложным, эгоцентричным, неуверенным)[45]45
Как пишет М. О. Гершензон, «Тургенев сознательно всю жизнь проповедовал ту истину о Дон-Кихоте: силу, мудрость, красоту и счастье цельного духа, непреклонной воли. <…> Он завидовал Дон-Кихоту; себя самого он считал Гамлетом, и что всего важнее, переживал все муки Гамлетовой болезни» [Гершензон 1919: 79].
[Закрыть]. Как замечает Джексон, «в искусстве Тургенева понимание проистекает чаще из объективного представления, нежели из явного авторского погружения в их значимость» [Jackson 1993: 170]. Охотничий взгляд позволяет ему с высочайшим мастерством использовать весь спектр, охватывающий оба полюса, и зачастую, как, я надеюсь, будет очевидно из последующих глав, именно сложное взаимодействие этих двух противоположных методов делает тургеневские описания природы настолько яркими и достоверными. И если, как он решительно заявил во второй рецензии на книгу Аксакова, экотропный метод действительно стоит выше, то мы можем задаться вопросом, не чувствовал ли порой Тургенев свою вину за то, что неоднократно соединял изображения природы с проблемами и стремлениями людей, возможно, даже считая, что заслуживает безразличия природы как наказания за антропотропные прегрешения.
Как мы увидим, смятение Тургенева перед лицом природы, похоже, имело в своем основании горький парадокс: его мастерство передавать самую суть мира природы является побочным результатом стремления стать более искусным убийцей живых существ, а цель эта кардинально отличается от имитации «равнодушной» природы. Лишение жизни – вот что влечет любителей охоты в поля и леса, их внимательное наблюдение за флорой и фауной в конечном итоге обусловлено желанием доминировать и уничтожать, как бы уважительно, признательно или щепетильно оно ни воплощалось в жизнь. Если природа действительно находится в состоянии равновесия, как безусловно полагал Тургенев, то охотники намеренно изменяют это равновесие в сторону человеческого за счет нечеловеческого, особенно когда охотятся ради развлечения. Тургенев, в отличие, например, от какого-нибудь крестьянина, не мог успокоить себя мыслью о том, что вынужден охотиться, чтобы добывать пропитание. Будучи состоятельным любителем охоты благородного происхождения, он охотился по внутренней охоте, а не потому, что его вынуждали какие-либо внешние обстоятельства, поэтому убийство зверей и птиц было в его случае актом произвола. В своей первой пьесе «Неосторожность» (1843) он передает упоение охотника произвольной властью над жизнями диких животных:
Вы никогда не бывали на птичьей охоте? не ставили силков? не расстилали сетей? <…> А! бывали! Не правда ли, как приятно притаиться и ждать, долго ждать? Вот птички, красивые, веселые птички, начинают понемногу слетаться; сперва дичатся, робеют; потом начинают поклевывать корм ваш, ваш собственный корм; наконец, совершенно успокоятся и уж посвистывают, да так мило, так беззаботно!.. Вы протягиваете руку, дергаете веревочку: хлоп! сеть упала – все птицы ваши; вам только остается придавить им головки – приятное удовольствие! [Тургенев 1978а, 2: 19].
Здесь мы, конечно же, должны понимать различие между Доном Пабло с его ловлей сетями и Тургеневым с его ружейной охотой. Кроме того, Тургенев никогда не был садистом: особенно в поздние годы его терзали глубокие сожаления, связанные со страданиями, которые охотники причиняют животным. И всё же, несмотря на очевидную разницу между ними, стремление к охоте и у Дона Пабло, и у Тургенева имеет в своем основании один и тот же фундаментальный импульс контролировать жизнь другого существа.
Одним из возможных источников утешения для писателя-охотника было древнее представление, на которое обращали особое внимание Шеллинг и Гёте, что охотник одновременно является и добычей, потому что предполагается, что люди – это тоже животные и что они не отделены от природы. Ныряя со всей своей страстью в природный ландшафт, охотники сталкиваются с беспощадной невозмутимостью природы, они становятся частью органического мира, а не возвышаются над ним. Но искупительная сила осознания того, что охотник и его добыча суть одно и то же, притупляется ужасом, вызываемым собственной слабостью и смертностью, собственной незначительностью в глобальной экосистеме, что проиллюстрировано в тургеневском стихотворении в прозе «Куропатки» (1882). Это дилемма мыслителя и художника XIX века, оказавшегося в ловушке между утешениями религиозной веры, с одной стороны, и безжалостным случаем, о котором писали Фейербах и Дарвин, – с другой. Но тем не менее, даже несмотря на свой атеизм, Тургенев никогда не мог в полной мере принять лишенный веры в Бога и сверхъестественное научный взгляд на природу. Именно этим можно объяснить, зачем он персонифицирует ее в образе богини, или изображает языческие видения в «Нимфах» (1878), или обращается к христианскому представлению о вечной жизни в заключительной сцене «Отцов и детей», или же на закате своего творческого пути пишет истории о сверхъестественном. Всё это можно рассматривать в том числе и как ответы на чувство безысходности, вызванное непреодолимостью природы.
Тургеневу, с его переменчивым мировоззрением, охота давала практичное, неизменное, основанное на системе правил занятие – кодекс поведения и якорь в жизни. В то же время охота рисовала перед ним метафорическое видение весов с точкой опоры, коромыслом и двумя чашами, на которых сравнивалось столь многое: человеческое и нечеловеческое, страсть и бесстрастие, аллегория и наблюдение, предписание и описание, убеждение и запись, литература и естественная история и т. д. И в случае Тургенева, как писал Александр Поуп, «сомневающееся коромысло весов долго качается из стороны в сторону»[46]46
«Похищение локона» (1712–1717), песнь V, строка 73.
[Закрыть]. Вопрос же о том, кто именно (если вообще этот кто-то есть) держит весы, был для Тургенева художественно плодотворным источником мучений. Его идеальный писатель-охотник тем не менее с любовью наблюдает баланс природы и может даже иногда достичь ее равнодушия. Подобный охотничий тип равновесия мимолетен, случаен и труднодостижим. Внимательно изучая изображение природного мира в широком диапазоне произведений, мы можем понять, как Тургенев пришел к концепции этого хрупкого равновесия, как использовал ее в своих описаниях нечеловеческого мира и какое отчаяние у него вызывали некоторые выводы из данной концепции.
Глава 2
Ружье превыше лиры: Тургенев на природе
Стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей; а Иаков человеком кротким, живущим в шатрах. <…>
Иаков сказал Ревекке, матери своей: Исав, брат мой, человек косматый, а я человек гладкий.
Бытие 25:27, 27:11
[Тургенев] всегда любил охоту; для него не было большего наслаждения, как с ружьем и собакой бродить по лесам и степям. <…> Пожалуй, трудно найти более подходящую фигуру на роль северного Нимрода.
Генри Джеймс, 1888[Джеймс 1981: 515]
В письме, адресованном С. А. Толстой, Гончаров отмечал: «Да, Тургенев – трубадур (пожалуй, первый), странствующий с ружьем и лирой по селам, полям, поющий природу сельскую» [Гончаров 1977–1980,8:385]. Благодаря тургеневскому таланту извлекать квинтэссенцию из идеологических споров и превратностей любви в большинстве традиционных интерпретаций внимание акцентировалось на лире в его произведениях, значение же ружья, наоборот, преуменьшалось. Или же, если прибегнуть к дихотомии «Иаков – Исав», можно сказать, что критикам был скорее по сердцу гладкий и искусный Тургенев, живущий в шатрах, нежели Тургенев – косматый зверолов. Утонченный, невероятно успешный, полиглот, завсегдатай салонов по всей Европе, всесторонне образованный друг Полины Виардо, почетный доктор гражданского права Оксфордского университета – сегодня Тургенев чаще всего воспринимается именно таким. Но в определенных отношениях, говоря словами пуританина Томаса Брукса, Тургенев был «Иаковом снаружи и Исавом внутри» [Brooks 1867: 91]. Внутреннее противоречие между интеллектуалом и охотником в жизни и творчестве Тургенева было невероятно сложным и при этом продуктивным. Оно питало одновременно и его непреходящую жажду погружения в мир природы, и его мастерство в составлении карт двух крупнейших континентов общественной жизни России XIX века – дворянства и крестьянства – на остром и проницательном контрасте, достойном Иакова и Исава.
Тургенев щеголял своей страстью к охоте как в Европе, так и в России и получал удовольствие от кажущегося противоречия между цивилизованным и первобытным началами своей натуры, словно воплощая в жизнь избитый стереотип о том, что русские соединяют в себе монгольское варварство и европейский прогресс, или же играя роль «благородного варвара» [Pritchett 1977], как охарактеризовал его Виктор С. Притчетт, немного изменив слова Эдмона де Гонкура[47]47
В 1872 году Гонкур так охарактеризовал Тургенева: «кроткий великан, любезный варвар» [Петров, Фридлянд 1983: 263].
[Закрыть]. Будет, однако, совершенно неправильно рассматривать охоту в жизни Тургенева лишь как своего рода позу: все свидетельства явно указывают на совершеннейшую искренность его любви к ней, начавшейся еще в детстве.
Как и Аксаков, Тургенев находил удовольствие в том, чтобы отправиться на природу с ружьем и хорошо выдрессированным пойнтером или сеттером в поисках пернатой дичи, чаще всего неводоплавающих птиц: тетерева, вальдшнепа, бекаса, куропатки или перепела[48]48
См., например, поразительное сходство между тургеневским любовным описанием (через призму рассказчика-охотника) тяги вальдшнепов майским вечером после заката в рассказе «Ермолай и мельничиха» [Тургенев 1978а, 3: 19] и совершенно аналогичным рассказом Аксакова в «Записках ружейного охотника» [Аксаков 1955–1956, 4: 444–445].
[Закрыть]. Его подход к охоте отличался неизменно тонким вкусом состоятельного знатока: не имея насущной необходимости добывать пропитание ружьем, он неукоснительно придерживался последних европейских стандартов джентльменской охоты. В Европе XIX века эти правила подчеркивали способ осуществления убийства и были разработаны с целью усложнить его. В свою очередь, нормы охоты для пропитания позволяли максимально облегчить сам процесс убийства и ставили во главу угла конечный результат — добычу мяса для еды [MacKenzie 1988: 10–11][49]49
См. также рассуждения Дуркина о практике охотников ставить самим себе препятствия в [Durkin 1983: 73].
[Закрыть].
Лишь немногие исследователи подробно рассматривали вопрос о том, что же это значило – быть охотником – для человека тургеневской эпохи, его социального класса, национальности и интеллектуального багажа[50]50
Среди тех немногих работ, в которых с должной серьезностью рассматривается охотничий опыт Тургенева, можно выделить следующие: [Громов 1964; Громов 1967; Freeborn 1976]. Также весьма интересно в данном аспекте литературно-документальное исследование В. В. Шапочки «Охотничьи тропы Тургенева» [Шапочка 1998].
[Закрыть]. Проанализировав, однако, этот вопрос, мы сможем приступить к объяснению того, что являл собой русский дворянин-охотник середины XIX века и что за условия предопределяли то, как он наблюдал мир природы и взаимодействовал с ним. Ключевая роль Тургенева, которую он сыграл в эволюции русской охоты, помогает объяснить его совершенно уникальную способность воспринимать и передавать органический мир. Другими словами, игнорируя ружье, мы останемся отчасти глухи к лире.
Этимология и сфера использования слова «охота» в русском отличается от большинства западноевропейских языков. Во французском слове chasse, английском chase, итальянском caccia и испанском caza подчеркивается преследование, поиск добычи, хотя восходят все эти слова к латинскому сареге, означающему ‘захватывать, получать, ловить’. Английское слово hunt также восходит к словам со значениями ‘получать’, ‘захватывать’. Русское же слово охота — однокоренное с глаголом хотеть, не говоря уже о существительном похоть, – означает желание делать что-либо и может использоваться по отношению к самым разным повседневным занятиям или увлечениям, не имеющим ничего общего с ловлей и убийством животных[51]51
См. [Durkin 1983: 72–73]. Возможно, что основное немецкое слово для обозначения охоты Jagd также восходит к индоевропейскому корню, который может означать и ‘преследовать’, и ‘желать’; см. [Pokorny 1959]. См. также провокационную параллель, которую Ньюлин проводит между похотью (а также другими формами желания) и охотой в [Newlin 2013: 367–368].
[Закрыть].
Именно поэтому русское понимание охоты в большей степени включает личность и предрасположенность к этому занятию самого охотника, нежели конкретный вид физической активности. Этимологически, по крайней мере, охота – это чувство, а не деятельность. О. А. Егоров, выдающийся современный специалист по русской охоте, подробно развивает идею об этом ключевом различии в несколько националистически-религиоз-ном духе:
То, что в русском языке добыча диких зверей и птиц обозначена словом «охота», которое в своем исконном значении есть радость, веселье, удовольствие, желание, свидетельствует о многом. <…> Слово «охота» наиболее точно отразило внутренний мир русского охотника, его понимание того, что есть окружающий его Божий мир, что есть он сам в этом мире и что значит для него занятие добычей диких зверей и птиц.
Не трофеи, и не их качество, и тем более не количество; не ритуальность, не спортивность и тем более не соревновательность самого мероприятия; не праздное щекотание собственных нервов на опасной охоте, тем более не испытание собственного характера по преодолению неких надуманных трудностей и не поиск некоего аналога здорового образа жизни на лоне природы. Охота для русского человека не труд, не развлечение, не соревнование, а состояние души, можно сказать даже, образ жизни, когда всё в его жизни подчинено и выстраивается под страсть. Это глубинное, подсознательное ощущение красоты, разумности и гармоничности Божьего мира, восхищение и радость от сопричастности и слиянности с ним. Для русского охотника важен не столько сам факт добычи дичи, сколько то, как она была добыта, в какой обстановке и при каких обстоятельствах. Это как раз именно тот случай, когда процесс важнее результата [Егоров 2008: 300–301].
В русском языке нынешнее значение «добыча диких зверей и птиц» у слова «охота» появилось лишь около 1600 года, слово же «охотник» стало использоваться в современном нам значении примерно на сто лет раньше[52]52
Впервые в современном значении слово «охотник» было употреблено в юридическом документе, датированном 1495 годом, слово «охота» – в документе, датированном 1596 годом [Егоров 2008: 278, 285].
[Закрыть]. Как отмечает Егоров,
первое и основное значение слова «охотник» в древнерусском языке – человек, добровольно берущийся за что-либо или занимающийся чем-либо по своему желанию, по своей воле. Причем очень часто охотниками или, по-другому, «охочими людьми» называли людей, добровольно вызвавшихся участвовать в каком-либо опасном предприятии [Егоров 2008: 281][53]53
Более древнее и традиционное слово для обозначения охоты – «потеха», а для обозначения охотника – «ловец».
[Закрыть].
Несмотря на особые лингвистические и культурные корни охоты в России, в XIX веке ее русские любители, как и во многих других сферах культурной жизни, обычно использовали технические приемы английских, французских и немецких энтузиастов. Кроме того, они придерживались того же разделения на виды охоты, которое сформировалось в Европе к концу XVIII века и включало соколиную и ястребиную охоту, ловлю сетями, псовую охоту, гоньбу и ружейную охоту [Munsche 1981:32][54]54
Далее моими основными источниками информации по древним способам охоты являются [Hull 1964] и [Anderson 1985]. Русская ястребиная охота конца XVIII – начала XIX века подробно описана в [Аксаков 1955–1956, 4: 480–503].
[Закрыть]. В XIX веке представители русской знати, как правило, ограничивались участием лишь в последних трех, предполагавших участие хорошо выдрессированных собак и опиравшихся на общепринятый кодекс благородного поведения на охоте. Двумя основными типами, получившими широкое распространение среди дворянства, а затем и среди представителей среднего класса были основанные на двух принципиально разных тактиках псовая охота (и во многом сходная с ней гоньба), с одной стороны, и ружейная охота – с другой. Очень важно понять различия между этими двумя способами, один из которых Тургенев отвергал, другой же охотно принимал и даже популяризировал. Только разобравшись в этом различии, мы сможем попытаться приблизиться к пониманию его взгляда на окружающую среду – взгляда, глубоко укорененного в его самоидентификации как охотника.
Псовая охота и гоньба
Поскольку псовая охота не требовала огнестрельного оружия, появилась она значительно раньше, чем охота ружейная. Ее история восходит как минимум к временам Древнего Египта, когда далекие предки сегодняшних борзых преследовали газелей. В России же к началу XIX века сформировались два принципиально различных типа подобной охоты: собственно псовая охота и гоньба.
Старейший и, наверное, наиболее известный стиль русской охоты – традиционная псовая охота – заключался в том, что с поводков спускались быстрые и тихие, полагающиеся на свое острое зрение собаки (борзые), преследовавшие дичь, в то время как охотники верхом догоняли их. Между тем собаки окружали животное и прижимали его к земле или, что менее приветствовалось, убивали. Если животное не было убито, охотники догоняли собак и уже могли либо захватить добычу, либо убить ее дубинками, копьями, стрелами или – в более поздние эпохи – из огнестрельного оружия. Самая знаменитая порода из выведенных в России – русская псовая борзая (слово «псовая» произошло от «псовина» со значением «волнистая, шелковистая шерсть», а «борзая» – от прилагательного «борзый», которое, согласно словарю Даля, означает «скорый, проворный, прыткий, быстрый, бойкий, рьяный» [Даль 2006,1:180]). Эти крупные собаки, относящиеся к группе борзых, были выведены специально для того, чтобы травить волков, хотя на деле чаще всего применялись для более распространенной охоты на зайцев[55]55
Подробнее об использовании русских псовых борзых при охоте на волков см. в [Helfant 2018: 33–69].
[Закрыть]. Гоньба, в свою очередь, предполагала участие большого количества медлительных и издающих громкий лай гончих собак[56]56
Также используется слово «выжлец» для обозначения гончего кобеля и «выжлица» – гончей суки.
[Закрыть], которые, чтобы выследить добычу, полагались на свой острый нюх. Охотники с оружием следовали за ними пешком и, когда собаки окружали дичь – лису, волка, зайца, – не давая ей хода, подстреливали ее. Существовали и русские породы, например русская брудастая гончая, однако к началу XIX века наиболее популярны были различные западные гончие: бигли, фоксхаунды, харьеры, большие гасконско-сентонжские гончие и многие другие.
Известно, что псовая охота существовала в Киевской Руси уже как минимум в XI веке, но эпохи своего расцвета как аристократического развлечения она достигла к концу XVIII века, после того как Петр III в 1762 году освободил российское дворянство от обязательной государственной службы [Камерницкий 2005: 8, 64]. Пышная, шумная, подчиненная строгим правилам и ритуалам, это была забава богачей, требовавшая участия значительного числа специально подготовленных крестьян и больших открытых пространств. А. В. Камерницкий (1926–2009), выдающий химик и крупный специалист по истории русской охоты, пишет, что последние десятилетия XVIII века были временем больших дворянских охот, в которых число собак могло измеряться тысячами [Камерницкий 2005: 64]. Обычно увлекавшийся охотой помещик держал большую псарню, где за его борзыми следили особо обученные крестьяне – псари, которые на время охоты облачались в нарядные ливреи. Перед охотой собак обычно выводили по две на специальном шнуре – своре. Старший псарь назывался доезжачим, ответственный за проведение всей охоты – ловчим. Также для обозначения этих участников охоты использовалось слово «егеря» (от нем. Jager — ‘охотник’). Преследуя крупную дичь (красных зверей), охотники и псари издавали особые крики: «О-го-го!» (порсканье) или «У-лю-лю!» (улюлюканье). Зайцев же преследовали криками: «О-то-то-то!» или «Ату!» (атуканье) – от французского a tout11. Большие охоты часто проводились в виде облавы, в которой участвовало много крестьян, выступавших в роли загонщиков, которые вспугивали дичь, выманивая ее из небольшого, отдельно стоящего леса или кустарника (острова), после чего за ней гнались заметившие ее борзые. Собственно же охотники – обычно мужчины, но иногда и женщины – либо скакали верхом за борзыми, либо становились на определенное жребием место (номер) и ждали, пока собаки и дичь не окажутся в пределах досягаемости, после чего стремились догнать их верхом. Количество таких верховых дворян могло измеряться десятками, а то и сотнями. С собой у них были особые кнуты (арапники) с крепким кнутовищем, у подцепки в конце которого вделывалась свинцовая шишка, чтобы в случае необходимости можно было забить ею пойманную дичь.
Гоньба также отличалась сложностью правил, приемов и иерархий. Гончих вели парами на общем поводке (смычке) специальные помощники доезжачего – выжлятники, в то время как с борзыми работали борзятники, или борзовщики. Л. П. Сабанеев в 1897 году связал различие между гоньбой и псовой охотой с разницей во взаимодействии с рельефом у разных собачьих пород: [57]57
Данный обзор приемов псовой охоты был создан на основе следующих материалов: «Очерк истории русской псовой охоты (XV–XVIII вв.)» Егорова [Егоров 2008]; «Охота с собаками на Руси Х-ХХ вв.» Камерницкого [Камерницкий 2005]; глава «Охота» в книге «Что непонятно у классиков, или Энциклопедия русского быта XIX века» Ю. А. Федосюка [Федосюк 1998]; «Словарь охотника», URL: http://ebftour.ru/slovar__ohotnika.htm (дата обра
щения: 31.01.2022).
[Закрыть]
Различие между гончей и борзой заключается в том, что последняя гораздо быстрее первой и большею частию значительно резвее преследуемого зверя; борзая ловит, гончая заганивает или наганивает. Быстрота скачки препятствует борзой подавать голос, а потому она ловит молча; быстрота же не может вполне выказаться в заросшей или пересеченной местности, а потому борзая – собака степей и равнин, арена же гончей – леса и горы. Борзая ловит только то, что видит, и имеет очень острое зрение и плохое чутье; гончая видит преследуемого зверя редко, а потому зрение у нее мало развито, но зато она обладает замечательно тонким чутьем, которое позволяет ей быстро гнать следом [Сабанеев 19926: 150].
Можно было также сочетать гоньбу и псовую охоту; при этом гончие и загонщики спугивали дичь, после чего ее уже замечали и начинали гнать борзые. Такой тип охоты, называвшийся комплектная псовая охота, конечно же, требовал участия большого количества слуг и собак, выполнявших различные функции.
Тем не менее, несмотря на разницу между ними, существовал целый ряд общих характерных черт, объединявших псовую охоту и гоньбу. Обе они зависели от собак, которые преследовали, окружали и не давали хода дичи. Обе были мероприятиями очень шумными либо от нескончаемого лая гончих, либо от криков и звука рогов, в которые дули охотники и псари. Обе имели целью преследование преимущественно несъедобных млекопитающих (никогда не птиц), считавшихся опасными для человека или причиняющими вред хозяйству. Для проведения обеих требовалось участие больших по численности и сложных по организации групп, а потому они обычно приобретали размах многолюдных празднеств. Обе имели четкие временные границы и обычно не растягивались более чем на одно утро или один день за счет того, что внимание было сосредоточено всего на одном животном и охота завершалась после того, как это животное (и, возможно, его детеныши) было поймано или убито. Обе не подразумевали обязательного использования огнестрельного оружия, так как были в большей степени возможностью проявить себя в искусстве верховой езды, а не в стрелковом мастерстве. Обе не требовали от охотника близкого знакомства с миром природы, поскольку обнаруживали дичь псари (порой за несколько дней до самой охоты), а выслеживали собаки.
Эти характерные черты псовой охоты и гоньбы прекрасно переданы во многих произведениях русской литературы XIX века. Например, псовая охота очень ярко изображена в первых строках поэмы Пушкина «Граф Нулин» (1825):
Пора, пора! рога трубят;
Псари в охотничьих уборах
Чем свет уж на конях сидят,
Борзые прыгают на сворах
[Пушкин 1977–1979, 4: 170].
Здесь Пушкин изображает шум и возбуждение последних приготовлений перед началом охоты на волка. Изображение подобной сцены есть и у самого Тургенева в стихотворении «Перед охотой» (1846), и у Фета в стихотворении «Псовая охота» (1857), в котором видна явная отсылка к пушкинским строчкам:
В поля! В поля! Там с зелени бугров
Охотников внимательные взоры
Натешатся на острова лесов
И пестрые лесные косогоры
[Фет 1986: 131].
Некрасов ответил на волнение и накал тургеневского «Перед охотой» своим стихотворением «Псовая охота» (1846) – полным живых и ярких деталей сатирическим взглядом на эту забаву, подчеркивая ее жестокость и тяжелый крестьянский труд, без которого она невозможна. Более широкий контекст некрасовского стихотворения предполагает, что простые псари равнодушны к красоте природы, поскольку вынуждены делать работу, единственная цель которой – развлечение хозяина:
А за долиной, слегка беловатой,
Лес, освещенный зарей полосатой.
Но равнодушно встречают псари
Яркую ленту огнистой зари,
И пробужденной природы картиной
Не насладился из них ни единый
[Некрасов 1981–2000, 1: 49][58]58
Будучи сам охотником, Некрасов часто использовал охотничьи сцены в своих произведениях, среди которых «Коробейники» (часть IV) [Некрасов 1981–2000, 4: 63–66], «Из поэмы “Мать”» (часть III) [Некрасов 1981–2000, 4: 254–259] и «Кому на Руси жить хорошо» (часть I, глава V, «Помещик») [Некрасов 1981–2000,5:68–83]. Кроме того, Некрасов затрагивал тему псовой охоты в фельетонах 1844 года «Нечто о дупелях, о докторе Пуфе и о псовой охоте» [Некрасов 1981–2000,12.1:133–138] и «Журнальные отметки <17 сентября 1844>» [Некрасов 1981–2000, 12.1: 147–153], а также в водевиле 1844 года «Петербургский ростовщик» (песня Ростомахова в явлении 10) [Некрасов 1981–2000, 6: 155–156]. См. также [Булгаков 2008].
[Закрыть].
Также можно упомянуть дядю героя-повествователя из святочного рассказа Н. С. Лескова «Зверь» (1883), орловского помещика, главная страсть которого – псовая охота. Наиболее же известны, безусловно, сцены охоты на волков из «Войны и мира», которые представляют собой практически энциклопедию псовой охоты и недвусмысленно иллюстрируют ее хаотическую и (в метафорическом смысле) военную природу[59]59
«Война и мир», том 2, часть 4, главы 3–5. Анализ с охотничьей точки зрения см. в [Helfant 2018: 1-32].
[Закрыть].
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































