Текст книги "Смерть в Венеции (сборник)"
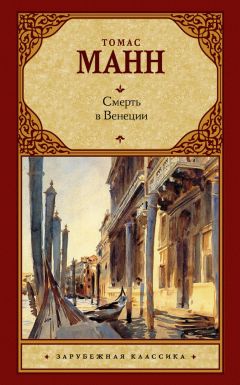
Автор книги: Томас Манн
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
– Неужели вы не любите солнца, господин Шпинель?
– Я ведь не живописец… Без солнца становишься сосредоточеннее. Вот толстый слой серо-белых облаков. Может быть, он означает, что завтра будет оттепель. Между прочим, сударыня, я посоветовал бы вам не утомлять в потемках глаза рукодельем.
– Ах, не беспокойтесь, я и так ничего не делаю. Но чем же нам заняться?
Он опустился на табурет-вертушку возле пианино и оперся одной рукой о крышку инструмента.
– Музыка… – сказал он. – Послушать бы хоть немного музыки! Иногда английские дети поют здесь коротенькие nigger songs[10]10
Негритянские песенки (англ.).
[Закрыть] – и это все.
– А вчера под вечер фройляйн фон Остерло наспех сыграла «Монастырские колокола», – заметила супруга господина Клетериана.
– Но ведь вы же играете, сударыня, – просительно проговорил он и поднялся. – Вы ведь прежде каждый день музицировали с вашим батюшкой.
– Да, господин Шпинель, но это было давно! Во времена фонтана…
– Сыграйте сегодня! – попросил он. – Дайте мне один-единственный раз послушать музыку! Если бы вы знали, как я томлюсь.
– Наш домашний врач, да и доктор Леандер тоже решительно запретили мне играть, господин Шпинель.
– Но ведь их здесь нет, ни того ни другого! Мы свободны… Вы свободны, сударыня! Всего лишь несколько аккордов…
– Нет, господин Шпинель, это невозможно. Кто знает, каких чудес вы от меня ждете! А я, поверьте мне, совсем разучилась играть. Наизусть я почти ничего не помню.
– О, так сыграйте это «почти ничего». К тому же здесь есть и ноты, вот они лежат на пианино. Не эти, это ерунда. А вот, смотрите, Шопен…
– Шопен?
– Да, ноктюрны. Сейчас, я только зажгу свечи…
– Не думайте, что я буду играть, господин Шпинель! Мне нельзя. Вдруг это мне повредит?
Он умолк. Большеногий, седоволосый, безбородый, освещенный двумя свечами, горевшими на пианино, он стоял, опустив руки.
– Ну что ж, я больше не буду просить, – сказал он наконец. – Если вы боитесь причинить себе вред, сударыня, то пусть молчит, пусть будет мертва красота, которая могла бы зазвучать под вашими пальцами. Не всегда вы были так благоразумны; уж, во всяком случае, не тогда, когда нужно было, наоборот, отказаться от красоты. Покидая фонтан и снимая маленькую золотую корону, вы не очень-то пеклись о своем здоровье и проявили гораздо больше решительности и твердости… Послушайте, – сказал он после паузы, и голос его стал еще тише, – если вы сейчас здесь сядете и сыграете, как прежде, в те времена, когда рядом с вами стоял отец и звуки его скрипки вызывали у вас слезы… то может случиться, что она вновь тайком засияет у вас в волосах – маленькая золотая корона.
– Правда? – спросила она и улыбнулась. У нее вдруг пропал голос, и одну половину этого слова она произнесла хрипло, а другую беззвучно. Она кашлянула и сказала: – Правда, что это у вас ноктюрны Шопена?
– Конечно. Ноты раскрыты, и все готово.
– Ну, тогда я, благословясь, сыграю один из них, – сказала она. – Но только один, слышите? Впрочем, больше вам и самому не захочется.
С этими словами она поднялась, отложила рукоделье и подошла к пианино. Она села на табурет-вертушку, на котором лежало несколько томов нот, поправила подсвечники и стала перелистывать ноты. Господин Шпинель подвинул стул и уселся рядом с ней, как учитель музыки.
Она сыграла ноктюрн ми-бемоль-мажор, опус 9, номер 2. Хотя она действительно отвыкла играть, чувствовалось, что когда-то ее исполнение было подлинно артистическим. Инструмент был неважный, но уже с первых тактов она обнаружила в обращении с ним безошибочный вкус. В том, как она меняла окраску звука, сквозил подлинный темперамент, невероятная ритмическая подвижность ноктюрна доставляла ей явное удовольствие. Удар у нее был твердый и вместе с тем мягкий. Во всей своей прелести лилась из-под ее пальцев мелодия, и с изящной неторопливостью сопровождал мелодию аккомпанемент.
Она была одета так же, как в день приезда: в темный плотный жакет с выпуклыми бархатными узорами, придававший неземную хрупкость ее лицу и рукам. Во время игры выражение ее лица не менялось, но очертания губ, казалось, сделались еще яснее и сгустились тени в уголках глаз. Окончив игру, она сложила руки на коленях, продолжая глядеть на ноты. Господин Шпинель не проронил ни звука и не шелохнулся.
Она сыграла еще один ноктюрн, затем второй, третий. Потом она поднялась – но только для того, чтобы поискать еще другие ноты на верхней крышке пианино. Господин Шпинель стал просматривать тома в черных переплетах, лежавшие на табурете-вертушке. Вдруг он издал какой-то нечленораздельный звук, и его большие белые руки стали судорожно листать одну из этих забытых книг.
– Не может быть!.. Неправда… – сказал он. – Однако же я не ошибся!.. Знаете, что это? Что здесь лежало? Что у меня в руках?..
– Что же? – спросила она.
Он молча указал на титульный лист. Он был бледен как полотно. Уронив ноты, он смотрел на нее, и губы у него дрожали.
– В самом деле? Как это попало сюда? Ну-ка, дайте, – сказала она просто, поставила ноты на пюпитр, и через мгновение – тишина длилась не дольше – начала играть первую страницу.
Он сидел рядом с ней, подавшись вперед, сжав руки коленями и опустив голову. Вызывающе медленно, томительно растягивая паузы, сыграла она первые фразы. Тихим, робким вопросом прозвенел мотив, полный страстной тоски, одинокий, блуждающий в ночи голос. Ожидание и тишина. Но вот уже слышен ответ: такой же робкий и одинокий голос, только еще отчетливее, еще нежнее. И снова молчанье. Потом чудесным, чуть приглушенным сфорцандо, в котором были и взлет и блаженная истома страсти, полился напев любви, устремился вверх, в восторге взвился, замер в сладком сплетении и, освобожденный, поплыл вниз, а там мелодию подхватили виолончели и повели свою проникновенную песнь о тяжести и боли блаженства.
Не без успеха пыталась пианистка воспроизвести на этом жалком инструменте игру оркестра. Стремительно нараставшие скрипичные пассажи прозвучали с ослепительной точностью. Она играла в молитвенном благоговении, веря каждому образу и передавая каждую деталь так же подчеркнуто и так же смиренно, как священник поднимает дароносицу. Что здесь происходило? Две силы, два восхищенных существа стремились друг к другу; блаженствуя и страдая, они сплетались в безумном восторге, в неистовой жажде вечного и совершенного… Вступление вспыхнуло и угасло. Она остановилась на том месте, где раздвигается занавес, и молча смотрела на ноты.
Между тем скука, овладевшая советницей Шпатц, достигла той степени, когда она искажает человеческий облик, когда глаза вылезают из орбит и на лице появляется страшное, мертвенное выражение. К тому же эта музыка подействовала на ее желудочные нервы, она привела в состояние страха пораженный диспепсией организм, и теперь советница опасалась спазм в желудке.
– Я должна пойти к себе, – сказала она расслабленным голосом. – Всего доброго, я скоро вернусь…
И ушла. Сумерки уже сгустились. Через стекло было видно, как тихо падает на террасу густой снег.
Свет от обеих свечей был неровный и слабый.
– Второе действие, – прошептал он; она перевернула несколько страниц и начала второе действие.
Звуки рога замерли вдалеке. Или, может быть, это был шелест листвы? Или журчанье ручья? Ночь уже разлила тишину над домом и рощей; никаким призывам, никаким мольбам теперь уже не заглушить велений страсти. Таинство свершилось. Светильник погас, в каком-то новом, неожиданно глухом тембре зазвучал мотив смерти, и страсть в лихорадочном нетерпении простерла по ветру свое белое покрывало навстречу возлюбленному, который, раскрыв объятия, шел к ней сквозь мрак.
О, не знающий меры, ненасытный восторг соединения в вечности, по ту сторону земного! Освободившись от мучительных заблуждений, уйдя от оков пространства и времени, ты и я, твое и мое слились для высшей радости. Коварному призраку дня удалось разлучить их, но его хвастливая ложь не обманула видящих в ночи, прозревших от глотка волшебного зелья. Кто увидел ночь смерти и тайную прелесть ее глазами любви, у того в безумии дня осталось одно желание, одна страсть – тоска по священной ночи, вечной, истинной, соединяющей…
О, приди же, спустись, ночь любви, принеси им желанное забвенье, раствори их в своем блаженстве, вырви их из мира лжи и разлуки! Смотри, последний светильник погас! Мысль и воображение погрузились в священный сумрак, освобождающий от мира, от мук безумья. И даже когда призрак померкнет, когда помутнеет от восторга мой взгляд – я буду знать, чего лишал меня лживый свет дня, что противополагал он моей страсти, обрекая ее на неизбывную муку, – даже тогда (о чудо свершенья!), даже тогда я – это мир. И вслед мрачным предостережениям Брангены взлетели голоса скрипок, и взлет их был выше всякого разума.
– Я не все понимаю, господин Шпинель; о многом я только догадываюсь. Что это, собственно, значит: «даже тогда я – это мир».
Он объяснил ей тихо и кратко.
– Да, верно… Как же вы не умеете играть то, что так хорошо понимаете?
Странно, он не выдержал этого безобидного вопроса. Он покраснел, начал ломать руки, весь как-то осел вместе со своим стулом.
– Это редко совпадает, – запинаясь от муки, проговорил он наконец. – Нет, играть я не умею! Продолжайте же.
И они погрузились в хмельные напевы мистерии. Разве любовь умирает? Любовь Тристана? Любовь твоей и моей Изольды? О нет, она вечна, и смерть не досягает ее! Да и что может умереть, кроме того, что нам мешает, что вводит нас в обман и разделяет слившихся воедино? Сладостным союзом соединила их обоих любовь, смерть нарушила его, но разве может быть для одного из них иная смерть, чем жизнь, отделенная от жизни другого? Таинственный дуэт соединил их в той безымянной надежде, которую дарит смерть в любви, – надежде на нескончаемое, неразрывное объятие в волшебном царстве ночи! Сладостная ночь! Вечная ночь любви! Всеобъемлющая обитель блаженства! Разве может тот, кто в грезах своих увидел тебя, не ужаснуться пробуждению, возвращающему в пустыню дня? Прогони страх, милая смерть! Освободи тоскующих от горести пробуждения! О, неукротимая буря ритмов! О, хроматический порыв в восторге метафизического познания! Как познать, как вкусить блаженство этой ночи, не знающей мук расставанья? Кроткое томление без лжи и страха, величественное угасание без боли, блаженное растворение в бесконечности! Ты – Изольда, я – Тристан, нет больше Тристана – нет Изольды…
Вдруг случилось нечто страшное. Пианистка оборвала игру и, проведя рукой по глазам, стала вглядываться в темноту. Господин Шпинель резко повернулся на стуле. Сзади отворилась дверь, и темная фигура, опираясь на руку другой такой же темной фигуры, вошла из коридора в гостиную. Это была одна из постоялиц «Эйнфрида», тоже не пожелавшая участвовать в катанье и в этот вечерний час, как всегда, пустившаяся в свой бессознательный и печальный обход, больная, которая произвела на свет девятнадцать детей и больше уже не могла ни о чем думать, – пасторша Геленраух в сопровождении сиделки. Не поднимая глаз, осторожными, неверными шагами прошла она в глубину комнаты к противоположной стене и исчезла – немая, оцепенелая, беспокойная и безумная. В гостиной стояла тишина.
– Это пасторша Геленраух, – сказал он.
– Да, это бедная Геленраух, – сказала она. Затем она перелистала ноты и сыграла финал – смерть Изольды.
Как бледны, как резко очерчены были ее губы, какими глубокими стали тени в уголках глаз! На ее прозрачном лбу, над бровью, внушая тревогу, все яснее и яснее проступала трепещущая бледно-голубая жилка. Под ее руками шло невероятное нарастание звуков, сменившееся внезапным, почти нечестивым пианиссимо, которое было как почва, ускользающая из-под ног, как огромное, всепоглощающее желание. Всеразрешающий восторг великого свершенья прозвучал, повторился; долго не смолкала буря безграничного удовлетворения, но и она стала стихать, и казалось только, что, замирая, она еще раз вплетает в свою гармонию мелодию страстной тоски; наконец она устала, затихла, отшумела, ушла. Воцарилась глубокая тишина.
Они оба прислушались; они склонили головы набок и слушали.
– Это бубенцы, – сказала она.
– Это сани, – сказал он. – Я ухожу.
Он встал и прошел через всю комнату. В глубине у двери он задержался, обернулся и постоял, переминаясь с ноги на ногу. А потом вышло так, что в пятнадцати или двадцати шагах от нее он молча упал на колени, на оба колена. Полы его длинного черного сюртука расстелились по полу. Руки он молитвенно сложил у самого рта, плечи его дрожали.
Она сидела спиной к пианино, опустив руки на колени, подавшись вперед, и смотрела на него. Неясная, печальная улыбка играла на ее лице, а глаза ее вглядывались в полумрак с таким напряжением, что, казалось, они вот-вот закроются.
Издалека все громче доносились звон колокольчиков, щелканье бичей и людские голоса.
Катанье на санях, о котором еще долго шли разговоры, состоялось двадцать шестого февраля. Двадцать седьмого февраля была оттепель, кругом все таяло, капало, лило, текло; в этот день супруга господина Клетериана чувствовала себя превосходно. Двадцать восьмого у нее сделалось кровохарканье… Крови вышло чуть-чуть, но все-таки это была кровь. Тогда же ею вдруг овладела слабость – небывалая слабость, – и она слегла.
Доктор Леандер осмотрел ее, сохраняя при этом непроницаемо-холодное лицо. Затем, согласно требованиям науки, прописал: кусочки льда, морфий, полный покой. Кстати сказать, из-за чрезмерной занятости он на следующий же день передал наблюдение над больной доктору Мюллеру, который и взял его на себя со всей кротостью, какой от него требовали долг и контракт. Скромная и бесславная деятельность этого ничем не примечательного, тихого, бледного человека была посвящена или почти здоровым, или безнадежно больным.
Прежде всего он нашел, что разлука супругов Клетериан слишком затянулась и что господину Клетериану если только позволят дела его процветающей фирмы, следовало бы еще разок навестить «Эйнфрид». Надо ему написать или, скажем, послать коротенькую телеграмму… И конечно, он осчастливит молодую мать и придаст ей сил, привезя с собой маленького Антона, не говоря уж о том, что врачам будет просто интересно познакомиться с этим маленьким здоровячком.
И вот пожалуйста, господин Клетериан уже здесь. Он получил телеграмму доктора Мюллера и приехал с Балтийского побережья. Выйдя из экипажа, он тотчас же спросил кофе и сдобных булочек, вид у него при этом, надо сказать, был самый обескураженный.
– Сударь, – спросил он, – в чем дело? Почему меня вызвали к ней?
– Потому что весьма желательно, – отвечал доктор Мюллер, – чтобы вы теперь находились вблизи вашей супруги.
– Желательно… Желательно… А есть ли в этом необходимость? Я должен жить по средствам, времена теперь скверные, а железная дорога влетает в копеечку. Разве нельзя было обойтись без этой поездки? Я бы ничего не стал говорить, если бы у нее были, например, больные легкие; но ведь, слава Богу, это только дыхательное горло…
– Господин Клетериан, – мягко сказал доктор Мюллер, – во-первых, дыхательное горло – весьма важный орган… – Он неправильно употребил выражение «во-первых», ибо никакого «во-вторых» за ним не последовало.
Одновременно с господином Клетерианом в «Эйнфриде» появилась пышная особа в наряде из шотландки и чего-то золотого и красного. Она-то и носила на руках Антона Клетериана-младшего, этого маленького здоровячка. Да, он тоже был здесь, и все должны были согласиться, что здоровье у него отменное. Розовый, белый, в чистом, свежем костюмчике, толстенький и душистый, он сидел на голой красной руке своей ярко одетой няни, поглощал огромное количество молока и рубленого мяса, кричал и вообще давал волю своим инстинктам.
Прибытие молодого Клетериана писатель Шпинель наблюдал из окна своей комнаты. Когда ребенка несли из экипажа в дом, он посмотрел на него как-то странно – мутными глазами и в то же время пронзительно – и долго еще сидел неподвижно, все с тем же выражением лица.
С этих пор он всячески избегал встреч с Антоном Клетерианом-младшим.
Господин Шпинель сидел у себя в комнате и «работал».
Комната его была такая же, как все комнаты в «Эйнфриде», – старомодная, простая и изысканная. Массивный комод украшали металлические львиные головы, высокое стенное зеркало состояло из множества маленьких квадратных пластинок в свинцовой оправе, синеватый, блестящий, не застланный ковром паркет, казалось, удлинял ножки мебели ясными, застывшими отражениями. У окна, которое романист затянул желтой гардиной, – наверно, для того, чтобы сосредоточиться, – стоял просторный письменный стол.
В желтоватом сумраке склонился он над доской секретера и писал – писал одно из тех многочисленных писем, которые каждую неделю отсылал на почту и на которые, как это ни смешно, по большей части не получал ответа. Перед ним лежал большой лист плотной бумаги. В левом верхнем углу листа, под замысловатым пейзажем, новомодными буквами было напечатано «Детлеф Шпинель». Он писал красивым, на редкость аккуратным почерком.
«Милостивый государь! – писал он. – Я пишу Вам эти строки, ибо не могу иначе, ибо то, что я должен Вам сказать, переполняет меня, мучает и приводит в дрожь, слова захлестывают меня таким стремительным потоком, что я бы задохнулся, если бы не излил их в этом письме».
Честно говоря, «стремительный поток» нимало не соответствовал действительности, и одному Богу известно, какие суетные побуждения заставили господина Шпинеля упомянуть о нем. Слова отнюдь не захлестывали его, напротив, писал он на редкость медленно для писателя-профессионала, и, взглянув на него, можно было подумать, что писатель – это человек, которому писать труднее, чем прочим смертным.
Он крутил двумя пальцами один из нелепых волосков, росших у него на щеках, крутил, наверно, не менее часа, уставившись в пустоту, причем за это время в письме его не прибавилось ни одной строчки, затем он написал несколько изящных слов, после чего снова застрял. Нужно, однако, признать, что в конечном счете письмо его оказалось написано довольно гладким и живым слогом, хотя содержание его и было несколько причудливо, сомнительно и даже мало понятно.
«Я испытываю, – так продолжалось письмо, – неодолимую потребность заставить Вас увидеть то, что вижу я сам, что вот уже несколько недель стоит передо мной неугасимым видением, увидеть моими глазами и в том освещении, в каком это вижу я. Я привык уступать силе, велящей мне с помощью незабываемых, словно огнем выжженных и неукоснительно точно расставленных слов делать мои переживания достоянием всего мира. Поэтому выслушайте меня!
Мне хочется только одного – рассказать о том, что было и что есть, рассказать без комментариев, обвинений и сетований, просто, своими словами короткую и на редкость возмутительную историю. Это история Габриэлы Экгоф, той женщины, сударь, которую Вы называете своей женой… Так вот, знайте: Вы были ее мужем, но событием в Вашей жизни она станет только благодаря мне, только благодаря моим словам.
Помните ли Вы сад, сударь, старый, запущенный сад позади серого патрицианского дома? Зеленым мхом поросли трещины полуразрушенных стен, окружавших это царство запустения. Помните ли Вы фонтан в глубине сада? Над замшелым его бассейном склонились лиловые лилии, и с таинственным журчанием падала на разбитые камни светлая струя. Летний день был на исходе.
Семь девушек сидели кружком у фонтана, и в волосы седьмой, но первой и единственной, заходящее солнце, казалось, вплело знак неземного величия.
Трепетным сновидениям были подобны ее глаза; но юные губы ее улыбались…
Девушки пели. Узкие лица их были обращены к вершине струи, к усталому благородному изгибу, где начиналось ее падение, тихие, звонкие голоса парили вокруг пляшущей воды. Возможно, что девушки пели, охватив колени своими нежными руками…
Помните ли Вы эту картину, сударь? Видели ли Вы ее? Нет, Вы ее не видели. Не те у Вас были глаза, не те уши, чтобы воспринять ее чистую прелесть. Нет, Вы ее не видели! Вам следовало уйти, уйти в жизнь, в Вашу жизнь, и до конца дней своих, как неприкосновенную и великую святыню, хранить в душе то, что Вы увидели. А что сделали Вы?
Картина эта была концом, сударь; зачем же Вам понадобилось прийти и нарушить ее, продолжить в пошлости и безобразных страданьях? Это был трогательный и мирный апофеоз, окутанный вечерним светом упадка, гибели, угасания. Старая семья, слишком благородная и слишком усталая, для того чтобы жить и действовать, у конца своих дней, и последнее, в чем она выражает себя, – это звуки музыки, несколько тактов на скрипке, исполненных вещей тоски обреченности. Видели Вы глаза, на которые наворачивались слезы при этих звуках? Возможно, что души шести подруг принадлежали жизни; душа их сестры-повелительницы принадлежала красоте и смерти.
Вы видели ее, эту красоту смерти. Вы смотрели на нее, и смотрели вожделея. Ничего похожего на благоговение или страх не вызвала у Вас в душе трогательная ее святость. И Вы не пожелали довольствоваться созерцанием; нет, Вам надо было взять, получить, осквернить… Вы гурман, сударь, Вы плебей-гурман, Вы – мужлан со вкусом.
Прошу Вас иметь в виду, что я не имею ни малейшего желания оскорблять Вас. Мои слова – не брань, а формула, простая психологическая формула для обозначения несложной, не представляющей никакого литературного интереса личности, каковою являетесь Вы, и если я прибегаю к этим словам, то лишь желая уяснить Вам Ваши же собственные действия и Вашу сущность; такова уж моя неизбежная обязанность в этом мире – называть вещи своими именами, заставлять говорить, разъяснять неосознанное. Мир полон того, что я называю «неосознанным типом», и мне они невмоготу, все эти неосознанные типы! Мне невмоготу вся эта бесчувственная, слепая, бессмысленная жизнь, вся эта суета сует; меня раздражает этот мир наивности вокруг меня! Меня мучит неодолимое желание – в меру сил своих объяснить, выразить, осознать окружающее меня бытие, и мне безразлично, помогу я этим или помешаю, принесу ли радость и облегчение или причиню боль.
Вы, сударь, как я уже сказал, плебей-гурман, Вы мужлан со вкусом, человек грубого телосложения, стоящий на низшей ступени развития. Богатство и сидячий образ жизни привели Вашу нервную систему в состояние такого неожиданного, противоестественного, варварского разложения, которое неминуемо влечет за собой потребность в сладострастной утонченности наслаждений. Весьма вероятно, что, когда Вы решили завладеть Габриэлой Экгоф, вы непроизвольно чмокнули, словно отведав превосходного супа или какого-нибудь редкого блюда…
По существу, Вы направляете ее мечтательную волю по неверному пути, Вы уводите ее из запущенного сада в жизнь, в уродливый мир, Вы даете ей свою заурядную фамилию, превращаете ее в жену, в хозяйку, делаете ее матерью. Вы унижаете усталую, робкую, цветущую в своем возвышенном самодовлении красоту смерти и заставляете ее служить пошлой обыденности и тому тупому, косному, презренному идолу, который называют природой. В Вашем сознании мужлана нет и тени представления о всей низости Ваших действий.
Итак, что же происходит? Та, глаза которой подобны трепетным сновидениям, приносит Вам сына; она отдает этому существу, призванному продолжать низменное бытие родителя, всю свою кровь, все, что в ней еще осталось от жизни, – и умирает. Она умирает, милостивый государь! И если конец ее свободен от пошлости, если в преддверии его она поднялась из глубины своего унижения, чтобы в гордом блаженстве принять смертельный поцелуй красоты, то об этом позаботился я. А у Вас была другая забота – Вы развлекались с горничными в темных коридорах.
Зато Ваш ребенок, сын Габриэлы Экгоф, процветает, живет, торжествует. Возможно, что он пойдет по стопам отца и станет купцом, исправным налогоплательщиком, любителем хорошо покушать; может быть, он станет солдатом или чиновником, слепой и усердной опорой государства. Так или иначе, из него получится существо, чуждое музам, нормальное, беззаботное и уверенное, сильное и глупое.
Знайте, милостивый государь, что я ненавижу Вас и Вашего сына, как ненавижу самую жизнь, олицетворяемую Вами, пошлую, смешную и тем не менее торжествующую жизнь, вечную противоположность красоты, ее заклятого врага. Не смею сказать, что я Вас презираю. Я честен. Из нас двоих Вы – сильнейший. Единственное, что я могу противопоставить Вам в борьбе, – это достойное оружие мести слабосильного человека – слово и дух. Сегодня я воспользовался этим оружием. Ведь это письмо, – я честен и здесь, милостивый государь, – и есть акт мести; и если хоть одно слово в нем достаточно остро, достаточно блестяще и красиво, чтобы кольнуть Вас, чтобы заставить Вас почувствовать чужую силу, чтобы хоть на мгновение вывести Вас из Вашего толстокожего равновесия – то я торжествую.
Детлеф Шпинель».
Господин Шпинель запечатал конверт, наклеил марку, изящным почерком написал адрес и отправил письмо на почту.
С видом человека, решившегося на самые энергичные действия, господин Клетериан стучался в дверь господина Шпинеля; в руках он держал большой лист бумаги, исписанный аккуратным почерком. Почта сделала свое дело, письмо пошло положенным ему путем и, совершив странное путешествие из «Эйнфрида» в «Эйнфрид», попало «в собственные руки» адресата. Было четыре часа дня.
Когда господин Клетериан вошел в комнату, господин Шпинель сидел на диване и читал свой собственный роман с в высшей степени странным рисунком на обложке. Он поднялся и, как человек, застигнутый врасплох, вопросительно взглянул на посетителя, сильно при этом покраснев.
– Добрый день, – сказал господин Клетериан. – Извините, что я помешал вашим занятиям. Но позвольте спросить – не вы ли это писали? – Он поднял левую руку, державшую большой, исписанный аккуратным почерком лист бумаги и хлопнул по нему тыльной стороной правой ладони, отчего бумага громко зашуршала. Затем он засунул правую руку в карман своих широких, удобных брюк, склонил голову набок и раскрыл рот, как бы приготовившись слушать.
Как ни странно, но на лице господина Шпинеля появилась улыбка, предупредительная, немного смущенная и как бы извиняющаяся. Он потер рукой голову, словно что-то припоминая, и сказал:
– Ах, верно… да… я позволил себе…
Дело было в том, что сегодня он дал себе волю и проспал до полудня. Теперь он страдал от угрызений совести, голова у него кружилась, он чувствовал себя взвинченным и не способным ни на какое сопротивление. К тому же веянье весеннего воздуха вызвало у него слабость и настроило его на пессимистический лад. Все это нужно принять во внимание, чтобы объяснить его весьма нелепое поведение в разыгравшейся сцене.
– Ага! Вот как! Хорошо! – сказал господин Клетериан, он прижал подбородок к груди, сдвинул брови, вытянул вперед руки, – словом, сделал множество приготовлений, чтобы после своего чисто формального вопроса немедленно перейти к сути дела. Из самодовольства он эти приготовления несколько затянул; то, что за ними последовало, не вполне отвечало обстоятельности мимической подготовки. Однако господин Шпинель заметно побледнел.
– Очень хорошо! – повторил господин Клетериан. – В таком случае, дорогой мой, позвольте ответить вам устно, поскольку, на мой взгляд, идиотство писать длиннейшие письма людям, с которыми можно в любой момент поговорить.
– Ну… уж и идиотство… – протянул господин Шпинель с извиняющейся, даже подобострастной улыбкой.
– Идиотство! – повторил господин Клетериан и стал энергично трясти головой, чтобы показать, сколь непоколебима его уверенность в своей правоте. – Я бы и словом не удостоил эту писанину, я бы – честно скажу – побрезговал завернуть в нее бутерброд, если б она кое-что не объяснила мне, не сделала понятным некоторое изменение… Впрочем, это вас не касается и к делу не относится. Я деловой человек, и у меня есть другие заботы, кроме ваших невыразимых видений…
– Я написал «неугасимое видение», – сказал господин Шпинель и выпрямился. Это был единственный момент их разговора, когда он проявил достоинство.
– «Неугасимое… невыразимое…» – ответил господин Клетериан и заглянул в рукопись. – У вас отвратительный почерк, уважаемый; я бы не взял вас к себе в контору. На первый взгляд кажется, что он четкий, а приглядишься – видны пропуски и неровности. Но это дело ваше, меня это не касается. Я пришел сказать вам, что, во-первых, вы шут гороховый, – впрочем, это, надеюсь, вы и сами понимаете. Но, кроме того, вы – большой трус, думаю, что и это мне незачем вам подробно доказывать. Жена мне как-то писала, что, встречаясь с женщинами, вы не смотрите им в лицо, а только искоса поглядываете на них, вы хотите унести с собой красивый образ и боитесь действительности. К сожалению, она потом перестала рассказывать о вас в своих письмах, а то бы я узнал много всяких историй. Такой уж вы человек. Каждое третье слово у вас «красота», а в сущности, вы – трус, тихоня и завистник. Отсюда-то и ваше нахальное замечание насчет «темных коридоров»; вы думали меня им сразить, а оно меня только позабавило, позабавило – и все! Ясно теперь? Стали вам немного яснее «ваши действия и ваша сущность»? Жалкий вы человек! Хотя это и не является моей «непременной обязанностью», ха-ха-ха!
– У меня написано: «неизбежная обязанность», – поправил его господин Шпинель, но тут же перестал спорить. Беспомощный, несчастный, большой, седоволосый, он стоял, как школьник, получивший нагоняй.
– «Неизбежная… непременная…» Подлый вы трус, вот что я вам скажу. Каждый день вы видите меня за столом, вы здороваетесь со мной и улыбаетесь, вы передаете мне соус и улыбаетесь, вы желаете мне приятного аппетита и улыбаетесь. А в один прекрасный день на мою голову валится вот эта мазня с идиотскими обвинениями. Что и говорить, на бумаге вы храбрец! Ну, пусть бы этим дурацким письмом дело и кончилось. Так нет же, вы еще вели интриги против меня, вели их за моей спиной, теперь я это прекрасно понимаю… впрочем, не воображайте, что вы чего-то добились! Если вы тешите себя надеждой, что вскружили голову моей жене, то вы заблуждаетесь, любезный, слишком она для этого разумный человек! А если вы, чего доброго, думаете, что на этот раз она встретила меня как-то по-другому – меня и ребенка, – так это уж сущая ерунда! Если она и не поцеловала сына, то сделала это из осторожности, потому что недавно возникло предположение, что болезнь у нее не в дыхательном горле, а в легких, и тут уж неизвестно… Хотя вообще-то совсем еще не доказано, что у нее плохо с легкими, а вы уж заладили: «Она умирает, милостивый государь!» Осел вы, и больше ничего.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































