Читать книгу "Смерть в Венеции (сборник)"
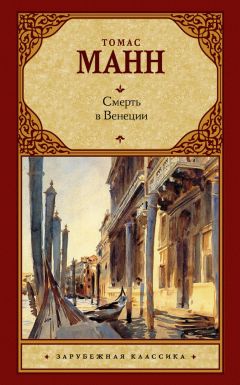
Автор книги: Томас Манн
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Она умолкла, опустила подбородок на грудь и выжидательно посмотрела на него исподлобья. Но он не отвечал. Он сидел неподвижно, устремив на нее большие задумчивые глаза. Как странно она говорила, как трогал его этот чистый, хрупкий голос! Сердце у него успокоилось, он будто видел сон.
– Я не ошибаюсь, вы ведь вчера ушли из театра, не дождавшись конца представления? – снова заговорила госпожа фон Ринлинген.
– Да, сударыня.
– Какая жалость. Вы показались мне внимательным соседом, хотя постановка и не хороша, или относительно хороша. Так вы любите музыку? Играете на фортепиано?
– Я немного играю на скрипке, – ответил господин Фридеман. – Ну, то есть… это почти ничего…
– Вы играете на скрипке? – переспросила она.
Затем устремила взгляд куда-то мимо, в воздух, и задумалась.
– Но тогда мы могли бы иногда музицировать, – внезапно сказала она. – Я могу немного аккомпанировать и была бы рада найти здесь кого-нибудь… Вы придете?
– С удовольствием поступаю в ваше распоряжение, сударыня, – ответил он, все еще будто во сне.
Наступила пауза. И тут выражение ее лица вдруг изменилось. Он увидел, как оно исказилось в едва уловимую жестокую насмешку, как взгляд ее опять устремился на него с тем жутким дрожанием, как уже дважды давеча. Лицо его запылало румянцем, и, не зная, куда деваться, совершенно беспомощный, растерянный, он низко-низко втянул голову в плечи и оторопело уставился на ковер. Однако его снова обдал тот бессильный, сладковато-мучительный гнев…
Когда он с отчаянной решимостью вновь поднял глаза, она уже отвела взгляд и поверх его головы уже спокойно смотрела в сторону двери. Он с трудом выдавил несколько слов:
– Сударыня более-менее довольна пребыванием в нашем городе?
– О, разумеется, – равнодушно откликнулась госпожа фон Ринлинген. – Отчего же мне не быть довольной? Правда, такое ощущение, что на меня наседают, наблюдают, но… Кстати, – вдруг сменила она тему, – пока не забыла: мы думаем в ближайшие дни пригласить несколько человек, небольшая непринужденная компания. Можно помузицировать, поболтать… Кроме того, за домом у нас чудесный сад, он идет до самой реки. Словом, вы и ваши барышни, разумеется, еще получите приглашение, но я уже сейчас прошу вас прийти. Вы доставите нам это удовольствие?
Господин Фридеман едва успел выразить свою благодарность и согласие, как дверная ручка энергично опустилась и вошел подполковник. Оба встали, и пока госпожа фон Ринлинген представляла мужчин, супруг одинаково вежливо поклонился господину Фридеману и ей. От жары его загорелое лицо сильно лоснилось.
Снимая перчатки, он сильным, резким голосом говорил что-то господину Фридеману, который смотрел на него снизу вверх большими бездумными глазами и все ждал, что тот благосклонно похлопает его по плечу. Но подполковник, прищелкнув каблуками и слегка наклонившись, повернулся к супруге и, заметно понизив голос, спросил:
– Ты уже просила господина Фридемана быть на нашем скромном вечере, дорогая? Если у тебя не будет возражений, думаю, его можно устроить через восемь дней. Надеюсь, погода продержится и мы сможем выйти в сад.
– Как хочешь, – ответила госпожа фон Ринлинген, глядя куда-то мимо.
Через две минуты господин Фридеман простился. Еще раз поклонившись в дверях, он встретил ее взгляд, покоившийся на нем безо всякого выражения.
XIII
Он ушел, но не вернулся в город, а невольно свернул на дорожку, что отходила от аллеи и вела к бывшему крепостному валу у реки. Там располагался ухоженный парк, тенистые тропинки, скамейки.
Он шагал быстро, ни о чем не думая, не поднимая глаз. Ему было нестерпимо жарко, он чувствовал, как внутри вспыхивают и гаснут языки пламени и неумолимо стучит в усталой голове…
Может, на него все еще давил ее взгляд? Но не как под конец, пустой и без выражения, а давешний, после странно-тихих речей, судорожно-жестокий. Ах, неужели ее забавляет его беспомощность, растерянность? Но если уж она видит его насквозь, могла бы проявить хоть толику сострадания?
Внизу у реки он прошел вдоль поросшего зеленью вала и сел на скамейку, за которой полукругом цвел жасмин. Все вокруг заполнил сладкий, душный запах. Прямо перед ним над судорожной водой нависло солнце.
Он чувствовал себя таким усталым, вымотанным, и тем не менее все в нем мучительно бурлило! Разве не лучше еще раз, осмотревшись кругом, зайти в тихую воду, чтобы после короткого страдания освободиться и обрести покой? Ах, покоя, он желал лишь покоя! Но не покоя в пустом, глухом небытии, а в мире, ласкаемом мягким солнцем, полном хороших, тихих мыслей.
В это мгновение Йоханнеса Фридемана пронзила вся его нежная любовь к жизни и глубокая тоска по утраченному счастью. Но затем он окинул взором безмолвный, бесконечно равнодушный покой природы, увидел, как несет свои воды залитая солнцем река, как судорожно колышется трава, и растут цветы, распустившиеся лишь для того, чтобы увять и угаснуть, увидел, как все, все с немой покорностью склоняется пред бытием, – и невольно принял, согласился с необходимостью, способной дать силу над судьбой.
Господин Фридеман припомнил вечер своего тридцатого дня рождения, когда ему казалось, что он, счастливый обладатель душевного мира, без страха и надежды смотрит в оставшуюся ему жизнь. Он не видел в ней ни света, ни тени, все перед ним стелилось в мягких сумерках, а сам он почти незаметно растворялся где-то внизу, во мраке, и со спокойной, чуть свысока улыбкой смотрел в годы, которым еще только предстояло прийти, – как давно это было?
А потом появилась эта женщина, она должна была появиться, это его судьба, она и есть его судьба, она одна! Разве он не почувствовал этого в первое же мгновение? Она появилась, и, хоть он и пытался защитить свой мир, из-за нее в нем неизбежно всколыхнулось все, что он подавлял в себе с юности, чувствуя, что для него это означает муку и крах; чудовищная, неодолимая сила подхватила его и влекла к гибели!
Его влекло к гибели, он это чувствовал. Тогда зачем еще бороться и мучиться? Пусть все идет, как идет! Лучше, не сворачивая со своего пути, закрыть перед разверзнувшейся пропастью глаза – с покорностью судьбе, покорностью превосходящей, мучительно-сладкой силе, убежать от которой никто не в силах.
Блестела вода, резким душным запахом дышал жасмин, вокруг на деревьях, в кронах которых сияло тяжелое, синего бархата небо, щебетали птицы. Но маленький горбатый господин Фридеман еще долго сидел на скамейке. Он сидел нагнувшись, обхватив обеими руками лоб.
XIV
Все были единодушны в том, что у Ринлингенов замечательно весело. За длинным, со вкусом сервированным столом, вытянувшимся в просторной столовой, расселось человек тридцать; слуга и два специально нанятых официанта уже торопились обнести мороженым, звенела и бренчала посуда, от блюд и духов поднимались теплые испарения. Здесь собрались степенные оптовые торговцы с супругами и дочерьми, а также почти все офицеры гарнизона, старый доктор – всеобщий любимец, несколько юристов и все, кто причислял себя к высшим кругам города. Присутствовал и некий студент-математик, племянник подполковника, навещавший родственников; он вел глубокомысленные разговоры с барышней Хагенштрём, сидевшей напротив господина Фридемана.
Тот восседал на красивой бархатной подушке в дальнем конце стола подле некрасивой супруги директора гимназии и неподалеку от госпожи фон Ринлинген, которую подвел к столу консул Штефенс. Поразительно, какие изменения произошли с маленьким господином Фридеманом за эти восемь дней. Может, в том, что лицо его казалось таким пугающе бледным, отчасти был виноват белый газовый свет, заполнявший залу; но щеки его запали, покрасневшие, в темных кругах глаза приобрели невыразимо печальный блеск, а уродливость будто сделалась еще уродливее. Он пил много вина и изредка обращался к соседке.
За столом госпожа фон Ринлинген еще не обменялась с господином Фридеманом ни словом; теперь она слегка наклонилась и крикнула ему:
– Я напрасно ждала вас эти дни, вас и вашу скрипку!
Мгновение, прежде чем ответить, он смотрел на нее с совершенно отсутствующим видом. На ней был легкий светлый туалет, открывавший белую шею, а в светящихся волосах закреплена пышно распустившаяся роза «Маршал Нил». Щеки сегодня вечером несколько порозовели, но в уголках глаз, как всегда, лежали голубоватые тени.
Господин Фридеман опустил взгляд в тарелку и выдавил что-то в ответ, после чего ему пришлось ответить на вопрос жены директора гимназии, любит ли он Бетховена. В этот момент, однако, сидевший во главе стола подполковник бросил взгляд на супругу, постучал о бокал и сказал:
– Господа, предлагаю пить кофе в других комнатах. Кстати, сегодня вечером должно быть неплохо и в саду, если кто желает подышать воздухом, я присоединяюсь.
Наступившую тишину тактично нарушил остротой лейтенант фон Дайдесхайм, так что все поднялись с мест под веселый смех. Господин Фридеман вместе со своей дамой одним из последних покинул залу; он провел ее через «старонемецкую» комнату, где уже курили, в полутемную уютную гостиную и простился.
Одет он был тщательно: безупречный фрак, белоснежная рубашка, а узкие, красивой формы стопы в лакированных туфлях. Иногда показывались чулки красного шелка.
Выглянув в коридор, он увидел, что гости довольно большими группами уже спускаются по лестнице в сад. Но сам с сигарой и кофе сел у дверей «старонемецкой» комнаты, где стоя болтали несколько мужчин, и стал смотреть в гостиную.
Справа от двери вокруг маленького стола образовался небольшой кружок, в центре которого оказался горячо говоривший студент. Он заявил, что через одну точку можно провести несколько параллельных линий. Адвокатша Хагенштрём воскликнула: «Но это невозможно!», и теперь студент так убедительно сие доказывал, что все делали вид, будто его понимают.
А в глубине комнаты на оттоманке, возле которой стоял невысокий торшер с красным абажуром, беседуя с юной барышней Штефенс, сидела Герда фон Ринлинген. Она чуть откинулась на желтую шелковую подушку и, перебросив ногу на ногу, медленно курила, выдыхая дым через нос и выпятив нижнюю губу. Барышня Штефенс вытянулась перед ней, будто деревянная, и, боязливо улыбаясь, отвечала на вопросы.
Никто не обращал внимания на маленького господина Фридемана, и никто не заметил, что он не сводит больших глаз с госпожи фон Ринлинген. Несколько развалившись на стуле, он сидел и смотрел на нее. Во взгляде не было ничего страстного, вряд ли была и боль; в нем лежало что-то тупое и мертвое, глухая, бессильная и безвольная покорность.
Так прошло минут десять, и госпожа фон Ринлинген неожиданно поднялась, не глядя на него, будто все это время тайком за ним наблюдала, подошла и остановилась возле его стула. Он встал, запрокинул голову вверх и услышал:
– Не угодно ли проводить меня в сад, господин Фридеман?
– С удовольствием, сударыня, – ответил он.
XV
– Вы ведь еще не видели нашего сада? – спросила она на лестнице. – Он довольно большой. Надеюсь, там не слишком много народу; хочу подышать. За ужином у меня разболелась голова; может, слишком для меня крепкое красное вино… Нам сюда, в эту дверь.
Через стеклянную дверь они прошли от лестницы на маленькую, холодную входную площадку; несколько ступенек спускались прямо к земле. Чудесная звездно-ясная теплая ночь набухла запахом всех клумб. Сад был залит светом полной луны, а на белых, светящихся, посыпанных гравием дорожках, куря и переговариваясь, прохаживались гости. Одна группа собралась у фонтана, где старый доктор, всеобщий любимец, под веселый смех пускал бумажные кораблики.
Госпожа фон Ринлинген, слегка кивнув, прошла мимо и указала вдаль, где элегантные, душистые цветники сменялись темнотой парка.
– Пойдемте по центральной аллее, – сказала она.
В начале ее стояло два невысоких широких обелиска.
В самом конце прямой, как стрела, каштановой аллеи они увидели, как в лунном свете зеленовато-блестяще посверкивает река. Вокруг было темно и прохладно. Иногда от аллеи отходили дорожки, которые дугой, вероятно, тоже спускались к реке. Довольно долго царило полное молчание.
– У воды, – сказала госпожа фон Ринлинген, – есть симпатичное место, я уже частенько там сидела. Можно поболтать. Смотрите, сквозь листву пробиваются звезды.
Господин Фридеман не отвечал, он смотрел на зеленую мерцающую поверхность, к которой они приближались. Отсюда можно было различить противоположный берег, городской вал. Когда они вышли из аллеи на спускающуюся к реке лужайку, госпожа фон Ринлинген сказала:
– Наше место чуть правее. Смотрите, не занято.
Скамейка, на которую они сели, стояла в шести шагах правее аллеи у самого парка. Здесь было теплее, чем под раскидистыми деревьями. В траве, у воды, переходившей в тонкий камыш, стрекотали кузнечики. Залитая луной река отдавала мягкий свет.
Какое-то время оба молчали, глядя на воду. Однако затем господин Фридеман вздрогнул и, потрясенный, вслушался, так как его снова коснулся голос, слышанный им неделю назад, этот тихий, задумчивый, нежный голос:
– С каких пор у вас увечье, господин Фридеман? – спросила госпожа фон Ринлинген. – Вы таким родились?
Он сглотнул, потому что перехватило горло, а затем тихо, учтиво ответил:
– Нет, сударыня. Младенцем меня уронили на пол, поэтому.
– А сколько вам теперь лет? – спросила она еще.
– Тридцать, сударыня.
– Тридцать, – повторила она. – И вы не были счастливы эти тридцать лет?
Господин Фридеман несколько раз тряхнул головой, губы его дрожали.
– Нет, – сказал он. – Это я все лгал и воображал.
– Вы, стало быть, думали, будто счастливы? – спросила она.
– Пытался, – ответил он.
И она заметила:
– Отважно.
Прошла минута. Только стрекотали кузнечики и позади тихо-тихо шелестели деревья.
– Мне немного известно, что такое несчастье, – сказала она затем. – Такие летние ночи у воды прямо созданы для этого.
На что он не ответил, а слабо махнул рукой в сторону того берега, мирно лежавшего во тьме.
– Там я недавно сидел, – сказал он.
– Когда ушли от меня? – спросила она.
Он только кивнул.
Однако затем вдруг конвульсивно вскочил со скамейки, всхлипнул, испустил стон, жалобный стон, имевший в себе вместе с тем нечто высвобождающее, и медленно опустился перед ней на землю. Ладонью он коснулся руки, лежавшей рядом, на скамейке, и, держа ее, схватив и другую, содрогаясь и сотрясаясь, распростершись перед ней, прижав лицо к ее коленям, этот маленький, такой уродливый человек, задыхаясь, забормотал нечеловеческим голосом:
– Вы ведь знаете… Позволь мне… Я больше не могу… Боже мой… Боже мой…
Она не сопротивлялась, но и не наклонилась. Она сидела выпрямившись, слегка от него отстранившись, а маленькие, близко посаженные глаза, в которых словно отражалось влажное мерцание воды, неподвижно и напряженно смотрели прямо, выше, вдаль.
А затем вдруг рывком, с резким, горделивым, презрительным смешком она выдернула руки из горячих пальцев, ухватила его за локоть, отшвырнула на землю, поднялась и исчезла в аллее.
Он лежал, уткнувшись лицом в траву, оглушенный, растерянный, и дрожь то и дело пробегала по его телу. Затем с трудом встал, сделал два шага и снова упал. Он лежал у воды.
Что же происходило в нем после того, как это случилось? Может, вернулась та сладострастная ненависть, что он чувствовал, когда она унижала его взглядом, и что теперь, когда он валялся на земле, как побитая ею собака, переродилась в безумную ярость, которую необходимо утолить действием, пусть и направленным против себя… Может, отвращение к себе, наполнившее его жаждой уничтожить себя, разодрать себя в клочья, истребить…
Он немного прополз на животе, приподнял туловище и бросил его в воду. Он больше не двинул головой, не двинул даже ногами, оставшимися на берегу.
Когда плеснуло водой, кузнечики на мгновение умолкли. Теперь они вновь вступили, тихонько зашелестел парк, а в длинной аллее послышался приглушенный смех.
Луизхен
I
Существуют браки, возникновение которых не в состоянии вообразить себе самая изощренная беллетристическая фантазия. Их следует принимать, как на театре принимаешь авантюрные сочетания противоположностей, к примеру, старости и глупости с красотой и живостью – заданные условия, закладывающие основу для математического построения фарса.
Что до супруги адвоката Якоби, она была молода и красива – женщина необыкновенной привлекательности. Лет, ну, скажем, тридцать назад ее крестили Анной-Маргаретой-Розой-Амалией, но с тех пор, сложив первые буквы, называли не иначе как Амра – именем, своим экзотическим звучанием подходившим к ней, как никакое другое. Ибо хотя темень сильных, мягких волос, которые она носила на левый пробор, зачесывая с узкого лба в обе стороны наискось, была всего лишь коричневой гущей каштанового плода, кожа тем не менее отливала совершенно южной матовой, смуглой желтизной, обтягивая формы, также словно созревшие под южным солнцем и своим вегетативным, флегматичным великолепием наводившие на мысль о какой-нибудь султанше. Этому впечатлению, подтверждаемому каждым ее жадно-вялым жестом, ничуть не противоречил тот факт, что разум этой женщины, по всей вероятности, был подчинен сердцу. Стоило ей хоть раз посмотреть на вас невежественными карими глазами – при этом она весьма оригинально четкой горизонталью вдавливала красивые брови в почти трогательно узкий лоб, – и все становилось ясно. Но она, нет, она не была такой уж простушкой, чтобы этого не знать: она просто-напросто предпочитала не выставлять на всеобщее обозрение свои слабые места, редко и мало говоря; а что возразишь против красивой немногословной женщины. О, слово «простушка», скажем прямо, никак к ней не годилось. Взгляд Амры свидетельствовал не просто о глупости, еще и о каком-то похотливом лукавстве; сразу было видно, что женщина эта не настолько ограниченна, дабы не иметь склонности победокурить… Кстати, в профиль нос ее смотрелся, пожалуй, немного слишком крупно и мясисто; но роскошный широкий рот был красив совершенной красотой, хотя и не имел никакого иного выражения, кроме как чувственного.
Итак, эта вселяющая тревожные опасения женщина являлась супругой адвоката Якоби, лет сорока, и вид его поражал всех и каждого. Он был в теле, этот адвокат, он был больше чем в теле, настоящий колосс, а не мужчина! Нижние конечности в вечных пепельно-серых брюках колонноподобной бесформенностью напоминали ноги слона, подбитая волнообразной жировой подкладкой спина была спиной медведя, а чудной, обычный его серо-зеленый пиджачишка с таким трудом застегивался поверх невероятного шарообразного живота на одну-единственную пуговицу, что тут же разлетался в обе стороны до самых плеч, стоило лишь эту пуговицу расстегнуть. На таком-то мощном туловище почти без перехода на шею сидела, однако, сравнительно маленькая голова с узкими водянистыми глазками, коротким плотным носом и свисающими в своей избыточности щеками, между которыми терялся малюсенький рот со скорбно опущенными уголками. Круглый череп, а также верхнюю губу покрывала редкая жесткая щетка светлых волос, под ней, как у перекормленной собаки, равномерно проглядывала голая кожа… Ах, да всем тут же становилось ясно, что полнота адвоката не здорового свойства. Великанское как в длину, так и в ширину тело было слишком жирным, но не мускулистым, и часто можно было наблюдать, как кровь внезапно приливает к отечному лицу, чтобы так же внезапно уступить место желтоватой бледности, а рот при этом кисло кривится…
Практику адвокат вел весьма ограниченную; но поскольку он, отчасти со стороны супруги, имел немалое состояние, то чета – кстати, бездетная – занимала на Кайзерштрассе удобный этаж и была активно вовлечена в жизнь общества; правда, несомненно, в соответствии со склонностями госпожи Амры, так как адвокат, участвовавший во всем лишь с каким-то вымученным старанием, никак не мог быть при том счастлив. Характер этого толстого человека можно назвать самым странным. Не было на свете никого вежливее, уступчивее, предупредительнее; но, пожалуй, не отдавая себе в том отчета, все ощущали, что это сверхдружелюбное и льстивое поведение по каким-то причинам вынужденно, что в основе его малодушие и внутренняя неуверенность – становилось неприятно. Нет зрелища отвратительнее, чем человек, презирающий сам себя, но все же из трусости и тщеславия желающий быть обаятельным и нравиться: не иначе, по моему убеждению, обстояло дело и с адвокатом, который в своем почти пластающемся самоумалении заходил слишком далеко, чтобы сохранять необходимое личное достоинство. Он мог сказать даме, которую хотел подвести к столу: «Сударыня, я, конечно, очень противный, но не угодно ли?..» И говорил он так, не обладая талантом посмеяться над собой, сладковато-горько, вымученно и отталкивающе. Следующий анекдот также достоверен. Однажды, когда адвокат прогуливался, какой-то рабочий, громыхая мимо ручной тележкой, крепко проехался ему по ноге колесом. Увалень слишком поздно придержал тележку и обернулся, на что адвокат, совершенно оторопев, побледнев, с трясущимися щеками, низко-низко надвинул шляпу на лоб и пробормотал: «Простите». Подобное приводит в негодование. Но этого странного колосса, казалось, постоянно мучила совесть. Появляясь со своей супругой на «холме Жаворонков» – главной эспланаде города, – он ревностно, боязливо и бегло со всеми здоровался, время от времени бросая робкие взгляды на изумительно эластично вышагивающую Амру, словно испытывая потребность смиренно склониться перед каждым лейтенантом и попросить прощения за то, что он, именно он обладает этой красивой женщиной; и в жалостной приветливости поджатые губы, казалось, умоляли, чтобы над ним только, ради бога, не смеялись.
II
Намек уже прозвучал: почему, собственно, Амра вышла замуж за адвоката Якоби, остается лишь гадать. Он, однако, со своей стороны, он любил ее, и любовью столь пылкой, что, несомненно, редко встречается у людей его комплекции, и столь смиренной и робкой, что гармонировала с его натурой в целом. Часто поздно вечером, когда Амра уже отправлялась на покой в большую спальню, высокие окна которой были задернуты сборенными гардинами в цветочек, адвокат так тихо, что слышались не шаги его, а лишь медленное подрагивание пола и мебели, подходил к тяжелой кровати, становился на колени и бесконечно осторожно брал ее за руку. Обычно в подобных случаях Амра горизонтально вдавливала брови в лоб и молча, с выражением чувственной злобы смотрела на своего непомерного мужа, распростершегося перед ней в слабом свете ночной лампы. Он же, пухлыми трясущимися руками бережно отводя с ее локтя рубашку и вжимая печально-толстое лицо в мягкий сгиб этой полной смуглой руки, туда, где на темной коже проступали мелкие голубые прожилки, – он начинал говорить приглушенным дрожащим голосом, как вообще-то разумный человек в повседневной жизни не говорит.
– Амра, – шептал он, – моя дорогая Амра! Я тебе не помешал? Ты еще не спишь? Господи, я целый день думал о том, как ты красива и как я тебя люблю!.. Послушай, что я хочу тебе сказать… Это так сложно выразить… Я так тебя люблю, что у меня иногда сжимается сердце и я не знаю, куда деваться; я люблю тебя выше моих сил! Ты, должно быть, этого не понимаешь, но верь мне… и хоть раз ты должна сказать, что немного благодарна, потому что, понимаешь, такая любовь, как моя к тебе, имеет в этой жизни свою ценность… и что ты меня никогда не предашь и не обманешь, пусть ты и не можешь меня любить, но из благодарности, из одной благодарности… Я пришел попросить тебя об этом, я так тебя прошу, я очень прошу…
Такие речи обыкновенно заканчивались тем, что адвокат, не меняя положения тела, начинал тихо и горько плакать. В таком случае Амра, однако, бывала тронута, гладила супруга по щетке волос и несколько раз утешительно и насмешливо, как обращаются к пришедшей полизать ноги собаке, тягуче повторяла:
– Да-а! Да-а! Славный пес!..
Подобное поведение Амры, безусловно, не являлось поведением добропорядочной женщины. Пора мне также сбросить наконец бремя правды, которую я до сих пор утаивал, той именно правды, что она все-таки обманывала своего супруга, что она ему, так сказать, изменяла с господином по имени Альфред Лойтнер. То был молодой одаренный композитор, который в свои двадцать семь лет небольшими забавными сочинениями уже приобрел недурное имя; стройный человек с нахальным лицом, светлыми, вольно уложенными волосами и солнечной улыбкой в глазах, очень продуманной. Он относился к тому типу нынешних мелких художников, которые требуют от себя не очень многого, прежде всего хотят быть счастливыми и славными, пользоваться своим симпатичным мелким талантом в целях повышения личного обаяния и в обществе любят производить впечатление наивной гениальности. При всей их сознательной ребячливости, безнравственности, бессовестности, жизнерадостности, самовлюбленности – а к тому же довольно крепком здоровье, чтобы сохранять способность нравиться себе и в болезнях, – тщеславие их в самом деле симпатично, до тех пор пока его крепко не задели. Горе, однако, этим мелким счастливцам и лицедеям, коли им выпадет серьезное несчастье, страдание, с которым не пококетничаешь, в котором они уже не смогут себе нравиться! Они не будут знать, как быть несчастными достойно, не сообразят, как «подступиться» к страданию, погибнут… Однако это отдельная история. Господин Лойтнер сочинял прелестные вещички: по преимуществу вальсы и мазурки, веселость которых отдавала, правда, чуть чрезмерной общедоступностью, чтобы позволительно было (насколько я в этом разбираюсь) причислить их к «музыке», если бы каждое из этих сочинений не содержало в себе оригинального фрагментика, перехода, вступления, гармоничной фразы, какого-нибудь крошечного нервного воздействия, выдававшего остроумие и изобретательность, ради чего они, казалось, и были сделаны и которые делали их интересными и для серьезных знатоков. Часто эти два одиноких такта несли в себе нечто удивительно печальное и тоскливое, что, внезапно и быстро заканчиваясь, взрывалось танцевальным задором пьески в целом…
К этому-то молодому человеку Амра Якоби и пылала преступной привязанностью, а он не имел довольно нравственных оснований противостоять ее соблазнам. Встречались там, встречались сям, нецеломудренные отношения связывали их давным-давно – отношения, о которых весь город знал и о которых весь город судачил за спиной адвоката. А что же он? Амра была слишком глупа, чтобы страдать от угрызений совести и тем самым выдать себя. Нужно утверждать как нечто вполне очевидное: адвокат, сколь бы сердце его ни отягощали беспокойство и страх, не мог питать против супруги своей никакого конкретного подозрения.
III
И вот, дабы порадовать каждую душу, на землю опустилась весна, и Амре пришла в голову чудеснейшая мысль.
– Кристиан, – сказала она (адвоката звали Кристианом), – устроим праздник, большой праздник в честь свежего весеннего пива – совсем простой, конечно, одна холодная телятина, зато много людей.
– Разумеется, – откликнулся адвокат. – Но нельзя ли несколько повременить?
На это Амра не ответила, а тут же пустилась в подробности:
– Представляешь, столько людей, что у нас будет слишком тесно; придется снять помещение, сад, зал у городских ворот, чтобы вдоволь места и воздуха. Ну, ты понимаешь. Я имею в виду, конечно, большой павильон господина Венделина, у подножия холма Жаворонков. Он стоит в стороне, с самой пивоварней соединен только проходом. Мы его празднично украсим, поставим длинные столы и будем пить весеннее пиво, танцевать, музицировать, а может, даже устроим какое-нибудь представление. Там, я знаю, есть небольшая сцена, ей я придаю особое значение… Ну, словом, это должен быть самый оригинальный праздник, мы замечательно повеселимся.
Лицо адвоката во время этого разговора чуть пожелтело, а задергавшиеся уголки рта опустились. Он сказал:
– Рад всей душой, моя дорогая Амра. Знаю, что могу положиться на твое умение. Прошу тебя все подготовить, как считаешь нужным…
IV
И Амра все подготовила, как считала нужным. Она посоветовалась с представителями общества, она лично арендовала большой павильон господина Венделина, она даже создала нечто вроде комитета, составившегося из господ, которых просили или которые вызвались посодействовать веселому представлению, призванному украсить праздник… За исключением супруги придворного актера Хильдебрандта, певицы, в комитет вошли одни мужчины – сам господин Хильдебрандт, асессор Витцнагель, некий молодой художник и господин Альфред Лойтнер, не считая нескольких студентов, приглашенных благодаря асессору, – им надлежало исполнить негритянские танцы.
Уже целых восемь дней, после того как Амра приняла решение, комитет с совещательными целями собирался на Кайзерштрассе, а именно в салоне Амры, небольшой, теплой, заставленной комнате, украшенной толстым ковром, оттоманкой со множеством подушек, веерообразной пальмой, английскими кожаными креслами и столом красного дерева с гнутыми ножками, на котором лежала плюшевая скатерть и стояли роскошные безделушки. Был и камин, еще подтопленный; черную каменную плиту украшали пара тарелок с красиво сервированными бутербродами, фужеры и два графина хереса. Амра, непринужденно перебросив ногу на ногу, откинулась на подушки осененной веерообразной пальмой оттоманки и сияла красотой теплой ночи. Блузка из светлого и очень легкого шелка обтягивала грудь, а юбка была из тяжелой, темной, вышитой крупными цветами ткани; время от времени она отводила с узкого лба каштановую волну волос. Госпожа Хильдебрандт, певица, также сидела подле нее на оттоманке; у той были рыжие волосы, она сегодня надела костюм для верховой езды. А напротив дам тесным полукругом расселись мужчины – посреди них адвокат, облюбовавший совсем низенькое кожаное кресло и выделявшийся невыразимо несчастным видом; он то и дело тяжко вздыхал и сглатывал, словно боролся с подступающей тошнотой… Господин Альфред Лойтнер, в теннисном костюме из линона, отказался от стула и, нарядный, радостный, прислонился к камину, уверив, что не может так долго сидеть без движения.
Господин Хильдебрандт благозвучным голосом заговорил об английских песнях. Это был крайне солидный и отменно одетый в черное мужчина с крупной головой кесарей и уверенными повадками – придворный актер, прекрасно образованный, с обширной эрудицией и утонченным вкусом. За серьезными разговорами он любил покритиковать Ибсена, Золя и Толстого – ведь они все преследуют предосудительные цели; но сегодня любезно снизошел до обсуждения незначительного предмета.
– Возможно, господам известна прелестная песня «That’s Maria!»[6]6
«Это Мария!» (англ.).
[Закрыть]… – сказал он. – Она несколько пикантна, но воздействие оказывает необычайное. Кроме того, можно знаменитую… – И он предложил еще несколько песен, относительно которых в конечном счете была достигнута договоренность, а госпожа Хильдебрандт изъявила желание их спеть.









































