Текст книги "Дикие пальмы"
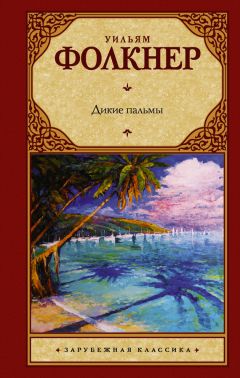
Автор книги: Уильям Фолкнер
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Он продолжал грести, помогая потоку, настойчиво и мощно, расчетливо и экономно прикладывая усилия, в направлении, как он считал, вниз по реке, к городам, к людям, туда, где можно на что-нибудь встать, а женщина время от времени поднималась, чтобы вычерпать из лодки дождевую воду. Дождь теперь шел непрерывно, хотя и не очень сильно, все еще без страсти, небо, сам день уходили без всякого сожаления, лодчонка двигалась в нимбе, в ауре серой дымки, которая почти без всякого перехода сливалась со взмученной, брызжущей пеной, задыхающейся от мусора водой. Теперь день, свет явно начал иссякать, и заключенный позволил себе чуть-чуть поднажать, потому что ему показалось, что скорость лодки уменьшилась. Так оно и было на самом деле, только заключенный не знал об этом.
Он просто принял это как следствие помутнения сознания или в крайнем случае как результат непрерывной борьбы в течение долгого дня без еды, осложненной поочередно наваливающимися и отступающими приступами тревоги и бессильной ярости по поводу полученного им бесплатного приложения. А потому он немного увеличил частоту гребков, но не из-за беспокойства, а наоборот, потому что он получил этот заряд просто благодаря присутствию какого-то известного водного потока, реки, известной по ее неискоренимому имени многим поколениям людей, которых некая сила притянула сюда на житье, как вода всегда притягивала людей, даже в те времена, когда у человека еще не было названий для воды и огня, его тянуло к живой воде, и даже течение его судьбы и его внешний вид строго определялись и создавались водой. Поэтому он не испытывал беспокойства. Он продолжал грести вверх по течению, не зная об этом, не ведая, что вся вода, которая вот уже сорок часов, прорвав дамбу, текла на север и была где-то впереди по его курсу, сейчас направлялась назад в реку. Теперь наступила полная темнота. То есть ночь полностью вступила в свои права, серое, растворяющееся небо исчезло, и тем не менее словно в обратной пропорции видимость на поверхности стала резче, будто свет, который был вымыт из воздуха дневным дождем, собрался на поверхности воды, как это сделал и сам дождь, а потому желтоватая водная гладь распростерлась теперь перед ним почти что флюоресцируя, распростерлась до того самого предела, где кончалась видимость. Темнота имела свое преимущество, теперь он больше не видел дождя. И он и его одежда были мокры вот уже двадцать четыре с лишним часа, а потому он уже давно перестал чувствовать это, а теперь, когда он к тому же не видел дождя, в некотором смысле сырости для него и не существовало. Кроме того, сейчас ему не нужно было предпринимать никаких усилий, чтобы не видеть раздутого живота своей пассажирки. А потому он продолжал грести, непрерывно и мощно, не испытывая беспокойства и тревоги, а просто злясь, потому что так пока и не увидел каких-нибудь отсветов на облаках, свидетельствующих о близости города или городов, к которым, как он считал, они приближались, но которые на самом деле были за много миль в другой стороне, и вдруг он услышал звук. Он не знал, что это за звук, потому что никогда не слышал его раньше и полагал, что никогда более не услышит его, потому что не каждому человеку дано услышать этот звук, и никому – дважды. И он даже не почувствовал беспокойства, у него на это не было времени, потому что, хотя видимость, несмотря на всю ее четкость, и не простиралась очень далеко, все же в следующий миг он увидел нечто такое, чего не видел никогда раньше. Вот что увидел он: четкая линия, где фосфоресцирующая вода встречалась с темнотой, была футов на десять выше, чем мгновение назад, и она изгибалась вперед, как сворачиваемый для пудинга лист теста. Она вздымалась прогнувшись; ее гребень играл, как грива галопирующей лошади, и, тоже фосфоресцируя, колебался и трепетал, как пламя. Женщина продолжала полусидеть на носу, зная или не зная, а он (заключенный), не ведая о том, знает она или нет, продолжал грести прямо в сторону гребня, рот на его распухшем и кровоточащем лице приоткрылся в выражении ужаса и смешанного с неверием недоумения. И опять у него просто не было времени, чтобы приказать своим загипнотизированным ритмом мускулам прекратить работать. Он продолжал грести, хотя лодчонка полностью прекратила двигаться вперед и, казалось, повисла в пространстве, а весло тем временем по-прежнему делало взмах, гребок и снова взмах; внезапно лодчонка оказалась уже не в пространстве, а среди каши плавучего мусора – досок, домиков, трупов утонувших и тем не менее паясничающих животных, вырванных с корнем деревьев, то выскакивающих на поверхность, то ныряющих вглубь, словно дельфины, и надо всем этим лодка словно замерла в невесомой и фантасмагорической нерешительности, как птица над крутящейся землей, которая никак не может решить, куда сесть и садиться ли вообще, а заключенный продолжал делать движения веслом, ожидая возможности закричать. Он так и не дождался ее. Какое-то мгновение лодчонка, казалось, встала перпендикулярно на корму, а потом по-кошачьи с визгом и скрежетом взлетела на изгибающуюся стену воды, и воспарила над пенистым гребнем, и повисла, как люлька, теперь уже просто в высоком воздухе, запутавшись в ветвях дерева, из этого временного прибежища, образованного только что зазеленевшими ветвями и сучьями, заключенный, словно птица из своего гнезда, все еще ожидая возможности закричать и по-прежнему продолжая работать веслом, хотя в этом уже не было никакой нужды, смотрел вниз на мир, который вдруг в невероятном яростном коловращении пустился вспять.
Некоторое время спустя, после полуночи сопровождаемая грохочущей канонадой грома и молний, похожей на канонаду ведущей огонь батареи, словно некий сорокачасовой запор самой тверди прорвался ухающим и сверкающим салютом этому окончательному, молчаливому одобрению отчаянного и яростного движения, все еще впереди подгоняющей ее каши из мертвых коров и мулов, сортиров, сараев и курятников лодчонка миновала Виксберг. Заключенный не знал об этом. Он не смотрел так высоко, он, как и прежде, сидел на корточках, держась за планшир, и смотрел на отливающую желтизной мешанину вокруг него, из которой выныривали, а потом снова уходили под воду вырванные с корнем деревья, островерхие коньки домов, длинные скорбные головы мулов, которые он отталкивал обломками доски, выдранной им мимоходом бог знает откуда (и которые, казалось, укоризненно взирали на него невидящими глазами с каким-то губошлепным и не верящим себе недоумением), лодчонка теперь то боком, то кормой, но двигалась вперед, иногда по воде, иногда оседлав на ярд-другой крышу дома или дерево или даже спину мула, словно и в смерти им было не избежать своей вьючной судьбы, которой проклят их холощеный род. Но он не видел Виксберга; лодка, несшаяся со скоростью поезда, находилась в бурлящем проливе между парящими и раскачивающимися берегами, над которыми сверкал свет, но он не видел его; он видел, как всевозможные плавучие обломки перед ним разделяются с бешеной скоростью и начинают дыбиться, громоздиться друг на друга, а его слишком быстро засасывало в образующийся проход, и он не успевал распознать проем железнодорожного моста; на какое-то страшное мгновение лодчонка, казалось, замерла в неподвижной нерешительности перед нависающим бортом парохода, словно размышляя – вскарабкаться ли ей наверх или поднырнуть под него, потом задул резкий ледяной ветер, наполненный запахом, вкусом и ощущением сырого и безграничного опустошения; лодка сделала один головокружительный скачок и, как и родной штат заключенного, в последнем пароксизме изрыгнула его на беснующееся лоно Отца Вод.
Вот как он рассказывал об этом шесть недель спустя, сидя в новой тюремной одежде, выбритый, с остриженными волосами на своей койке в бараке:
– В течение трех или четырех часов после того, как гром и молния истратили себя, лодка неслась, загребая носом струящуюся темноту, по взбаламученному пространству, которое, даже если бы он мог видеть, явно не имело границ. Необузданное и невидимое, оно билось и дыбилось и опадало под лодкой, изборожденное гребнями грязной флюоресцирующей пены и наполненное обломками разрушения – безымянными, неправдоподобными и невидимыми предметами, которые хлестали и молотили лодку и, крутясь, уносились прочь. Он не знал, что теперь плывет по реке. В тот момент он ни за что не поверил бы в это, даже если бы и знал. Вчера он знал, что плывет по каналу, чему свидетельством были строго одинаковые промежутки между деревьями, стоявшими двумя параллельными рядами. Теперь же, поскольку даже при дневном свете он не смог бы увидеть границ, последнее место под этим солнцем (или скорее под этим пасмурным небом), которое он назвал бы местом своего нахождения, была бы река; если бы он вообще задумался о месте своего пребывания, о географии под ним, он бы просто сказал, что с головокружительной и необъяснимой скоростью несется над самым большим в мире хлопковым полем; если бы он, который вчера знал, что находится на реке, искренне и всерьез принял бы этот факт, а потом увидел, что река без всякого предупреждения повернула вспять и понеслась на него с яростным и убийственным намерением, как взбесившийся жеребец на ипподроме… если бы он хоть на одно мгновение подумал, что этот дикий и безграничный простор, где он теперь оказался, и есть река, то рассудок его просто не выдержал бы, он бы потерял сознание.
Когда наступил день – серый рваный рассвет, наполненный бегущими клочьями облаков, перемежающимися шквальными порывами дождя, – и он снова смог видеть, он понял, что находится не на хлопковом поле. Он понял, что взбесившаяся вода, которая избивала и несла лодку, текла не над землей, покоренной и вдоль и поперек исхоженной человеком вслед за напряженными и раскачивающимися ягодицами мула. Тогда-то ему и пришло в голову, что теперешнее состояние реки не является каким-то из ряда вон выходящим событием этого десятилетия, как раз то, что река все предшествующие годы соглашалась нести на своем покойном и сонном лоне хрупкие творения смешной человеческой изобретательности, и было событием из ряда вон выходящим, а сегодняшнее является нормой, и сейчас река делает то, что ей нравится, и предшествующие десять лет она терпеливо дожидалась этой возможности, как мул, который будет работать на вас десять лет ради возможности хотя бы раз лягнуть вас. И еще он понял кое-что и о страхе, кое-что, чего не смог понять тогда, когда ему было по-настоящему страшно – в те три или четыре секунды в ту ночь его юности, когда он видел перед собой дважды сверкнувший огнем ствол пистолета в руке перепуганного почтового клерка, прежде чем клерка удалось убедить в том, что из его (заключенного) пистолета нельзя выстрелить: если ты достаточно долго испытываешь страх, то наступает момент, когда твое состояние перестает быть агонией, а становится просто ужасающей, невыносимой болью, как после сильного ожога.
Теперь ему уже не надо было больше грести, он только рулил (он уже двадцать четыре часа ничего не ел и фактически не спал – пятьдесят), а лодка неслась по этому бурлящему хаосу, где он уже давно не отваживался верить в то, что окажется там, где он может не испытывать сомнений относительно своего местонахождения; обломком доски он пытался сохранить лодку, уберечь ее от столкновения с домами и деревьями и мертвыми животными (с целыми городками, лавками, коттеджами, парками и фермами, которые выпрыгивали из воды и играли вокруг него, как рыбы), он уже не пытался добраться куда-нибудь, а просто хотел удержать лодку на плаву, пока у него есть силы. Ему нужно было так мало. Он не хотел ничего для себя. Он только хотел избавиться от этой женщины, ее живота и пытался сделать это по-хорошему, не для себя, а для нее. Ведь он в любое время мог высадить ее на другое дерево…
– Или мог выпрыгнуть за борт, а она с лодкой пускай бы потонула себе, – сказал толстый заключенный. – Тогда тебе дали бы десятку за побег, а потом повесили бы за убийство, а твоей родне еще выставили бы счет за лодку.
– Да, – сказал высокий заключенный… Но он не сделал этого. Он хотел, чтобы все было по-хорошему, хотел найти кого-нибудь, кого угодно, кому можно было бы сдать се, что-нибудь твердое, куда ее можно было бы высадить, а потом прыгнуть назад в реку, если уж кому-то так этого хочется. О большем ему и не мечталось – просто выплыть куда-нибудь, куда угодно. Казалось бы, не так уж много он и просил. Но и этой малости ему не было дано. Он рассказывал, как лодка плыла и плыла все дальше…
– И что, так никого и не встретил? – спросил толстый заключенный. – Никакого парохода, ничего?
– Не знаю, – ответил высокий… он только пытался удержать ее на плаву, и наконец забрезжил, просиял и полностью вступил в свои права рассвет…
– Постой, – сказал толстый заключенный. – Мне показалось, ты говорил, что день уже наступил.
– Да, – сказал высокий. Он закручивал самокрутку, осторожно насыпая из нового кисета табак на сложенный клочок бумаги. – Это был уже другой день. Их прошло несколько, пока меня не было – …лодка по-прежнему продолжала нестись по извивающемуся коридору, образованному подтопленными деревьями, и заключенному снова пришлось признать, что река снова течет туда, откуда еще два дня назад она вытекала. Не то чтобы какой-то инстинкт, как и два дня назад, подсказал ему, что река течет вспять. Он не стал бы утверждать, что сейчас верит в то, что плывет по той же реке, хотя он и не удивился бы, обнаружив, что все же верит в это, теперь он был, как был уже некоторое время и как, вероятно, пробудет еще неопределенное время, игрушкой и пешкой в руках коварной и непредсказуемой географии. Он просто осознал, что снова находился на реке, со всеми вытекающими последствиями пребывания над некоей понятной, даже если и не знакомой, частью земной поверхности. Теперь он полагал, что ему только и нужно делать, что грести достаточно долго, и тогда он выплывет на что-нибудь горизонтальное и находящееся выше уровня воды, пусть оно и не будет сухим и даже обитаемым, а если он еще будет грести и достаточно быстро, то успеет вовремя, и что его вторая самая крайняя нужда состоит в том, чтобы заставить себя не смотреть на женщину, которая – неоспоримое и неизбежное присутствие его пассажирки вернулось в виде ее зрительного образа вместе с рассветом – перестала быть живым существом и (к первым двадцати четырем, а теперь уже, даже считая курицу, к первым пятидесяти часам можно было прибавить еще двадцать четыре. Курица была мертва, она утонула, одно ее крыло попало под дранку на крыше, которая вдруг выплыла вчера рядом с его лодкой, и он съел немного сырого птичьего мяса, хотя женщина и отказалась) превратилась в инертное, чудовищное, засасывающее чрево, и он верил, что если только сможет оторвать от него взгляд и не смотреть снова, как оно исчезнет, и если бы он только смог заставить себя не глядеть больше туда, где оно находилось, оно не вернулось бы. Вот чем были заняты его мысли, когда он вновь обнаружил, что идет волна.
Он не знал, как обнаружил, что она возвращается. Он не слышал никакого звука, ее нельзя было ни увидеть, ни почувствовать. Он даже не понял, что одного того, что лодка оказалась вдруг в почти стоячей воде, – то есть если раньше движение потока, не важно в какую сторону, было по крайней мере горизонтальным, то теперь оно приняло вертикальное направление – было достаточно, чтобы насторожить его. Вероятно, просто это была непобедимая и почти фанатичная вера в изобретательность и врожденное коварство той среды, в которую его забросила судьба, и забросила явно навечно; ни ужаса, ни удивления не испытал он, когда вдруг его осенило: что бы она ни замышляла, ей теперь, чтобы подготовиться к осуществлению своего замысла, хватит и доли секунды. А потому он крутанул лодку, подсек ее, как коня на скаку, теперь, изменив направление, он уже не мог даже различить контуры русла, по которому приплыл сюда. Он не знал – то ли он просто не видит его, то ли оно исчезло некоторое время назад, а он и не заметил этого; то ли река потерялась в утонувшем мире, то ли мир утонул в одной бескрайней реке. Он не мог понять – то ли лодка несется прямо перед волной, то ли ее несет вдоль гребня: единственное, что он мог теперь, это попытаться убежать от ощущения нарастающей ярости за его спиной и грести из последних сил, на какие способны его уставшие и уже онемевшие мускулы, и пытаться не смотреть на женщину, оторвать от нее глаза и нe смотреть больше, пока он не достигнет чего-нибудь плоского и выше уровня воды. И в этот момент, до крайности измотанный, со впавшими глазами, которые он почти физическим усилием напрягал и пытался отвести в сторону, словно то были две палочки с резиновыми присосками, какими стреляют из детского пистолета, с уставшими мышцами, подчинявшимися теперь не воле, а тому гипнотическому ритму движения, который сильнее просто изнеможения и которому легче продолжаться, чем остановиться, его лодчонка еще раз со всей силой врезалась во что-то, чего не могла преодолеть, и его снова резко бросило вперед, он упал на руки и на колени и, полураспластавшись, приподнял свое обезумевшее распухшее лицо, взглянул на человека с дробовиком в руках и сказал хриплым срывающимся голосом: – Виксберг? Где Виксберг?
Даже когда он пытался рассказать об этом, даже по прошествии семи недель, когда он находился в целости и сохранности, под опекой, под надзором, под двойной гарантией десяти лет, которые добавили к его сроку за попытку побега, на его лицо, в его голос и речь возвращалось что-то от той истеричной изумленной ярости. Но он даже и не перебрался в ту, другую лодку. Он рассказывал, как цеплялся за поручень (это была грязная некрашеная лодка с надстройкой, с торчащей под пьяноватым углом жестяной трубой печки, когда он врезался в нее, она двигалась и явно даже не изменила курса, хотя трое ее пассажиров все это время несомненно наблюдали за ним… За рулем босой мужчина со спутанными волосами и бородой и еще – он не знал, сколько времени – женщина, прислонившаяся к дверям, одетая в случайный набор грязной мужской одежды, она тоже смотрела на него с той же холодной раздумчивостью), как его бешено молотило о борт, как он пытался выразить, объяснить свое простое (по крайней мере для него) желание и нужду; рассказывая, пытаясь рассказать об этом, он снова чувствовал ту незабываемую обиду, похожую на приступ лихорадки, и наблюдал, как тоненькая струйка табака медленно и упорно сочится из его трясущихся пальцев, а потом с высоким, резким звуком рвется сам клочок бумаги.
– Сжечь мою одежду? – прокричал заключенный. – Сжечь ее?
– А ты что же – собираешься бежать с этой тюремной вывеской? – сказал человек с дробовиком. Он (заключенный) пытался рассказать, пытался объяснить, как он пытался объяснить не только тем троим на лодке, но и всему миру – бесплодной воде и одиноким деревьям и небесам – не ради того, чтобы оправдаться, потому что ему не в чем было оправдываться, – и он знал, что его слушатели, другие заключенные, не требовали от него никаких оправданий, – а скорее по той же причине, по какой в состоянии крайнего изнеможения полуосознанно и изумленно он мог бы выбрать смерть. Он рассказал человеку с дробовиком, как ему и его напарнику дали лодку и приказали подобрать мужчину и женщину; как он потерял своего напарника и не смог его найти, и теперь единственное, чего он хотел, это найти какое-нибудь ровное место, чтобы оставить там женщину, а потом искать полицейского, шерифа. Он вспомнил о доме, о том месте, где жил почти с детства, о своих старых друзьях, привычки которых он хорошо знал и которые знали его привычки, о знакомых полях, где он работал и где выучился работать хорошо и любить работу, о мулах, характеры которых он знал и уважал, как знал и уважал характеры некоторых людей; он вспомнил о бараках ночью с сеточками от мошкары на окнах летом и с доброй печкой зимой, о тех, кто приносил топливо и еду; о бейсболе по воскресеньям и о кинофильмах – о вещах, которых – кроме бейсбола – он не знал раньше. Но больше всего волновался он о своем собственном образе (два года назад ему предложили стать бригадиром. Согласись он, и ему не пришлось бы больше пахать землю или заготавливать сырец, ему нужно было бы лишь ходить с заряженным ружьем за теми, кто делал это, но он отказался. «Наверно, я полюбил это дело, – сказал он без всякого юмора. – Один раз я уже пострелял, с меня достаточно»), о своем добром имени, об ответственности не перед теми, кто нес ответственность перед ним, а перед самим собой, перед своей собственной честью, которой он отвечал за то, что ему поручено делать, перед своей гордостью за то, что он может сделать это. Он думал обо всем этом, слушая, как человек с дробовиком говорит о побеге, и ему казалось, что вот сейчас, еще один сумасшедший удар о борт, еще минута в таком положении (именно здесь, говорил он потом, он впервые заметил козлиные бороды из мха на деревьях, хотя, может быть, они были там уже несколько дней. Просто так уж получилось, что здесь он впервые заметил их), и ему наступит конец.
– Как вы не можете понять, я вовсе не собираюсь бежать! – закричал он. – Можете стоять там с вашим ружьем и смотреть за мной, даю вам честное слово. Я только хочу высадить эту женщину на…
– Я тебе уже сказал, она может перебраться сюда, – сказал ровным голосом мужчина с дробовиком. – Но на моей лодке нет места для типов, которые охотятся за шерифами бог знает в какой одежонке, я уж не говорю о тюремной робе.
– Если он ступит на борт, шарахни его по черепу прикладом, – сказал человек за рулем. – Он пьян.
– Никуда он не ступит, – сказал человек с дробовиком. – Он сумасшедший.
Тогда заговорила женщина. Она не шелохнулась, продолжала стоять, прислонясь к двери, в выцветших, заплатанных и грязных брюках, как и у двоих мужчин. – Дай им немного еды и скажи, пусть убираются отсюда. – Она отделилась от двери, пересекла лодку, ее холодное угрюмое лицо склонилось над попутчицей заключенного. – Сколько тебе еще осталось?
– Я не ждала раньше следующего месяца, – сказала женщина в лодчонке. – Но я… – Женщина в брюках повернулась к мужчине с дробовиком.
– Дай им немного еды, – сказала она. Но мужчина с дробовиком продолжал смотреть на женщину в лодчонке.
– Ну, давай, – сказал он заключенному. – Давай ее сюда, а сам катись.
– А с тобой что будет? – сказала женщина в брюках. – Что будет, когда ты попытаешься сдать ее полиции? Когда ты явишься к шерифу, и шериф спросит, кто ты такой? – Но человек с дробовиком даже не взглянул на нее. Дробовик на его руке почти не шелохнулся, когда он тыльной стороной другой руки ударял женщину по лицу, ударил сильно. – Сволочь ты, – сказала она. Но человек с дробовиком даже не взглянул на нее.
– Ну? – сказал он заключенному.
– Неужели вы не видите, что я не могу? – сказал заключенный. – Неужели вы не видите?
И тогда, сказал он, он сдался. Он был обречен. То есть теперь он знал, что был обречен с самого начала, обречен на то, чтобы навсегда оставаться с ней, точно так же, как те, кто послал его, знали, что на самом деле он никогда не сдастся; когда в одном из предметов, которые женщина в брюках бросала в лодку, он узнал банку со сгущенкой, он увидел в этом предзнаменование, – бесплатное и неопровержимое, как извещение о смерти, посланное по телеграфу, – того, что ему даже не удастся вовремя найти какую-нибудь плоскую неподвижную поверхность, чтобы она могла родить на ней. И он рассказал, как удерживал свою лодчонку у борта большой, пока первые пробные толчки второй волны раскачивали лодку, женщина в брюках сновала между надстройкой и бортом, швыряя им еду – ломоть солонины, драное и грязное стеганое одеяло, обожженные горбушки черствого хлеба, которые она высыпала в лодчонку из сковородки, словно мусор, – а он тем временем цеплялся за поручень, сопротивляясь нарастающей мощи потока, новой волны, о которой он забыл на минуту, потому что все еще пытался выразить невероятную простоту своего желания и нужды, но тут человек с дробовиком (только у него из троих на ногах были ботинки) начал наступать ему на пальцы, а он перехватывал руки, чтобы не попасть под тяжелый ботинок, но когда человек с дробовиком замахнулся ногой, целясь ему в голову, он мотнулся в сторону, чтобы избежать удара, и отпустил поручень, вес его тела отбросил лодчонку в сторону по касательной к набирающему силу потоку, и его лодка стала отваливать от большой, оставила ее позади, а он снова принялся бешено грести, так человек торопится к пропасти, рухнуть в которую, как он наконец понял, он обречен, он оглянулся на другую лодку, на три угрюмых, ироничных и мрачных лица, которые быстро уменьшались, потому что расстояние между ними росло, и тогда он, – задыхающийся и оглушенный невыносимым фактом, заключающимся не в том, что ему было отказано, а в том, что ему было отказано в столь малом, ведь ему нужно было так немного, он просил так немного, но за это у него потребовали ту цену из всех возможных, которую (они не могли не знать этого) он и не мог заплатить, а если бы мог, то не был бы там, где был сейчас, не просил бы того, о чем просил, – поднял весло, потряс им в воздухе и принялся выкрикивать проклятия в их адрес, и продолжал выкрикивать даже после того, как дробовик сверкнул огнем и заряд поднял брызги возле борта.
И вот, рассказывал он, корчась в лодке, потрясая веслом и осыпая их проклятиями, он вдруг вспомнил о новой волне, о второй стене воды, наполненной домами и мертвыми мулами, которая набирала силы где-то там на болоте за ним. И тогда он перестал кричать и начал грести. Он не пытался убежать от нее. Из опыта он знал, что, когда она догонит его, ему все равно придется двигаться в том же направлении, что и она, хочет он того или нет, и когда она в действительности догнала его, он начал двигаться слишком быстро, чтобы остановиться, и было уже не важно, куда он попадет, чтобы оставить там женщину, высадить ее вовремя. Время – вот что теперь было его главной болью, а потому его единственный шанс состоял в том, чтобы как можно дольше оставаться впереди волны и надеяться добраться куда-нибудь до того, как она настигнет его. И он продолжал грести, двигая лодчонку своими мускулами, которые столько времени напрягали последние силы, что уже перестали чувствовать усталость, точно так же человек, к которому фортуна долго была несправедлива, перестает верить в то, что это несправедливо, уже не говоря о том, что это фортуна. Даже когда он ел – обожженные горбушки размером с бейсбольный мяч, а весом и прочностью с угольный брикет даже после того, как они пролежали на днище лодчонки, куда женщина в брюках бросила их: твердые, как железо, тяжелые, как свинец, комки, которые никто не назвал бы хлебом, разве что на обожженной и обгоревшей сковородке, на которой их приготовили, – он делал это одной рукой, да и то все время порывался схватиться за весло второй.
Он пытался рассказать и об этом… в тот день лодчонка плыла среди бородатых деревьев, а время от времени волна высылала вперед тихие, пробные, разведывательные импульсы, которые легко и с любопытством секунду-другую раскачивали лодчонку, а потом со слабым шипящим вздохом, почти похожим на сдавленный смех, уносились дальше, а лодчонка продолжала свой путь, окруженная лишь деревьями, водой и опустошением; и вскоре ему перестало казаться, что он пытается увеличить расстояние и пространство за собой или сократить расстояние и пространство перед собой, ему представилось, что теперь и он, и волна подвешены одинаково безмолвно и бездвижно в чистом времени над сонным разорением, в котором он гребет не потому, что испытывает какую-то надежду добраться хоть куда-то, а просто ради того, чтобы не дать сократиться тому ничтожному расстоянию в длину лодчонки, которое отделяет его от этой инертной и неотвратимой женской плоти перед ним; потом наступила ночь и лодчонка понеслась вперед, понеслась быстро, потому что в темноте и неизвестности любая скорость высока; впереди него – пустота, а сзади – убийственный образ массы нависающей и рвущейся вперед воды, пенистый гребень которой скалится обнаженными клыками; потом снова наступил рассвет (еще одно из этих сонных превращений дня в ночь, а потом снова в день, происходивших как-то незаметно, анахронично и ирреально, как загорается и потухает свет прожекторов на сцене театра), и лодчонка плыла теперь с женщиной, которая не ежилась более под усевшим и промокшим насквозь мундиром, а сидела прямо, обеими руками ухватившись за планшир, ее глаза были закрыты, нижняя губа зажата между зубами, а он с ожесточением из последних сил гнал полуразбитую лодчонку вперед, уставя на нее взор своих глаз с безумного, распухшего, бессонного лица, и кричал надтреснутым голосом: – Держись! Ради всего святого, держись! – Я стараюсь, – отвечала она. – Только скорее! Скорее! – Он рассказывал об этом, о неизбежном: быстрота, спешка; все равно что советовать человеку, летящему в бездну, схватиться за что-нибудь, чтобы спастись; даже сам рассказ об этом выходил туманный и карикатурный, нелепый, комичный и сумасшедший, лихорадка невыносимых провалов в памяти делала его более фантастично-неистовым, чем любая сказка за огнями просцениума.
Потом он оказался в бассейне… – В бассейне? – спросил толстый заключенный. – Ты, значит, там купался?
– Пусть так, – резко сказал высокий. – Купался. – Крайним напряжением воли он смирил дрожь в руках на время, достаточное, чтобы выпустить из пальцев два клочка папиросной бумаги, он проводил их взглядом – в легкой трепещущей нерешительности они покружились в воздухе и улеглись между его ног, ему даже удалось сдержать дрожь в руках еще на какое-то мгновение… бассейн, широкое безмятежное желтое море, имевшее неожиданный и странно упорядоченный вид, который даже в тот момент произвел на него такое впечатление, будто вся эта местность привычна к воде, пусть и не к полному погружению; он даже вспомнил, как она называется, две или три недели спустя кто-то сказал ему: Ачафалайа…
– Луизиана? – спросил толстый заключенный. – Ты хочешь сказать, что ты был за пределами штата Миссисипи? Черта с два. – Он уставился на высокого. – Чушь, – сказал он. – Ты был всего лишь напротив Виксберга.
– Нет, никто не говорил, что Виксберг напротив того места, где я оказался, – сказал высокий. – Они называли его Батон Руж. – И он начал рассказывать о городе, маленьком, аккуратном, белом городке, каких сотни в Америке, приютившемся среди огромных очень зеленых деревьев, городок этот появился в рассказе внезапно, как, вероятно, появился и перед ним в тот день – неожиданный, нереальный, похожий на мираж и невероятно безмятежный за скоплением лодок, причаленных к цепочке товарных вагонов, стоящих в воде по самые двери. И теперь он пытался рассказать и об этом: как он, стоя по пояс в воде, оглянулся на минуту в сторону лодки, где все еще с закрытыми глазами полулежала женщина, суставы ее пальцев белели на планшире, с прикушенной губы на подбородок стекала тонкая ниточка крови, а он смотрел на нее с каким-то яростным отчаянием.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































