Текст книги "В благородном семействе"
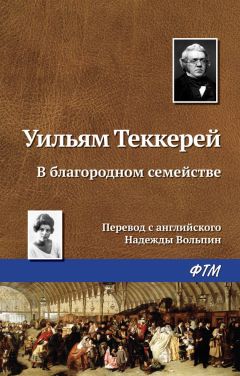
Автор книги: Уильям Теккерей
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 9 страниц)
Глава V,
которая содержит в себе всяческие любовные переплеты
Барышень Макарти крайне возмутило, что мистер Фитч посмел влюбиться в их сестру; и жизнь бедной Каролины, как вы понимаете, не стала сколько-нибудь легче от пробужденной таким образом зависти и злобы. Любовь мистера Фитча стала для нее источником новых мучений. Мать говорила ей в насмешку, что так как они оба нищие, то они не могут сделать ничего умней, как пожениться; и заявила в том же язвительном тоне, что лучшего она и пожелать не может, чем видеть вокруг себя целый выводок внуков, которые будут для нее пыткой и обузой, как сейчас ее дочка. Когда намерения молодого человека стали всем ясны (а ясны они стали в самом скором времени), его едва не попросили немедленно съехать с квартиры – или, говоря языком мистера Ганна, чуть не прогнали взашей; к каковой мере, в негодовании возгласил достойный муж, он прибегнул бы всенепременно. Но его супруга не пожелала допустить подобной грубости, хотя и она, со своей стороны, выражала художнику сильнейшее свое презрение. Ибо надобно упомянуть об одном прискорбном обстоятельстве: незадолго перед тем Фитч по просьбе миссис Ганн уплатил ей за стол и квартиру не больше и не меньше, как на целый квартал вперед, и художник имел в руках расписку хозяйки в получении соответствующей суммы; упоминание жены об этом обстоятельстве заставило Ганна прикусить язык. Впрочем, точно известно, что сколько бы миссис Ганн ни язвила дочь и как справедливо ни поносила Фитча за бедность, в душе она была отнюдь не против их брака. Во-первых, она любила устраивать браки; во-вторых, она была бы рада хоть как-нибудь сбыть дочку с рук; а в-третьих, у Фитча была богатая и бездетная тетка – супруга аукциониста; к тому же она слышала, художники нередко зарабатывают большие деньги, и Фитч, кто его знает, мог оказаться талантливым художником. Итак, ему позволили остаться в доме на ролях хотя и не сделавшего предложения, но весьма усердного поклонника; и сколько угодно вздыхать, и стонать, и писать стихи и портреты своей возлюбленной, и строить воздушные замки. Наша смиренная Золушка оказалась в довольно сложном положении: она питает нежное чувство ко второму этажу, обожаема третьим и должна услужать и тому и другому, кидаясь на каждый звонок; при этом, как старается она не замечать вздохов и взглядов, которыми дарит ее художник, так равным образом она приучила себя, бедняжка, к сдержанности и спокойствию в отношении мистера Брэндона и не позволяет ему проникнуть в тайну, трепещущую в ее сердечке.
Мне кажется, можно установить как почти неизменное правило, что большинство романтичных девочек Каролининого возраста лелеют такое же полурасцветшее чувство, какое вынашивала в себе наша юная героиня; вполне, конечно, невинное: лелеют и с наслаждением рассказывают о нем по секрету какой-нибудь confidante[24]24
Наперснице (франц.).
[Закрыть] на час. А то чего бы ради сочинялись романы? Напрасно, что ли, читала Каролина о Валанкуре и Эмилии? И неужели же она не извлекла доброго примера из всех пяти слезоточивых томов, описывающих любовь девицы Эллен Map и сэра Уильяма Уоллеса? Много раз она рисовала себе Брэндона в причудливом наряде, какой носил обольстительный Валанкур; или воображала себя самое прелестной Эллен, повязывающей ленту вкруг лат своего рыцаря и отправляющей героя в битву. Спору нет, глупенькие фантазии; но примите в расчет, сударыня, возраст нашей бедной девочки и ее воспитание; ниоткуда не получила она наставлений, кроме как от этих милых, добрых и глупеньких книг; единственное счастье, отпущенное ей судьбой, заключалось в этом молчаливом мире вымысла. Было бы жестоко осудить бедняжку за ее мечты; а она предавалась им все смелей и, краснея, делилась ими с верной Бекки, когда они сидели вместе у негордого кухонного очага.
Однажды, хоть ей это и стоило сердечной муки, она набралась храбрости и взмолилась к матери, чтобы та не посылала ее больше наверх, в комнаты жильцов – потому что она трепетала при мысли, что Брэндону при случае откроется ее приверженность к нему; но такое соображение никак не приходило в мудрую голову миссис Ганн. Она подумала, что дочка уклоняется от встречи с Фитчем, и строго приказала ей исполнять свой долг и не строить из себя гордячку; и, сказать по правде, Каролина не слишком огорчилась, что принуждена и впредь видеться с Брэндоном. Отдадим справедливость обоим джентльменам: ни тот, ни другой еще ни разу не вымолвил ничего такого, чего Каролине не подобало бы выслушать. Фитч скорее дал бы разорвать себя на куски тысяче диких коней, чем позволил бы себе хоть полусловом оскорбить ее чувства; а Брэндон, хотя в обычных обстоятельствах не очень-то щепетильный, был прирожденный джентльмен, и если не добродетель, то вкус подсказывал ему обращаться с нею уважительно.
Что касается девиц Макарти, то мы упоминали выше, что они уже не раз отдавали свое сердце; что мисс Изабелла в ту пору нацелилась на некоего молодого виноторговца и на лейтенанта или полковника Своббера, несшего службу в Испании; а мисс Розалинда питала решительную склонность к некоему знатному иностранцу с черными великолепными усами, почтившему Маргет своим присутствием. Первый из двух воздыхателей мисс Беллы, Своббер, исчез с горизонта; с виноторговцем же она еще встречалась довольно часто и, как полагают, почти решилась принять его искания. А вот насчет мисс Розалинды я с прискорбием скажу, что течение ее верной любви шло отнюдь не гладко: француз оказался не маркизом, а маркером; и для покинутой дамы разочарование было печальным и горьким.
Мы бы давно об этом рассказали, если бы это послужило в семействе Ганнов предметом долгих обсуждений; но когда Ганн попробовал однажды подтрунить над падчерицей по поводу ее незадачливой любви (пустев по такому случаю в ход все то остроумие, которым издавна славился), мисс Линда пришла в бешеную ярость и так себя повела, что Джеймс Ганн, эсквайр, чуть с ума не своротил со страху под излившимся на него потоком угроз, проклятий и визга. Мисс Белла, тоже расположенная понасмешничать, точно так же испуганно замолкла: ее милая сестрица пригрозила сию же минуту вырвать ей глаза и добавила кое-какие намеки касательно любовных дел самой мисс Беллы, намеки, от которых та сперва побелела, потом побагровела, забормотала что-то насчет «бесстыдной лжи» и выбежала вон из комнаты. Больше об этом предмете у Ганнов не распространялись. И даже когда миссис Ганн как-то обмолвилась об «этом подлом обманщике французе», ее сейчас же оборвала… не сама обиженная, а мисс Белла, резко прокричав: «Мамаша, придержите язык и не приставайте к нашей милой Линде с такой чушью». Очень может быть, что между девицами произошел приватный разговор, который, начавшись несколько озлобленно, закончился вполне миролюбиво; и больше о маркизе не упоминалось.
Итак, мисс Линда была относительно свободна (Боб Смит, галантерейщик, и юный Глаубер, аптекарь, в счет не шли); и к ее большой удаче изменнику-французу почти немедленно нашелся заместитель.
Новый кавалер был, правда, человек простого звания; но владел недурным именьицем, приносившим доходу пятьсот фунтов в год, держал одноконный выезд и был, по словам мистера Ганна, «превосходнейшим малым, какой только жил на свете». Скажем прямо, этим новым искателем был не кто иной, как мистер Свигби. В первый же день, как его ввели в дом, две сестрицы явно произвели на него сильное впечатление; он прислал в подарок мистеру и миссис Ганн индейку с собственного птичьего двора и шесть бутылок превосходного голландского джина; а через каких-нибудь десять дней после первого своего визита сообщил другу Ганну, что отчаянно влюблен в двух особ, чьи имена он никогда – никогда! – не назовет. Достойный Ганн прекрасно знал, в чем дело; ибо от него не ускользнуло, что Свигби приуныл, и он правильно разгадал причину.
Свигби было сорок восемь лет, он был толстый, здоровый, веселый и выпить был не дурак, но никогда не числился в дамских угодниках, да и едва ли за всю свою жизнь провел хоть шесть вечеров в дамском обществе. Ганна он почитал самым благородным и утонченным человеком на земле. Никогда он не слышал, чтобы кто-нибудь пел лучше Джеймса или лучше шутил; никогда не встречал такого светского господина, такого законченного джентльмена. «У Ганна есть свои недостатки, – говаривал он в «Сумке Подмастерья», – у кого из нас их нет? Но, скажу я вам, он самый славный парень, лучше быть не может». С тех пор как он три года тому назад вступил во владение своим именьицем, он без конца платил за Ганна по счету, без конца давал ему в долг сегодня гинею, завтра полгинеи. Чем Свигби занимался раньше, я и сам не знаю. Что нам до того? Есть сейчас у него пятьсот фунтов в год доходу, есть одноконный выезд? Есть! Так о чем разговор?
Со времени вступления в наследство, молодой веселый холостяк успел взять от жизни свою долю удовольствий (как он выражался – «свой кус»); каждый вечер он захаживал в кабак, а то и в два; и пьян бывал, будьте уверены, не меньше, как тысячу раз за три года. Многие при этом пробовали его обобрать; но не тут-то было! Он знал что к чему и в денежных делах всегда был прост и умен. В Ганне его покорило благородство манеры: его похвальба, его тон, аристократизм его эспаньолки. Приглашение в дом к такому господину польстило его гордости; а когда он шел к себе со званого обеда, описанного в предпоследней главе, он был в бурном упоении от любви и хмеля.
«Роскошная женщина эта миссис Ганн! – размышлял он, повалившись в гостинице на свою кровать, – а девчонкой была, наверно, куда как хороша! Сейчас в ней добрых шесть пудов, без седла и сбруи, как пить дать. А уж барышни Макарти… Боже ты мой! Какие свежие, красивые, шикарные девицы настоящий шик и в той и в другой! Волосы какие! Как вороново крыло – да, право слово, вороные, как моя кобылка; а щечки, а шеи, а плечи!» Назавтра в полдень он высказал те же замечания самому Ганну, прохаживаясь с ним взад и вперед по молу и покуривая манильские сигары. Он был в полном восторге от проведенного вечера. Ганн принимал его хвалы с благодушным величием.
– Кровь, сэр! – сказал он. – Кровь это все! Девчонки получили такое воспитание, как мало кто еще. Я о себе не говорю; но их мать – их мать настоящая леди, сэр. Сыщите мне в Англии женщину, которая лучше воспитана и лучше знает свет, чем моя Джулиана!
– Не сыщешь, – это невозможно, сэр, – сказал Свигби.
– А знали бы вы, какое общество окружало нас раньше, сэр, до нашего несчастья, – первое в стране! Замок Бранденбург, сэр… жестоко обиженная королева Англии. Бог ты мой! Джулиана там бывала запросто.
– Верю вам, сэр, по ней это видно, – сказал убежденно Свигби.
– А девочки наши, разве же они не состоят в родстве с первейшими семьями Ирландии, сэр? Состоят! Как я заметил раньше, кровь это все; а в жилах этих молодых девиц она лучшая из лучших: они в родстве с самой что ни на есть исконной знатью.
– Им дано, конечно, все самое лучшее, – сказал Свигби, – и по заслугам! – Тут он пустился повторять свои давешние замечания: – Какие красавицы, сколько в них шика! Какие глаза! И какие волосы, сэр!.. Вороные, сэр, говорю вам, сплошь вороные, без подпалин. А цвет лица, сэр, – да! И какие стати! Я отроду не видывал подобной шеи и плеч!
Ганн, засунувший руки в карманы (приятель поддерживал его за локоть), тут вдруг вытащил правую руку из места ее укрытия, стиснул в кулак, осклабился в гнусненькую ухмылку и так поддал мистеру Свигби под ребра, что едва не свалил его в воду.
– Ах, хитрая бестия! – сказал мистер Ганн с неизъяснимой выразительностью. – Ты и это высмотрел. Поостерегись, Джо, мой мальчик, поостерегись!
И тут Ганн и Джо разразились громовым хохотом, раскаты которого гремели снова и снова через промежутки в пять минут до конца их прогулки. Разошлись друзья весьма довольные оба; и когда они вечером встретились в «Сумке», Ганн с таинственным видом потащил Свигби в буфет и сунул ему в руку треугольник розовой бумаги, на котором тот прочитал:
«Миссис Ганн и девицы Макарти просят мистера Свигби оказать им честь и удовольствие своим обществом (если у Вас нет на этот час более приятного занятия) за чашкой чая завтра вечером, в половине шестого.
Вилла Маргаретта по Саламанкской дороге.
Северная сторона. Четверг вечером».
Когда один из джентльменов передавал, а другой читал это послание, лица обоих сияли откровенной радостью. И, как я склонен думать, миссис Ганн, вопреки обыкновению, была в тот день вполне довольна поведением своего супруга: лестный Джеймс имел в кармане не больше и не меньше, как тринадцать с половиной шиллингов, и, по обыкновению, настоял на том, чтобы всем вокруг поставили по стопке. Джо Свигби, оставшись один в малой зале за буфетом, потребовал лист бумаги, новое перо и облатку и за полчаса времени сочинил вдохновенный и удовлетворяющий приличиям ответ на письмо, – каковой и был вручен Ганну и своевременно передан по назначению. Ровно в половине шестого мистер Джозеф Свигби постучал в дверь «Виллы Маргаретта» – в новом сюртуке с блестящими медными пуговицами, чисто побритый и с большими ярко-красными ушами, радостно сиявшими над большим воротником.
Что происходило на этом чае, рассказывать здесь ни к чему; но только Свигби возвращался с него еще сильнее очарованный, чем в первый раз, и объявил, что дуэты (спетые дамами прескверно и вразброд) были сладчайшей музыкой, какую он слышал в жизни. На другой день он прислал индейку и джин; и, разумеется, был приглашен на обед. После обеда он, со своей стороны, предложил повезти всех девиц с их мамашей за город; и нанял для поездки прямо-таки шикарную коляску с откидным верхом. Предложение не было отклонено; на радостях мистер Свигби предложил и Фитчу поехать со всеми, и тот с восторгом согласился.
– Мы с Джо сядем на козлы, – сказал Ганн. – Вы, четыре дамы и мистер Фитч устроитесь внутри. Карри придется приткнуться на сиденье третьей, но она не толстая.
– Карри просто останется дома, – распорядилась ее маменька, – ей выезжать не пристало.
У бедного Фитча сразу вытянулось лицо; он только ради того и принял приглашение, чтобы побыть с нею рядом, а идти на попятный он уже не мог, после того как с таким жаром изъявил согласие.
– Ох, не нужно нам этого гордеца Брэндона, – запротестовали девицы, когда мистер Свигби в простоте душевной предложил прихватить и «того джентльмена»; и Брэндон поэтому не получил приглашения участвовать в поездке; он, пожалуй, был рад остаться дома; и без сожаления наблюдал, как коляска отъезжает со всем своим грузом. И кое-кто еще смотрел на это в окно гостиной, смотрел с тяжелым сердцем: бедняжка Каролина. День выдался ясный и солнечный; весна в тот год; была ранняя; так приятно было бы хоть на часок тоже сделаться дамой и прокатиться на резвых конях в нарядном экипаже.
Мистер Фитч, оглядываясь, устремлял на нее покорный и очень печальный взгляд; и был так уныл и бестолков всю первую половину поездки, что мисс Линда, сидевшая рядом с ним, предложила отчиму поменяться с ней местами; и в самом деле взобралась на козлы и села рядом со Свигби, млевшим от счастья. Каким гордым он почувствовал себя! Как лихо правил лошадьми и кидал шиллинги у застав!
– Уж он, будьте уверены, о мелочи не тревожится! – сказал Ганн, когда у одной заставы сторож, взимавший дорожный сбор, дал было сдачи пару медяков; и Джо почувствовал себя бесконечно обязанным; другу, что тот таким путем выставляет на вид его привлекательные черты.
О всесильная Судьба, ты, верховная правительница над нами, жалкими смертными, – какими мелкими средствами достигаются твои цели! – с какою презрительной легкостью и посредством какого же ничтожного орудия угодно тебе вершить свою власть над родом человеческим! Пусть каждый поразмыслит, как слагались обстоятельства его жизни и что определило ее направление. Встать ли немного раньше или позже, на ту ли улицу свернуть или на эту, то ли блюдо съесть или другое, – такой пустяк может на все года определить вашу дальнейшую жизнь. Пошел человек по левой стороне Риджент-стрит вместо правой, встречает приятеля; тот приглашает его к себе на обед, он идет, находит, что черепаховый суп на диво хорош, а пунш со льдом так приятно прохлаждает; и, будучи в веселом, легком расположении духа и не прочь развлечься, он не отказывается сыграть в приятном обществе один роббер в вист – и почему бы не пропустить еще стакан прохладительного этого пунша! Самым беспечным, благодушным образом он ставит несколько ремизов; а жажда все дает себя знать, и он ставит еще несколько ремизов; и, как человек горячий, он, понятно, удваивает ставки, и вот через эту самую прогулку по Риджент-стрит он на всю жизнь разорен. Или пошел он вместо левой по правой стороне Риджент-стрит, и – боже правый! – кто эта очаровательная девица, что выходит из лавки мистера Фрэзера и садится в свою карету, а мистер Фрэзер отвешивает ей и ее маменьке самый учтивый поклон? Это прелестная мисс Мойдор со ста тысячами фунтов приданого, которая изволила заметить вашу изящную фигуру и которая неизменно по первым числам каждого месяца ездит в город покупать свой обожаемый журнал. Вы едете за нею следом так быстро, как только может вас везти наемная пролетка. Всю дорогу девица читает журнал. Останавливается она в Хэмстеде у изящной виллы своего отца – с оранжереей, двойным каретником, лужайкой – какое там, целым парком! – для прогуливания лошадей. Когда тяжелые ворота уже готовы разлучить вас с этой милой девушкой, она оглядывается – всего лишь раз – и краснеет. Erubuit, salva est res! – покраснела, значит, дело на мази. Через неделю вы уже представлены семье и вас объявляют обворожительным молодым человеком самых высоких правил. К концу третьей недели вы оттанцевали с нею двадцать девять кадрилей и промчали ее в вальсе много миль. Через месяц миссис О'Флаэрти кинулась на шею своей матери, только что вернувшись из деревни Гретна близ Карлайла, где она гостила, и после этого вы до конца ваших дней имеете открытый счет у своего банкира. А что причиной всему этому благополучию? Прогулка по определенной стороне Риджент-стрит. И это столь верный и бесспорный факт, что один мой знакомый, молодой джентльмен из Шотландии, изо дня в день по нескольку часов мерит шагами названную улицу в твердой надежде, что такое же приключится и с ним; и в этих видах он за углом, в переулке Виголейн, держит наготове кеб.
Читатель, несомненно, ждет, что теперь после обстоятельного рассуждения должна последовать мораль. Так вот: рассматривая события нашей повести в свете данного выше небольшого экскурса о судьбе, мы приходим к следующим простым выводам:
1. Если бы мистер Фитч не услышал, что мистер Свигби приглашает всех присутствующих дам, он не принял бы приглашения Свигби и остался бы дома.
2. Если бы его не было в коляске, мисс Розалинда Макарти не сидела бы с ним рядом на переднем сиденье.
3. Если бы он не был угрюм, она ни в коем случае не попросила бы своего папашу уступить ей место на козлах.
4. Если бы она не поменялась местами со своим папашей, не последовало бы ни одно из тех обстоятельств, какие отсюда проистекли. Обстоятельства же эти были таковы:
1. Мисс Белла оставалась в экипаже.
2. Мистер Свигби, колебавшийся между двумя девицами, как известное животное между двумя охапками сена, в силу этого обстоятельства пришел к решению и сделал предложение мисс Линде, шепнув девице: «Мисс, я не ровня такой, как вы; но я крепок, здоров, имею доходу пять сотен в год. Вы пойдете за меня?» Сказать вам правду, этой речи его обучил хитрый Ганн, который ясно видел, что Свигби готов объясниться не с одной, так с другой из его падчериц. И на это девица – тоже шепотом – взволнованно ответила: «Ах, что вы, мистер Свигби! Какой вы странный! Как вы можете? – И, немного помолчав, добавила: – Поговорите с маменькой».
3. (И главное для нашей повести.) Если бы маленькую Каролину взяли на прогулку, она не осталась бы в Маргете одна, наедине с Брэндоном. Когда судьбе угодно, чтобы что-то произошло, она высылает вперед миллионы мелких обстоятельств расчистить и подготовить дорогу.
Читатель, верно, наблюдал, что в апреле месяце (как, впрочем, и в добром десятке других месяцев в году) преобладает холодный, северо-восточный ветер; и когда, соблазненный проблеском солнца, он выйдет подышать свежим воздухом, то получит он его в таком количестве, что ему хватит озноба до конца злополучного этого месяца. В один из таких дней, отмеченных прелестной английской погодой (как раз накануне увеселительной поездки, описанной в этой главе), мистер Брэндон, проклиная всей душой родную страну и думая о том, насколько же больше соответствуют его натуре ветры и нравы, господствующие у других народов, разгуливал среди скал близ Маргета под разбушевавшимся восточным ветром, которого не перенес бы ни один обыкновенный смертный, когда вдруг он набрел на знаменитого Андреа Фитча: с синими от холода пальцами художник сидел на уступе скалы и на серой бумаге рисовал углем этюд – вид то ли на море, то ли на сушу.
– Чудесный день выбрали вы для этюдов, – язвительно сказал Брэндон, высунув из мехового воротника пальто лиловый кончик своего тонкого орлиного носа.
Мистер Фитч улыбнулся, поняв иронию.
– Художнику, сэр, – возразил он, – холодная погода нипочем. В Академии был парень, который писал в Йисландии етюды при двадцати градусах ниже нуля – гору Хеклу, сэр! Ето он первый подал йидею насчет горы Хеклы для Зоологического сада в Сарри.
– Он был, наверно, редким энтузиастом, – сказал мистер Брэндон. – Мне кажется, большинство предпочло бы сидеть дома и не студить себе пальцы в такой мороз и бурю.
– Что мне буря, сэр? – величественно провозгласил Фитч, – в буре, сэр, я оживаю! Йистинный художник только тогда и бывает по-настоящему счастлив, когда он может вволю смотреть на бурную стихию окияна в час ее гнева.
– А вот идет пароход, – ответил Брэндон. – Мне думается, там жмутся на палубе десятка два несчастных, которые, не будучи художниками, предпочли бы видеть ваш океан спокойным.
– Они не поэты, сэр: величественный лик природы, непрестанно меняющий свои черты, сокрыт для их глаз. Я почитал бы себя недостойным сваво йискусства, если бы не мог ради него терпеть пустячные лишения, такие, как холод или зной. И, кроме того, сэр, как она ни тяжки, подобное зрелишше полностью меня вознаграждает; ибо, сколь бы ни были страшны мои личные беды, – а они чудовищны! – я не могу, взирая на зелень полей и грозное море, не забыть хотя бы наполовину выпавшие мне на долю горе и обиды; да и вправе ли такое жалкое создание, как я, думать о собственных делах пред лицом подобного зрелишша? Да, сэр, не могу! Мне становится стыдно; я склоняю голову и затихаю. Когда я берусь за изучение йискусства, сэр (а под ним я разумею природу), я не смею помышлять о чем-либо еще.
– Вы избрали предметом обожания весьма очаровательную и отзывчивую даму, сэр, – высокомерно ответил мистер Брэндон, разжигая сигару и делая первую затяжку. – Ваше пламенное увлечение делает вам честь.
– Если у вас найдется еще одна, – сказал Андреа Фитч, – я бы охотно закурил, потому как у вас, мне кажется, есть подлинная любовь к йискусству, а я здесь дьявольски продрог, прямо нет сил терпеть этот холод.
– Да, холод жестокий, – отозвался Брэндон.
– Нет, нет, я не о погоде, сэр! – сказал мистер Фитч. – Здесь вот, сэр (указывая на жилетку с левой стороны), – здесь!
– Что! У вас тоже горе?
– Горе, сэр? Муки… хвагония, которую я никогда не открывал ни единому смертному! Я перенес почитай что все: голод, сэр, нищету, наветы, безответную любовь! Когда бы не мое йискусство, я был бы самым несчастным созданием на земле!
И тут мистер Фитч принялся изливать в уши мистера Брэндона повесть о всевозможных горестях, какие ему выпадали на долю и в которые он посвящал всех и каждого, кто только не отказывался слушать.
Мистера Брэндона забавляла болтовня Фитча, и тот рассказывал ему, какие лишения он терпел, учась своему искусству: как он три года голодал в Париже и Риме, работая на избранном им поприще; какую низкую зависть проявила Королевская академия, ни разу не выставив ни одной его картины; как его выгнало из Вечного города внимание необъятно толстой миссис Каррикфергус, которая так-таки сама предложила ему себя в жены; и как он в настоящее время влюблен (факт, мистеру Брэндону уже достаточно известный) – безумно и безнадежно влюблен – в одну из красивейших девушек мира. Ибо Фитч, утолив жажду сердца избранием возлюбленной, теперь горел нетерпением найти наперсника: какая, в самом деле, радость от любви, если нельзя говорить о своих переживаниях другу, способному им посочувствовать? Фитч не сомневался, что Брэндон на это способен, потому что Брэндон был самым первым человеком, с которым художник вступил в разговор после того, как пришел к решению, изложенному в предыдущей главе.
– Надеюсь, она не менее богата, чем злополучная миссис Каррикфергус, с которой вы обошлись так жестоко? – сказал наперсник, изображая полное неведение.
– Богата, сэр? Напротив, у нее, благодарение богу, нет ни гроша!
– Тогда, надо думать, вы сами человек обеспеченный, – сказал с улыбкой Брэндон. – Потому что для вступления в брак необходимо, чтобы та или другая из сторон принесла некоторую долю презренного металла.
– Разве нет у меня, сэр, моей профессии? – возразил горделиво Фитч, за пять минут до того объявивший, что при своей профессии он голодает. – Или вы думаете, художник ничего не зарабатывает? Разве я не получаю заказов от первых людей Европы? Поручений, сэр, написать йисторические холсты, батальные холсты, алтарные…
– Шедевры, разумеется! – сказал Брэндон с учтивым поклоном. Джентльмен вашего удивительного дарования может писать только шедевры.
Восхищенный художник густо покраснел при таком комплименте и клятвенно стал уверять, что его работы, право же, не заслуживают столь высокой похвалы; тем не менее он признал в мистере Брэндоне великого знатока и раскрыл перед ним душу с еще большей откровенностью. Этюд был тем часом закончен. Художник встал, собрал свои рисовальные принадлежности, и джентльмены двинулись в обратный путь. Мистер Брэндон расхвалил этюд, и, когда они пришли домой, Фитч ловко выдрал его из альбома и с изящной маленькой речью преподнес своему другу, «даровитому ценителю».
«Даровитый ценитель», изливаясь в благодарностях, принял рисунок. Он оценил его так высоко, что вскоре даже оторвал от него клок на раскурку сигары – и тут, увидав, что на обороте листа что-то написано, разобрал нижеследующее:
Песня фиалки
Цветок смиренный, безотрадно
Я возросла в глуши лесной,
Где дождь меня стегал нещадно,
Глумился ветер надо мной.
Но вот фиалку в день ненастный
Приметил чей-то добрый глаз,
И путник, сжалясь над несчастной,
Ее сорвал и спас!
С тех пор, вдали родной долины,
Мне бурь не страшен произвол,
Я на груди у Каролины
Нашла приют от горьких зол.
Цветы – увы! – недолговечны…
Недолго же и мне цвести,
Хотя мне дышится беспечно
У девственной груди!
Мой аромат с моим дыханьем
Она впивает с лепестка
И каждым тихим колыханьем
Напоминает: «Смерть близка!»
Но есть поэт… Он век свой длинный
Отдаст, чтобы на той груди
Узнать блаженства час единый,
А там – хоть смерть приди!
Андреа
Прочитав стихи до конца, мистер Брэндон отложил их с немалой досадой и сказал:
– Черт возьми! Парень дурак дураком, а не так он глуп, как кажется; и если будет продолжать в том же духе, он, чего доброго, вскружит девчонке голову. Они не могут устоять перед мужчиной, если тот достаточно настойчив, – уж мне ли не знать!
И мистер Брэндон погрузился в раздумье о своем многообразном опыте, подтверждавшем его наблюдение, что как бы ни был глуп мужчина, дама уступит ему, хотя бы просто от усталости. Ему вспомнилось несколько случаев, когда мужчина подносил и подносил стихи, – и, глядишь, девица сменила неприязнь на терпимость, терпимость на неравнодушие, а неравнодушие привело ее в церковь св. Георгия на Гановер-сквере.
– Мерзавец, не щадящий свой родной язык, чтобы сгубить такую милую малютку! – закричал он в горячем порыве. – Не бывать тому, или я не я!
С той минуты Каролина стала ему представляться все красивей, и он сам оказался чуть ли не так же влюблен в нее, как Фитч.
Вот почему мистер Брэндон возрадовался, увидав, что Фитч уезжает в экипаже Свигби. Мисс Каролины с ними не было. «Час настал!» – подумал Брэндон и, позвонив в звонок, он не без волнения справился у Бекки, где мисс Каролина. Надо признаться, хозяйка и служанка были при обычном своем занятии, то есть работали и читали роман в задней гостиной. Бедная Карри! Какие выпадали ей другие радости?
Не много одолела она страниц, и Бекки не много сделала стежков, штопая обеденную скатерть, которую рачительная домоводка, миссис Ганн, поручила ее заботе, когда раздался робкий стук в дверь гостиной. Залившись краской, Каролина вздрогнула и уронила свою книгу, как это делает в комедии мисс Лидия Ленгвиш.
Мистер Джордж Брэндон вошел с самым смиренным видом. Он держал в руке шейный платок черного атласа, сильно разодранный с одного конца. Было ясно, что носить его в таком виде невозможно; но мисс Каролина слишком застыдилась и затрепетала, чтобы у нее могло возникнуть подозрение, что коварный Брэндон сам разорвал свой шарф за секунду перед тем, как вошел в комнату. Не знаю, заподозрила ли что-нибудь такое Бекки, или это обычная плутовская улыбка, всегда появлявшаяся на ее лице, когда ей что-нибудь нравилось, заиграла сейчас в ее глазах, растянула ей рот и собрала в складки ее толстые красные щеки.
– У меня приключилась беда, – сказал он, – и я буду очень обязан мисс Каролине, если она меня выручит («Каролине» было произнесено с какой-то нежной запинкой, от которой девушка, названная так, покраснела еще сильней, чем обычно). – Другого шарфа у меня в запасе нет, а нельзя же мне выходить на улицу с голой шеей; ведь правда нельзя, мисс Бекки?
– Конечно, нельзя, – сказала Бекки.
– Это можно только знаменитому художнику, такому, как мистер Фитч, добавил Брэндон с улыбкой, сразу отразившейся и на лице той дамы, в которой он искал возбудить интерес. – Великому гению, – добавил он, – разрешается что угодно.
– А у него, – говорит Бекки, – борода такая большая, что и шее от нее тепло!
На это замечание, несмотря на то что мисс Каролина бросила благопристойное: «Как не стыдно, Бекки!» – мистер Брэндон разразился таким смехом, что, корчась, повалился прямо на диван, на котором сидела мисс Каролина. Как она испугалась, как задрожала, когда он вскинул руку на спинку дивана! Мистер Брэндон, не подумав извиниться за свой достаточно дерзкий поступок, стал и дальше отпускать шутки по адресу бедного Фитча, так хитро применяясь к пониманию служанки и барышни, что одна каждый раз встречала их раскатом смеха, а другая против воли улыбалась. Брэндон, надо сказать, совсем покорил Бекки своими утренними разговорами, и она теперь заранее была готова рассмеяться, едва он скажет слово. Сколько его тонких замечаний честная судомойка донесла со второго этажа до Каролины и как безжалостно умудрялась она их estropier,[25]25
Исказить (франц.).
[Закрыть] пока несла из его гостиной в кухню!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































