Текст книги "Стихотворения"
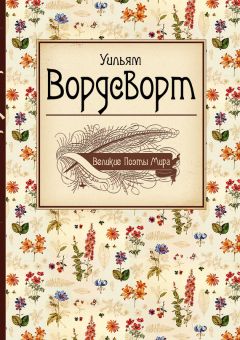
Автор книги: Уильям Вордсворт
Жанр: Зарубежные стихи, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 8 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Последний из стада
Объездив многие края,
Не слишком часто видел я
Открыто плачущих мужчин,
Больших и крепких, но один
Из них в отчизне как-то раз
Мое внимание привлек:
Он шел навстречу мне и слёз
Не утирал со щек.
Тоской глубокой угнетен,
Нес на руках ягненка он.
И от меня отвел он взгляд,
Как будто спрятаться был рад,
И отвернулся, и с трудом
Лицо утер он рукавом.
И я его окликнул: «Друг!
Чем вызван горький плач такой?»
«Мне стыдно, сударь, но тому
Виной ягненок мой:
Ведь он последний из всего
Большого стада моего.
В беспечной юности, томим
Существованием пустым,
Купил овцу однажды я,
Чтоб смысл имела жизнь моя.
И очень скоро та овца
Произвела на свет приплод;
Женился я, разбогател,
И так за годом год
Овец все множилось число,
Мое богатство все росло.
Немалым стал достаток мой,
И уж от той овцы одной
Произошло десятков пять,
Каких пером не описать.
Они паслись в горах, и я
Был счастлив, душу в них вложив.
Из стада нынче лишь один
Ягненок этот жив.
И я уже без страха жду
Смертельную для нас нужду.
Кормя десятерых детей,
Познал я скорбь голодных дней,
И со смиреньем в час невзгод
Просил о помощи приход.
Но был ответ, что я богач,
Что овцы сытые мои
Легко помогут раздобыть
Мне хлеб для всей семьи:
Коль я могу продать овцу,
Мне брать подачки не к лицу.
Овцу я продал тем же днем
И с хлебом возвратился в дом.
Он подкрепил моих ребят,
А для меня был словно яд.
И горько было видеть мне,
Как исчезает на глазах,
Как гибнет все, что я взрастил
В страданьях и трудах.
Мне стада не собрать вовек:
Оно растаяло как снег.
Одна овца другой вослед —
И вот уже десятка нет,
Как будто бы из сердца кровь
Текла по капле вновь и вновь.
Еще ягненок и еще —
И уж не стало тридцати.
Теперь и не пытался я
Оставшихся спасти,
Желая в горести своей
Их всех лишиться поскорей.
Я мрачен сделался и зол,
Как будто бес в меня вошел.
Казалось, лишь враждебный взор
Повсюду я встречал с тех пор.
Я потерял навек покой,
И белый свет мне стал не мил,
Мне опостылел отчий дом,
И труд меня томил.
В иные дни я был бы рад
Бежать куда глаза глядят.
Ах, сударь, я овец моих
Лелеял, как детей родных,
И с ростом стада все сильней
Любил я собственных детей.
Увы, наверное, за то
И покарал меня Творец,
Что все ж детей своих любил
Я меньше, чем овец.
Редело стадо день за днем,
Овец лишь десять было в нем.
И тех не стало в свой черед:
Вот пять осталось их, и вот
Из полусотни только две
На горной нежились траве.
Все, что трудами нажил я,
Развеялось как прах!
И нынче я бреду с одним
Ягненком на руках —
Ведь он последний из всего
Большого стада моего».
Нас семеро
Ребенок простодушный, чей
Так легок каждый вдох,
В ком жизнь струится, как ручей,
Что знать о смерти мог?
Я встретил девочку, идя
Дорогой полевой.
«Мне восемь», – молвило дитя
С кудрявой головой.
Одежда жалкая на ней,
И диковатый вид.
Но милый взгляд ее очей
Был кроток и открыт.
«А сколько братьев и сестер
В твоей семье, мой свет?»
Бросая удивленный взор,
«Нас семь», – дала ответ.
«И где ж они?» – «Двоих из нас
Отдали в край чужой,
И двое на море сейчас.
А всех нас семь со мной.
Сестра и брат лежат в тени —
Земля укрыла их.
И с мамой мы живем одни
У их могил родных».
«Дитя мое, как может вас
Быть семеро с тобой,
Коль двое на море сейчас
И два в дали чужой?»
«Нас семь, – ответ ее был прост, —
Сестра моя и брат,
Едва войдешь ты на погост —
Под деревом лежат».
«Ты здесь резвишься, ангел мой,
А им вовек не встать.
Коль двое спят в земле сырой,
То вас осталось пять».
«В цветах живых могилы их.
Шагов двенадцать к ним
От двери в дом, где мы живем
И их покой храним.
Я часто там чулки вяжу,
Себе одежку шью.
И на земле близ них сижу,
И песни им пою.
А ясной летнею порой,
По светлым вечерам
Беру я мисочку с собой
И ужинаю там.
Сначала Джейн ушла от нас.
Стонала день и ночь.
Господь ее от боли спас,
Как стало ей невмочь.
Мы там играли – я и Джон,
Где камень гробовой
Над нею вырос, окружен
Увядшею травой.
Когда ж засыпал снег пути
И заблестел каток,
Джон тоже должен был уйти:
С сестрой он рядом лег».
«Но если брат с сестрой в раю, —
Вскричал я, – сколько ж вас?»
Она в ответ на речь мою:
«Нас семеро сейчас!»
«Их нет, увы! Они мертвы!
На небесах их дом!»
Она ж по-прежнему: «Нас семь!» —
Меня не слушая совсем,
Стояла на своем.
Строки, написанные раннею весной
В прозрачной роще в день весенний
Я слушал многозвучный шум.
И радость светлых размышлений
Сменялась грустью мрачных дум.
Все, что природа сотворила,
Жило в ладу с моей душой.
Но что, – подумал я уныло, —
Что сделал человек с собой?
Средь примул, полных ликованья,
Барвинок нежный вил венок.
От своего благоуханья
Блаженствовал любой цветок.
И, наблюдая птиц круженье, —
Хоть и не мог их мыслей знать, —
Я верил: каждое движенье
Для них – восторг и благодать.
И ветки ветра дуновенье
Ловили веером своим.
Я не испытывал сомненья,
Что это было в радость им.
И коль уверенность моя —
Не наваждение пустое,
Так что, – с тоскою думал я, —
Что сделал человек с собою?
Странствующий старик. Покой и умирание
Зарисовка
Не возбуждая любопытства птиц,
Облюбовавших придорожный куст,
Он все идет – лицо его, шаги,
Походка выражают лишь одно;
И в сгорбленной фигуре, и в глазах
Таится не страдание, но мысль:
Он весь – само бесстрастье, он из тех,
Кто позабыл усилья, для кого
Они излишни вовсе, он из тех,
Кого долготерпенье привело
К столь кроткому смиренью, что ему
Терпеть уже нетрудно. И покой
Его так совершенен, что юнцы
Завистливо взирают на него.
На мой вопрос, куда он держит путь,
С какою целью, он ответил так:
«Иду я в Фелмут к сыну своему.
Он ранен был в сражении морском.
Сейчас в больнице умирает он,
И я хочу успеть проститься с ним».
Всё наоборот
Вечерняя сцена
Встань! Оторвись от книг, мой друг!
К чему бесплодное томленье?
Взгляни внимательней вокруг,
Не то тебя состарит чтенье!
Вот солнце над чредою гор
Вослед полуденному зною
Зеленый залило простор
Вечерней нежной желтизною.
Как сладко иволга поет!
Спеши внимать ей! Пенье птицы
Мне больше мудрости дает,
Чем эти скучные страницы.
Послушать проповедь дрозда
Ступай в зеленую обитель!
Там просветишься без труда:
Природа – лучший твой учитель.
Богатство чудное свое
Она дарует нам с любовью.
И в откровениях ее
Веселье дышит и здоровье.
Тебе о сущности добра
И о твоем предназначенье
Расскажут вешние ветра,
А не мудреные ученья.
Ведь наш безжизненный язык,
Наш ум, холодный и бесстрастный,
Природы искажают лик,
Разъяв на части мир прекрасный.
Искусств не надо и наук —
В стремленье к подлинному знанью
Ты сердце научи, мой друг,
Вниманию и пониманью.
Жалоба оставленной индианки
Если северный индеец заболевает в дороге и не может продолжать путешествие со своими соплеменниками, его оставляют одного, накрыв оленьими шкурами и обеспечив, по возможности, запасом воды, пищи и дров. Ему сообщают дальнейший маршрут, и если больной не догоняет своих товарищей, то погибает в одиночестве среди снежной пустыни, разве только, на его счастье, другое племя не набредает на него. Излишне добавлять, что женщины подвергаются той же участи, и даже чаще мужчин. Об этом можно прочесть в интересной книге Хирна «Путешествие от Гудзонова залива к Северному Ледовитому океану». По свидетельству того же автора, когда северное сияние перемещается в атмосфере, в небе раздается треск. Это явление упомянуто в первой строфе нижеследующего стихотворения.
О если б смерть взяла меня
К приходу завтрашнего дня!
Сиянье северное мне
Как будто грезится во сне.
Однако этот яркий блеск
Я созерцаю наяву,
И в небесах я слышу треск,
И все еще живу.
О если б смерть взяла меня
К приходу завтрашнего дня!
Костер мой умер, и дрова
Погибли в нем, а я жива.
Лежит на мертвых углях лед,
И я погасну в свой черед.
Как все, желала я тепла,
Одежды, пищи и огня.
С тех пор, как я занемогла,
Ничто не радует меня.
Я от всего отрешена,
И смерть мне больше не страшна.
Напрасно отказалась я,
Чтоб на санях меня, друзья,
Еще хоть день тащили вы —
Упала духом я, увы!
Недуг мой словно отступил,
Едва лишь скрылись вы из глаз.
Ах, отчего, набравшись сил,
Я догонять не стала вас!
Мои мучения прошли,
Когда исчезли вы вдали.
Сынок, тебя другая мать
Отныне будет обнимать!
Какой же ты послал мне взгляд,
Когда из рук моих был взят!
Как взрослый, ты напрягся весь,
Да так, что, если б только мог,
Не дал бы мне погибнуть здесь:
Один бы сани поволок.
Но, как несчастное дитя,
Ко мне ты рвался миг спустя.
Моя отрада! Мальчик мой!
Дня два еще мне быть живой.
Но ты, родимый, обо мне
Не плачь в далекой стороне.
Друзья, когда бы мой привет
Мог ветер донести до вас,
Спокойно – в том сомненья нет —
Я встретила бы смертный час.
Хочу увидеть вас опять
И многое еще сказать.
Вы, верно, вязнете в снегу,
Я вас догнать еще могу
И вновь увидеть свой шатер.
Но нынче умер мой костер,
Окреп безжалостный мороз,
И превратилась в лед вода,
И волк еду мою унес,
В ночи прокравшийся сюда.
Осталась я совсем одна,
И смерть мне больше не страшна.
Как рано рвется жизни нить!
Уж мне и суток не прожить.
Я вижу только снег вокруг,
Ни ног не чувствую, ни рук.
Ушла б я с легкою душой,
Когда бы на один лишь миг
Покинутый ребенок мой
Еще к груди моей приник!
Но, видно, смерть возьмет меня
К приходу завтрашнего дня.
Осужденный
Несравненный закат заливал небеса.
Я стоял на вершине горы.
И звенели восторгом луга и леса
В ожиданье вечерней поры.
«Для чего же прекрасные эти места
Покидать нам?» – я молвил с тоской
И в глубокой печали спустился туда,
Где томился несчастный изгой.
Гулким эхом шаги отдавались мои.
Тусклый луч сквозь решетку проник.
И увидел я узника: он в забытьи
Головой обреченно поник.
Были частые вздохи его тяжелы.
Отрешенный почти от всего,
Он уныло глядел на свои кандалы,
Приковавшие к смерти его.
Он едва сохранял человеческий вид,
Не заботясь о плоти своей.
Но, казалось мне, сердце его тяготит
То, что муки телесной страшней.
Он разрушил себя, отравил свою кровь,
И в душе его было черно.
И злодейство, как будто свершенное вновь,
Проступало на нем, как пятно.
Коль в хоромы свои короля приведут,
Обагрившего кровью поля,
Утешенья рассудка всегда сберегут
Безмятежный покой короля.
Но страдалец не может забыть ничего, —
Не ослабнет мучительный гнет,
Даже если казнящая совесть его
Успокоится вдруг и уснет.
И когда нестерпимая тяжесть цепей
Его хрупкие кости сожмет,
И в бреду на убогой циновке своей
Он промается ночь напролет,
И когда этот склеп охраняющий пес
Дико взвоет ночною порой, —
Он почувствует ужас корнями волос,
Боль пронзит его сердце иглой.
На меня устремил он исполненный слез,
Помутненный отчаяньем взор.
В этом взоре прочел я безмолвный вопрос,
Обращенный ко мне, как укор.
«Безутешная жертва! Глядит на тебя
Не докучливый гость, не судья.
Я пришел с милосердьем к тебе, и, скорбя,
Разделю твои горести я.
Будь на то моя власть, для тебя бы я смог
Благодатную почву найти,
И туда пересаженный мной, как цветок,
Ты сумел бы опять расцвести».
Мальчик
Был мальчик. Вам знаком он был, утесы
И острова Винандра! Сколько раз,
По вечерам, лишь только над верхами
Холмов зажгутся искры ранних звезд
В лазури темной, он стоял, бывало,
В тени дерев, над озером блестящим.
И там, скрестивши пальцы и ладонь
Сведя с ладонью наподобье трубки,
Он подносил ее к губам и криком
Тревожил мир в лесу дремучих сов.
И на призыв его, со всех сторон,
Над водною равниной раздавался
Их дикий крик, пронзительный и резкий.
И звонкий свист, и хохот, и в горах
Гул перекатный эха – чудных звуков
Волшебный хор! Когда же, вслед за тем,
Вдруг наступала тишина, он часто
В безмолвии природы, на скалах,
Сам ощущал невольный в сердце трепет,
Заслышав где-то далеко журчанье
Ключей нагорных. Дивная картина
Тогда в восторг в нем душу приводила
Своей торжественной красой, своими
Утесами, лесами, теплым небом,
В пучине вод неясно отраженным.
Его ж уж нет! Бедняжка умер рано,
Лет девяти он сверстников оставил.
О, как прекрасна тихая долина,
Где он родился! Вся плющом увита,
Висит со скал над сельской школой церковь.
И если мне случится в летний вечер
Идти через кладбище, я готов
Там целый час стоять с глубокой думой
Над тихою могилой, где он спит.
Скала Джоанны
Два года ранней юности своей
Ты подарила дымным городам
И с тихим прилежаньем научилась
Ценить лишь те живые Существа,
Какие жизнь проводят у камина;
И потому-то сердцем не спешишь
Ответить на расположенье тех,
Кто с умилением глядит на горы
И дружит с рощами и ручейками.
Ты нас покинула, и все же мы,
Живущие в укромной простоте
Среди лесов и нив, не разлюбили
Тебя, Джоанна! Я бы поручился,
Что после долгих месяцев разлуки
Ты с радостью бы услыхала некий
Обычный наш пустячный разговор
И подивилась верным чувствам тех,
С кем ты бывала счастлива когда-то.
Тому дней десять – я сидел в тиши
Под соснами, сомкнувшимися гордо
Над старой колокольней, и Викарий
Оставил мрачное свое жилище
И, поздоровавшись со мной, спросил:
«Что слышно про строптивую Джоанну?
Не собирается ль она вернуться?»
Порассудив о сельских новостях,
Он принялся выпытывать, зачем
Я возрождаю идолопоклонство,
И, как Друид, руническим письмом
Я высек чье-то имя на отвесной
Скале над Ротой, у опушки леса.
Я ощущал в душе невозмутимость,
Какая возникает на границе
Меж старою любовью и досадой,
И не старался избежать дознанья;
И вот что я сказал ему: «Однажды
С Джоанной мы гуляли на заре
В то восхитительное время года,
Когда повсюду верба расцветает
И золотыми жилами струится
В зеленых перелесках по холмам.
Тропинка привела на берег Роты
К крутой скале, глядящей на восток;
И там пред величавою преградой
Я замер – я стоял и созерцал
Скалу от основанья до вершины:
На необъятной плоскости сплетались
Кусты, деревья, камни и цветы;
Прелестная игра нежнейших красок,
Объединенных властной красотой,
Одним усильем восхищала сердце.
Так я стоял минуты две – и вдруг
Лукавая Джоанна мой восторг
Заметила и громко рассмеялась.
Скала как бы воспрянула от сна
И, вторя Деве, тоже рассмеялась;
Им отвечала древняя Старуха,
Сидящая на гулком Хэммарскаре;
И Хелмкрег, и высокий Силвер-Хау
Послали вдаль раскаты смеха; к югу
Его услышал Ферфилд, а за ним
Откликнулся громами дальний Лохригг;
Хелвеллин к ясным небесам вознес
Веселье гордой Девы; старый Скиддо
Задул в свою трубу; сквозь облачка
Донесся снежный голос Гларамары;
И Керкстон возвратил его к земле».
Наш добрый друг Викарий мне внимал
С растерянной улыбкой изумленья,
И мне пришлось сказать, что я не знаю,
На самом деле братство древних гор
Откликнулось на смех иль, может быть,
Я грезил наяву и был мой слух
Обманут потаенными мечтами.
Но только я уверен, что вдали
Мы слышали раскатистое эхо,
И милая Джоанна вдруг прильнула
Ко мне, как будто требуя защиты.
А восемнадцать месяцев спустя,
Уже один, прохладным ясным утром
Я оказался около скалы
И в память о давнишнем верном чувстве
Я высек на живом ее граните
Руническими буквами: ДЖОАННА.
И я, и те, кто близок мне, зовем
Прекрасную скалу Скалой Джоанны.
Сонеты
Стихи, посвященные национальной независимости и свободе
«С печалью смутной думал я не раз…»Кале, 15 августа 1802 года
С печалью смутной думал я не раз
О Бонапарте. Знал ли миг счастливый
Сей человек? Что он из детства спас:
Какие сны, надежды и порывы?
Не в битвах, где начальствует приказ,
Рождается правитель справедливый —
Умом и волей твердый, как алмаз,
Душой своей, как мать, чадолюбивый.
Нет, мудрость повседневностью жива:
Чем будничней, тем необыкновенней;
Прогулки, книги, праздность – вот ступени
Неоспоримой Мощи. Такова
Власть подлинная, чуждая борений
Мирских; и таковы ее права.
На падение Венецианской республики, 1802
Каких торжеств свидетелем я стал:
Отныне Бонапарт приемлет званье
Пожизненного консула. Признанье —
Кумиру, и почет, и пьедестал!
Бог весть, об этом ли француз мечтал?
В Кале особенного ликованья
Я не приметил – или упованья:
Всяк о своем хлопочет. Я видал
Иные празднества в иное время:
Какой восторг тогда в сердцах царил,
Какой нелепый, юношеский пыл!
Блажен, кто, не надеясь на владык,
Сам осознал свое земное бремя
И жребий человеческий постиг.
Туссену Лувертюру
Ты часовым для Запада была
И мусульман надменных подчинила.
Венеция! Ни ложь врага, ни сила
Ее дела унизить не могла.
Она Свободы первенцем была,
Рожденью своему не изменила,
Весь мир девичьей красотой пленила
И с морем вечным под венец пошла.
Но час настал роскошного заката —
Ни прежней славы, ни былых вождей!
И что ж осталось? Горечь и расплата.
Мы – люди! Пожалеем вместе с ней,
Что все ушло, блиставшее когда-то,
Что стер наш век и тень великих дней.
Лондон. Сентябрь 1802 года
Несчастнейший из всех людей, Туссен!
Внимаешь ли напевам плугаря,
Уносишься ли мыслью за моря, —
Во мгле, среди глухих тюремных стен,—
Будь тверд, о Вождь, и превозможешь плен!
Поверженный – сражался ты не зря.
Чело твое – как ясная заря,
И знаю: гордый дух твой не согбен.
Всё – даже ветра шелестящий лёт —
Нашептывает о тебе. Живи!
Сама земля и сам небесный свод —
Великие союзники твои.
Отчаяния горечь, жар любви
И ум – вот непоборный твой оплот.
Мильтону
Скажи, мой друг, как путь найти прямей,
Когда притворство – общая зараза,
И делают нам жизнь – лишь для показа —
Портной, сапожник, повар и лакей.
Скользи, сверкай, как в ясный день ручей,
Не то пропал! В цене – богач, пролаза.
Величье – не сюжет и для рассказа,
Оно не тронет нынешних людей.
Стяжательство, грабеж и мотовство —
Кумиры наши, – то, что нынче в силе.
Высокий образ мыслей мы забыли.
Ни чистоты, ни правды – все мертво!
Где старый наш святой очаг семейный,
Где прежней веры дух благоговейный?
Сонет, написанный на морском побережье близ Кале. Август 1802
Как нынче, Мильтон, Англии ты нужен!
Она – болото; меч, перо, амвон,
Село и замок впали в смутный сон.
Мы себялюбцы, и наш дух недужен.
Вернись же к нам, дабы тобой разбужен
Был край родной и к жизни воскрешен!
Пусть мощным, вольным, властным станет он
И с добродетелью исконной дружен.
С душой, как одинокая звезда,
И речью, словно гул стихии водной,
Как небо чист, могучий и свободный,
Ты бодро-благочестным был всегда,
Взвалив на сердце, в простоте безгневной,
Убогий труд работы повседневной.
Лондон, 1802
«Не хмурься, критик, не отринь сонета!..»
Вечерняя звезда земли моей!
Ты как бы в лоне Англии родном
Покоишься в блистании огней,
В закатном упоении своем.
Ты стать могла бы светочем, гербом
Для всех народов до скончанья дней.
Веселым блеском, свежестью лучей
Играла бы на знамени святом.
Об Англии, простертой над тобой,
Я думаю со страхом и мольбой,
Исполненный мучительных тревог.
В единстве жизни, славы и судьбы
Вы неразрывны – да хранит вас Бог
Среди пустой, бесчувственной толпы.
«Отшельницам не тесно жить по кельям…»
Не хмурься, критик, не отринь сонета!
Он ключ, которым сердце открывал
Свое Шекспир; Петрарка врачевал
Печаль, когда звенела лютня эта;
У Тассо часто флейтой он взывал;
Им скорбь Камоэнса была согрета;
Он в кипарисовый венок поэта,
Которым Дант чело короновал,
Вплетен, как мирт; он, как светляк бессонный,
Вел Спенсера на трудный перевал,
Из царства фей, дорогой потаенной;
Трубой в руках у Мильтона он стал,
Чье медногласье душу возвышало;
Увы, труба звучала слишком мало!
Сонет, написанный на Вестминстерском мосту 3 сентября 1802 года
Отшельницам не тесно жить по кельям;
В пещерах жизнь пустыннику легка;
Весь день поэт не сходит с чердака;
Работница поет за рукодельем;
Ткач любит стан свой; в Форнер-Фелльс к ущельям
Пчела с полей летит издалека,
Чтоб утонуть там в чашечке цветка;
И узники живут в тюрьме с весельем.
Вот почему так любо мне замкнуть,
В час отдыха, мысль вольную поэта
В размере трудном тесного сонета.
Я рад, когда он в сердце чье-нибудь,
Узнавшее излишней воли бремя,
Прольет отраду, как и мне, на время.
«Путь суеты – с него нам не свернуть!..»
Нет зрелища пленительней! И в ком
Не дрогнет дух бесчувственно-упрямый
При виде величавой панорамы,
Где утро – будто в ризы – все кругом
Одело в Красоту. И каждый дом,
Суда в порту, театры, башни, храмы,
Река в сверканье этой мирной рамы,
Все утопает в блеске голубом.
Нет, никогда так ярко не вставало
Так первозданно солнце над рекой,
Так чутко тишина не колдовала,
Вода не знала ясности такой.
И город спит. Еще прохожих мало,
И в Сердце мощном царствует покой.
У моря
Путь суеты – с него нам не свернуть!
Проходит жизнь за выгодой в погоне;
Наш род Природе – как бы посторонний,
Мы от нее свободны, вот в чем жуть.
Пусть лунный свет волны ласкает грудь,
Пускай ветра зайдутся в диком стоне
Или заснут, как спит цветок в бутоне, —
Все это нас не может всколыхнуть.
О Боже! Для чего в дали блаженной
Язычником родиться я не мог!
Своей наивной верой вдохновенный,
Я в мире так бы не был одинок:
Протей вставал бы предо мной из пены
И дул Тритон в свой перевитый рог!
Вечерняя безветренная тишь.
Монахине, свершающей обряд,
Подобно время. Солнечный закат
Как бы в своем покое потонул.
У моря, как у райских врат, стоишь.
Прислушайся: проснулся мощный Дух!
Извечным ритмом наш волнует слух
Его сплошной громоподобный гул.
Дитя мое, гуляя здесь со мной,
Пусть и чужда ты мысли неземной —
Но все ж твое чудесно естество.
Преданью ты причастна круглый год
И сокровенный храм твой стережет
Незримое тобою Божество.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































