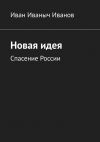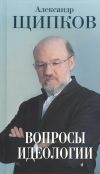Текст книги "В лабиринтах Зазеркалья…"

Автор книги: Вадим Ковский
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
подчеркивает Короленко. «Вы говорите о коммунизме… Коммунизм есть еще нечто неоформленное и неопределенное и вы до сих пор не выяснили, что вы под ним разумеете»; «…вы привыкли звать всегда к самым крайним мерам, к последнему выводу в схеме, к конечному результату… создав почти ничего, вы разрушили очень многое…». «Что из этого может выйти? – восклицает Короленко. – Не хотел бы быть пророком, но сердце у меня сжимается предчувствием, что мы только еще у порога таких бедствий, перед которыми померкнет всё то, что мы испытываем теперь».
И сколь же характерным для великой русской литературы был этот наивный и, безусловно, нелепый, с точки зрения политиков, к которым был обращен, монолог, заканчивающийся призывом, обращенным в пустоту, призывом, который в эпоху гражданской войны не мог получить диалогического отклика: «Может быть, у вас еще достаточно власти, чтобы повернуть на новый путь. Вы должны прямо признать свои ошибки, которые вы совершили вместе с вашим народом… Правительства погибают от лжи…»
Ленин внимательно следил за выступлениями Короленко —
не только поездка Луначарского в Полтаву, но и сама идея вступления своего эмиссара в переписку с художником, по свидетельству В. Д. Бонч–Бруевича, принадлежала Ленину. Более того, в сентябре 1922 г. он даже успел познакомиться с парижским изданием писем Короленко (они сохранились в кремлевской библиотеке) и вряд ли получил от этого чтения большое удовольствие. Социал–демократические нападки были Ленину слишком хорошо знакомы. Скорее всего он повторил бы по этому поводу то, что написал Горькому 15 сентября 1919 г., прочитав книжку Короленко «Война, отечество и человечество», но имея в виду, конечно, и послереволюционную короленковскую публицистику: «гнусно, подло, мерзко»…
Загадка «переходного периода»
Сильно задеть Ленина могли действительно либо очередные теоретические упреки в преждевременности революции, либо как раз вполне конкретные обвинения «сгнивших интеллигентов», приходящих в ужас от «гибели сотен тысяч в справедливой гражданской войне против помещиков и капиталистов». Захватывающие исторические масштабы происходящего были таковы, что какие–то «сотни тысяч» в счет не шли. «Общечеловеческие», моральные идеалы, к которым апеллировал старейший русский писатель, в сознании пролетарских вождей были совершенно вытеснены задачами классовой борьбы и борьбы за собственную власть.
Как популярно объяснил Троцкий Кларе Цеткин и еще ряду западноевропейских демократов, просивших в 1918 г. сохранить жизнь «левым эсерам», речь шла о революции, то бишь о том, кому «стоять у руля», а кому «сидеть в тюрьме» (!), и потому «гуманитарные общие места» от вопроса о репрессиях «бессильно отскакивают». «С точки зрения так называемой абсолютной ценности человеческой личности революция подлежит «осуждению», но большевиков мало интересует, одобряет или не одобряет их путь «нормативная философия».
Ленинизм оказался уязвимым куда более, чем марксизм, именно потому, что добился практического результата. Учением о «двух фазах», с их временной неопределенностью и туманной ролью пролетариата, с его непонятной и нерасшифрованной «диктатурой», классики марксизма создали не более чем две утопии, «ближнюю» и «дальнюю», причем ни одна из них не могла быть опровергнута, поскольку не прошла испытание социальной практикой. Можно с улыбкой вообразить себе фантастическую фигуру западного марксиста, который и сегодня живет в ожидании того замечательного момента, когда, наконец, в XXI или последующих веках производительные силы в США придут в столь неразрешимое противоречие с производственными отношениями, что вожделенная «пролетарская» революция совершится и там…
Ленин же на деле показал, что такое «низшая фаза» и, более того – что на ней можно реально остановиться и успешно жить дальше. В первые послереволюционные годы итоги, конечно, еще плохо проглядывались, но один из претерпевших внутреннюю эволюцию авторов «Вех», Изгоев, тем не менее, заметил в 1922 г.: «Чем бы ни закончилась для русского народа нынешняя революция, она всемирна и велика уже тем одним, что дала возможность всему человечеству проверить на живом теле России главные идеи, которыми вот уже сто лет жила европейская революционная мысль… До 1917 года заграничные русские революционеры только рассуждали о социализме и коммунизме. Русские большевики имели смелость приняться за их осуществление».
Сегодня, в начале XXI в., можно смело утверждать, что итоги этой «проверки на живом теле России» были плачевны.
На воротах первого советского концлагеря в Соловках («Советский лагерь особого назначения» – СЛОН) как будто бы был начертан популярный лозунг революционных времен: «Железной рукой загоним человечество к счастию» (именно так: «загоним к счастию», тут уж не до грамматики было…). Выполнить это намерение, каким бы ни представлялась в далеком будущем беспощадным пастухам и поводырям человечества сама картина «счастья» (у Ленина не было ни времени, ни желания заниматься дальней футурологией!), было невозможно, не установив в новом государстве режима самой жестокой диктатуры. На этом теоретические споры о «низшей» и «высшей» фазах коммунизма заканчивались. Советская официальная историография привыкла гордиться бескровностью Октября (в самом деле, несколько десятков убитых в октябрьские дни в Петрограде и Москве революциям в счет не идут). При этом «революция» и «гражданская война» употребляются через союз «и», как будто бы это разные понятия и разные исторические события. На самом деле Октябрьская революция в России и была гражданской войной. Революция (трудно называть ее «переворотом», учитывая количество потерь) растянулась на пять лет. Даже если поверить советской официальной статистике (вспомним, как 7 млн человек, погибших в Великую Отечественную, постепенно превратились в 20, потом в 27, а теперь, по неполным подсчетам, достигают 40 и т. п.), даже, повторим, если этой статистике поверить, то и цифры, приведенные в БСЭ четверть века назад, покажутся вполне «достаточными»: восемь млн убитых унесла эта ставшая войной революция (из них один млн человек приходится непосредственно на долю Красной Армии).
Из этих страшных цифр можно извлечь несколько разных выводов общего свойства. Они закладывают фундамент тому обесцениванию индивидуальной человеческой жизни, с которого началась история советской власти и без которого не могла бы состояться ни эпоха «большого террора», окруженная со всех концов эпизодами террора частичного, «пунктирного», ни четко организованная технология лагерей, ни такая подготовка к Великой Отечественной войне, при которой за ценой победы мы действительно «не постояли». Ленин как в воду глядел: «Великие революции, даже когда они начинались мирно… кончались бешеными войнами, которые открывала (ну, конечно же! – В. К.)
контрреволюционная буржуазия».
Одна из первых документальных книг об Октябре, знаменитые «10 дней, которые потрясли мир», не переиздавалась в СССР с 1930 по 1958 гг., несмотря на восторженные предисловия Ленина и Крупской, не только потому, что там «очень много» Троцкого и практически нет Сталина, но и потому, что Д. Рид, журналист ярко выраженных коммунистических пристрастий, в силу своей наблюдательности и «неподцензурности» взгляда подсмотрел в картине революционной повседневности целый ряд малопривлекательных деталей. Он воспроизводит, в частности, и сцены мародерства при штурме Зимнего, и разговоры о Ленине, «присланном из Германии», и т. п. Однако одной из доминантных является как раз тема народного характера революции. Его, кстати, не отрицает и в одной из самых гневных своих философско–публицистических работ «Апокалипсис нашего времени» В. Розанов: «Русь слиняла в два дня. Самое большее – в три… Поразительно, что она разом рассыпалась вся, до подробностей, до частностей». Для Розанова в революции кто только не виноват: и народ, предавший царя, неприученный работать; и русская литература, развратившая читателя своим нигилизмом; и даже «бесплодное», чуждое живой жизни христианство, которому Розанов, никогда не отличавшийся любовью к евреям, неожиданно противопоставляет в качестве «положительной» религии иудаизм. Именно из–за «немощности», «небытийственности» христианства, считает он, так легко перешел от креста и богомолья «в социализм», а значит, в полный атеизм, мужик и солдат: «точно в баню сходили и окатились новой водой»…
Для осуществления диктатуры требовалась мощная государственная власть. Менее всего государство мыслилось Ленину —
как русским философам–идеалистам начала XX в. – структурой, осуществляющей духовное и материальное единение всего народа, социальную и культурную солидарность всех его групп. Азбукой ленинизма стало понимание государства как «особого аппарата для систематического применения насилия и подчинения людей насилию» с использованием «войск, тюрем и прочих средств подчинения чужой воли насилию», как «машины для поддержания господства» «особого разряда людей, который выделяется, чтобы управлять другими».
В своё время примерно в этом же направлении шли, словно предчувствуя большевизм, утописты–коммунисты. Г. Бабёф требовал уничтожения крупной земельной собственности и конфискации церковного имущества. Огюст Бланки, по словам Ленина, «несомненный революционер и горячий сторонник социализма», оказавший влияние на русское народничество 70‑хх гг., особенно в лице П. Н. Ткачева, видел в революции дело узкой группы заговорщиков, оканчивающееся непременной их диктатурой. Для всех утопических систем, социалистических и коммунистических, были характерны симпатии к сильной государственной власти, управляющей производством и потреблением, увлеченность распределительными принципами в общественной жизни, идеи трудового и коллективистского по духу воспитания людей, причем по мере продвижения от утопии социалистической к коммунистической, в проектах социальных и моральных реформ возрастали акценты на прямом принуждении.
Если в начале XX в. в России сложилась, по знаменитому определению Ленина, «революционная ситуация», при которой «верхи» уже не могут управлять, а «массы» не хотят жить по–старому, то после Октября «верхи», теперь уже большевистские, получили уникальную возможность управлять по–новому, чтобы коренным образом улучшить положение масс. Существо проблемы состояло, однако, в том, что никакого практического и конкретного плана построения даже «низшей фазы коммунизма», не ограниченной никакими историческими сроками, у Ленина не было и быть не могло, поскольку избранный русской революцией путь не имел исторических прецедентов.
Своего незнания Ленин и не скрывал: «В такой стране начать революцию было легко, это значило – перышко поднять», а вот удержать ее завоевания «необычайно трудно и тяжело». Показательно ленинское признание 1918 г.: «Дать характеристику социализма мы не можем; каков социализм будет, когда достигнет готовых форм, – мы этого не знаем, это сказать не можем. Сказать, что эра социальной революции началась, что мы то‑то сделали и то‑то сделать хотим, – это мы знаем, мы скажем, и это покажет европейским рабочим, что мы, так сказать, не преувеличиваем свои силы нисколько: вот, что мы начали делать, что собираемся сделать. Но чтобы мы сейчас знали, как будет выглядеть законченный социализм, мы этого не знаем» (некоторая невнятность хорошо отточенной обычно ленинской речи, видимо, семантически адекватна неясности её содержания!).
«…насилие само по себе не в состоянии делать деньги, а в лучшем случае может лишь отнимать сделанные деньги», – со свойственным ему остроумием заметил Энгельс в «Анти–Дюринге». К сожалению, как «делать деньги» после пролетарской революции, возглавившие её лидеры плохо себе представляли. Характерно, что разорившую крестьян «продразверстку» Ленин называл «военным коммунизмом». Почему «военным» – понятно: шла война, крестьяне сами бесплатно хлеб отдавать не хотели и его надо было насильственно отнять. Но почему «коммунизмом»? А по той простой причине, что крестьянам предлагался как бы именно «продуктообмен»: менять, правда, было не на что, и крестьяне должны были поделиться, уверовав, что голодный город потом возвратит всё товарами. Отдать «продукт» в долг под будущий продукт «по–человечески», иными словами, поступить «по–коммунистически». В противном случае те, «кто держат сотни пудов хлеба», пусть и «собранного своим трудом», надеясь его «продать», да подороже, а не отдать бесплатно, превращаются, по Ленину, в «разбойников, эксплуататоров».
На самом деле в разбойников и эксплуататоров по отношению крестьянам превращался тем временем именно мифический пролетариат, под флагом которого успешно укрывалась в 20‑е годы государственная власть. «Диктатура пролетариата в России повлекла за собой такие жертвы, такую нужду и лишения… каких никогда не знала история», – признавался Ленин. В «стране, до последней степени разоренной, стране голодной и холодной, где нищета достигла самой отчаянной степени», он искренне считал «разверстку в деревне» «непосредственно коммунистическим подходом» и отменил ее, только «наткнувшись весной 1921 года» на «глубокий экономический и политический кризис», который, однако, опять–таки отнёс за счет самого крестьянства, разоряемого его «продразверсткой»: «Мы рассчитывали – или, может быть, вернее будет сказать: мы предполагали без достаточного расчета —
непосредственными велениями пролетарского государства наладить государственное производство и государственное распределение продуктов по–коммунистически в мелко-крестьянской стране. Жизнь показала нашу ошибку».
Концепция диктатуры не просто подхвачена Лениным из рук основоположников как исходный, фундаментальный теоретический постулат, но истолкована как прямой призыв к действию. Между тем в ней наличествует множество и теоретических, и практических неясностей. Нет, например, кроме двусмысленности самого определения «пролетарская», ответа на вопрос о сроках; непонятно, имеет ли диктатура сколько–нибудь конкретную хронологию или может быть – в теоретическом предположении – растянута на бесконечно длительный «период революционного превращения» и т. п.).
В отличие от Сталина, Ленин свои ошибки умел вовремя признавать. НЭП и был попыткой Ленина исправить их, но вовсе не признанием провала революции и реставрацией буржуазных отношений, а чисто практическими мерами, «временным отступлением». В выступлениях, заметках, записках 1920–1923 гг. у Ленина действительно произошла известная «перемена точки зрения на социализм»: он перестал надеяться на «мировую революцию»; проявил готовность хоть как–то повернуться к «частному интересу» нелюбимого крестьянства; призвал прекратить «болтовню» о пролетарской культуре и заняться хотя бы освоением буржуазной.
Выход из тупиков революции он попытался найти в сугубо прагматических действиях – наладить крестьянский товарооборот путем «кооперации», сократить и реорганизовать государственный аппарат, улучшить качество образования. По существу, нэп и был таким прагматическим решением – ему предназначалась роль сказочной курицы, которая должна была снести для советской власти золотое яичко, после чего отправиться в суп. Новой экономической политике еще и полтора года не исполнилось, когда Ленин заявил: «Наше экономическое отступление мы теперь можем остановить. Достаточно. Дальше мы не пойдем». Нетрудно даже вообразить, что политик невероятной гибкости, вплоть до полной, при необходимости, беспринципности, Ленин мог бы вводить нэп перманентно и неоднократно, сворачивая его после очередной «подкормки» никак не встающего на ноги социализма, тем более, что «командные высоты» действительно находились в руках у власти и позволяли держать процессы временной «капитализации» под жестким контролем (Ленин называл это «государственным капитализмом»). Впрочем, говорить о теоретических обоснованиях экономики социализма в работах Ленина всерьёз трудно. Почему, например, «простой рост кооперации» в ленинском понимании уже «тождественен социализму»? Почему «коммунизм – это советская власть плюс электрификация всей страны»? А ведь таких определений у Ленина десятки.
Нэп в городе и «строй цивилизованных кооператоров» в деревне (где «государево око» опять–таки должно было зорко наблюдать, чтобы крестьянство не могло по–настоящему встать на ноги) – вот, собственно, все экономические идеи, связанные с построением социализма в «отдельно взятой стране», которые Ленин успел передать своему преемнику. «Социализм» как новая «общественно–экономическая формация» был не более чем воплощением теоретической схемы, выпестованной «марксизмом–ленинизмом», а не результатом объективного хода исторического развития. Законы функционирования этой искусственной формации до сих пор не прояснены, тем паче, что и самого «марксизма–ленинизма» как целостной, единой концепции в природе не существовало. Была социалистическая утопия Маркса с ее экономической частью, по всему своему внутреннему смыслу – эволюционной и вполне реалистической (в конце концов, именно «по Марксу» развивались цивилизованные страны Европы и Америка). И была ленинская политическая пристройка к ней, связанная с понятиями «пролетарская революция» и «пролетарская диктатура», необходимость которых из экономического учения Маркса ни в коей мере не проистекала.
Ленинские работы успешно миновали, со ссылкой на особые российские условия, всё экономическое учение Маркса, чтобы выстроить историю России XX века вокруг трех ключевых слов: «пролетариат», «революция», «диктатура». Пролетариату нетерпеливый большевизм вызреть, как было предписано Марксом, времени не дал, и потому главным постулатом ленинизма стало понятие диктатуры. Теория диктатуры была до тонкостей разработана Лениным, положившим в её основу идею обострения классовой борьбы после победы революции.
На X съезде партии в 1921 г. Ленину удалось добиться резолюции о единстве, запрещавшей существование в партии каких–либо идейных фракций, несогласных с «генеральной линией», но живую внутрипартийную идеологическую жизнь ему этой резолюцией остановить не удалось. Выстраивая боевую дружину, без которой «пролетарская революция» в России была бы попросту невозможной, Ленин прекрасно понимал, что партия, задуманная как «централизованная организация силы, организация насилия и для подавления сопротивления эксплуататоров, и для руководства громадной массой населения», осуществляя диктатуру вовне, не может отказаться от диктатуры и как принципа внутреннего устройства. Поэтому его так занимала, казалось бы, вполне теоретическая проблема соотношения «массы», «партии» и «вождей».
Противопоставление «массы» и очень узкого круга «вождей» отчетливо обозначено уже в «Что делать?»: классовая борьба в современном обществе невозможна «без «десятка» талантливых (а таланты не рождаются сотнями) испытанных, профессионально подготовленных и долгой школой обученных вождей, превосходно спевшихся (выделено мной. – В. К.) друг с другом… и «поднимающих» массы «до себя».
Проблема упиралась, однако, не только во взаимоотношения с массами, но и во взаимоотношения внутри партии, коммунистов с коммунистами. Утверждая и здесь правомерность «диктаторства, если нет идеальной дисциплинированности, беспрекословного подчинения единой воле», Ленин как бы уж совсем откровенно ликвидировал всякий демократизм в среде единомышленников. Судя по «совершенно секретной», как было принято, внутрипартийной переписке (Ленин вообще предпочитал посылать свои письма в единственном экземпляре и требовать после прочтения немедленного их возвращения), уже в 1922–1923 гг. среди «вождей» было в ходу понятие «диктатура партии». Возмущало некоторых только то, что к безусловному подчинению понуждалась и сама партийная «верхушка», о чем, в частности свидетельствуют разъяренные записки Л. Троцкого членам Политбюро ЦК в октябре 1923 г.
Всегда стремясь подкрепить практику большевизма какими–то теоретическими построениями, в работе «Детская болезнь «левизны» в коммунизме» Ленин вычерчивал «вертикаль» партийного управления страной как вертикаль демократическую, в которой «массы» оказывались в едином ряду с «вождями» на уровне чистой воды софистического силлогизма: «Всем известно, что массы делятся на классы… что массами руководят обычно и в большинстве случаев… политические партии; что политические партии в виде общего правила управляются более или менее устойчивыми группами наиболее авторитетных, влиятельных, опытных, выбираемых на самые ответственные должности лиц, называемых вождями… Договориться по этому поводу до противоположения вообще диктатуры масс диктатуре вождей есть смехотворная нелепость и глупость».
Сегодняшняя «вертикаль власти», посягать на которую тоже, понятно, есть «смехотворная глупость и нелепость», имеет в советской традиции, как видим, прочную опору. При этом ей катастрофически не хватает рефлексии Ленина, готового признать, что «диалектика не раз… служила мостиком к софистике», а уж «подделка под диалектику» «легче всего обманывает массы»…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?