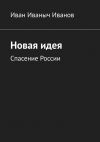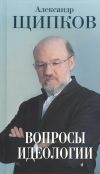Текст книги "В лабиринтах Зазеркалья…"

Автор книги: Вадим Ковский
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Принцип «двоемыслия»
Идеология Зазеркалья положила начало совершенно новому социальному явлению российской общественной жизни —
«двоемыслию», а позже возникавшему на его основе «раздвоению» личности. Причем явление это наблюдалось не только в исходных тезисах идеологии, где диктатура выступала одновременно и в качестве теории необходимого насилия, и как залог грядущего счастья. По двусмысленным идеологическим лекалам строилось всё общественное поведение индивидуума и декларируемые властью принципы культуры. По большей части двоемыслие и раздвоение личности в условиях диктатуры порождалось просто страхом, необходимостью скрывать свои подлинные мысли и выставлять напоказ то, чего требовала власть. Страх скрывался под маской юмора, например, шуточек «под Маяковского» (говорим Ленин – подразумеваем – партия, говорим партия – подразумеваем Ленин, и так всю жизнь – говорим одно, подразумеваем другое, пишем третье…»).
Но иногда двоемыслие было порождением серьёзных причин. Например, искренней верой в идею и грызущими сомнениями. Силой традиций и политическим расчётом. Реальностью и фантазиями. Очевидные признаки двоемыслия и «раздвоения» личности» бросаются в глаза прежде всего, конечно, у самого основоположника большевизма. Ленин понимал, что читателю в литературе нужна не только героика, но и лирика, «нужен Чехов, нужна житейская правда». В то же время всей своей идеей «партийности» литературы он был обращён к сугубо социальным смыслам литературы, к необходимости пропагандистской «неправды». Он восхищался художественной мощью Л. Толстого (каков художник, «глыба», «матёрый человечище»!) и, как известно, перечитывал сцену охоты в «Войне и мире» ради эстетического удовольствия. Но само творчество Л. Толстого было интересно ему не как шаг в художественном развитии человечества, а как искаженное – сквозь призму настроений столь нелюбимого Лениным патриархального крестьянства – «зеркало русской революции». Да и сам «шаг» этот в своем художественном значении ценится, как следует из текста, именно потому, что служит «зеркалом»…
Не случайно споры и дискуссии вокруг понятий, выдвинутых в «эстетике» Ленина в качестве центральных, длятся и по сей день. В свое время даже попытки заподозрить, что статья Ленина «Партийная организация и партийная литература» относится не ко всей литературу, а именно к партийной категорически отвергались. Нет, партийной должна быть вся советская литература, в том числе и художественная (на этом постулате целиком в дальнейшем расцветет теория социалистического реализма). А ведь из исторического контекста статьи, всей логики её доказательств явствует, что речь идет именно о профессиональной партийной литературе. Больше того, согласно статье возникало впечатление, что художественной литературе Ленин вообще отказывает в праве на существование: «литературное дело… не может быть индивидуальным делом». А если она, упаси господь, индивидуальным делом является, то представляет «порнографию в романах и картинах» или «проституцию в виде дополнения к сценическому искусству». Именно этого, по утверждению Ленина, требуют от художника буржуазные читатели и издатели. В каких «картинах» являлась вождю мирового пролетариата порнография и каким образом проституция дополняла именно сценическое искусство, оставалось лишь гадать. Чехову и Толстому, любимым писателям Ленина, буржуазные издатели и читатели, видимо, давали право этих требований не выполнять.
«Речь идет о партийной литературе и её подчинении партийному контролю», – успокаивал Ленин, понимая, что читатель начинает волноваться: «Для определения же грани между партийным и антипартийным служит партийная программа… технические резолюции партии и её Устав», а вовсе не «простор личной инициативе, мысли и фантазии». Но такие пояснения лишь окончательно запутывали дело.
Поразительно, с каким умением манипулирует Ленин понятиями. Грань между партийным и антипартийным очевидна: она там, где автор следует или не следует «резолюциям» и «уставу» партии. А вот вскрик: «Долой литераторов беспартийных! Долой литераторов сверхчеловеков!» – уже явно имеет ввиду литературу художественную. Призыв к подчинению партийной литературы партийному контролю мотивирован. Но какое отношение он имеет «к обширному, разностороннему, разнообразному литературному делу», остаётся лишь гадать. Стоит нам поверить Ленину, что речь действительно идёт о партийных пропагандистах, как вдруг с ловкостью фокусника он переводит разговор на проблемы свободы «буржуазных писателей, художников, актёров». И в конце концов «партийное дело» незаметно отождествляется с «таким тонким, индивидуальным делом, как литературное творчество».
Ленинские «Критические заметки по национальному вопросу», если трактовать их буквально, загоняют нас в подлинный тупик. «Есть великорусская культура Пуришкевичей, Гучковых и Струве, но есть также великорусская культура, характеризуемая именами Чернышевского и Плеханова». Эти слова радостно повторяла вслед за Лениным вся наша «партийная» критика, словно обнаружив жемчужное зерно в навозной куче, хотя было очевидно, что формула «две культуры», – не более чем ораторский прием, поскольку Ленин, я уверен, не хуже нас понимал, что культура есть категория сугубо ценностная и только позитивная. Понимал, но утверждал при этом: «есть две нации в каждой современной нации». Чем не упражнения гимнаста под куполом цирка!
Загадки вокруг ленинского своеобразия начинались со школьной скамьи. Они касались, в основном, темы «Ленин–вождь» и «Ленин–человек». К ней, с равной банальностью и иллюстративностью, подступались и Горький, и Маяковский, и все, рангом пониже, создатели так называемой «ленинианы» (целая ветвь советской литературы от 20‑х гг. и Н. Погодина до Е. Евтушенко и М. Шатрова). Ленин–человек мог «к товарищу милеть людскою лаской» и любить «Аппассионату». Ленин–политик не позволял себе слушать музыку, потому что музыка расслабляет, вызывает желание «гладить человека по головке», когда надо по этой самой головке бить. Ленин–человек читал Гёте и Золя в оригинале и, рассуждая с Инессе Арманд о «свободной любви», мог воскликнуть: «Право же, мне вовсе не полемики хочется». Страшно даже предположить, чего хотелось вождю мирового пролетариата… Ленин–политик излагал своей собеседнице «пролетарскую точку зрения» на «свободную любовь» и раскладывал её по пунктам «8 – 10».
С упорством, достойным лучшего применения, цитировались слова «Луначарского сечь за футуризм», адресованные Лениным никому иному, как самому Луначарскому, в личной записке. Цитировались так, что получалось, будто Ленин – враг любого новаторства в культуре. При этом все остальные акценты этого сюжета отбрасывались. И адресат, и шутливый тон, и то, что Луначарский стойко «защищался», ссылаясь на мнение о «150000000» «такого поэта, как Брюсов» (а нарком, надо полагать, хорошо знал, какая аргументация может на Ленина подействовать). И то, что Ленин был готов дать поэме тираж 1500 экземпляров (немалый для 1921 года). И то, что он тут же просил М. Н. Покровского, тогда заместителя наркома просвещения, «найти надежных антифутуристов», т. е. хотел выставить этому течению заслон художественный, а не административный.
А вот хирургические процедуры, которые проделывались у нас с переводом воспоминаний о Ленине Клары Цеткин. В немецком оригинале знаменитого утверждения, переводимого у нас как «Искусство должно быть понятно массам», знатоки языка вычитывают совсем иной смысл – «понято массами», что придаёт ленинской инвективе прямо противоположное значение. Впрочем, не надо глубоко разбираться в тонкостях немецкого языка: ведь Ленин говорит о «многомиллионном населении, которому недостает самого элементарного знания, самой примитивной культуры». Вопиющая отсталость России – и государственная, и экономическая, и культурная – одна из излюбленных идей Ленина, можно даже сказать, идея навязчивая: «Россия в настоящее время представляет из себя страну с наиболее отсталым и реакционным государственным строем по сравнению со всеми окружающими её странами…» (1913). «Галиция и Россия, отсталые, полудикие страны» (1913). «…мы должны, наконец, встать на правильный путь, который бы победил ту некультурность и ту темноту и дикость, от которых нам приходилось все время страдать» (1919). «Россия – темная и безграмотная страна», «страна нищая и убогая», «одна из самых отсталых стран» (l920). «Мы – нищие люди и некультурные люди» (1922). «Полуазиатская бескультурность, из которой мы не выбрались до сих пор» (1923).
«Массово понятным» этому населению могло бы быть только столь же примитивное искусство, не способное ни «развивать» массы, ни тем более «пробуждать в них художников». И совсем иное дело – народ, поднявшийся до понимания профессионального искусства, способный говорить с художником на одном ним языке. Но стоит только подойти к рассуждениям Ленина с другой стороны, и мы сразу останавливаемся в растерянности. Получается, что такое искусство долгое время может быть «непонятным»? Но тогда как истолковывать отношение самого Ленина к новому искусству: «Я не в силах считать произведения экспрессионизма, футуризма, кубизма и прочих «измов» высшим проявлением художественного гения. Я их не понимаю…» (подчёркнуто мной. – В. К.)?
Очень выразителен с этой точки зрения эпизод из воспоминаний Клары Цеткин. Беседа коснулась нового искусства.
«…мне не хватает органа восприятия, чтобы понять, почему художественным выражением вдохновенной души должны служить треугольники вместо носа…», – саркастически заметила Цеткин. «Ленин от души расхохотался. – Да, дорогая Клара, ничего не поделаешь, мы оба старые… За новым искусством нам не угнаться, мы будем ковылять позади». Ленин хохотал, но нам не до смеха, тем более, что чуть ниже он выскажет весьма незаурядную мысль, на которую почему–то никто обычно не ссылается: «…по–видимому, творческая жизнь требует расточительности в обществе, как и в природе».
Ленин высоко ценил талант Горького, но прислушайтесь к тому, как он характеризует роман «Мать» – будто пишет аннотацию для журнала «Что читать»: «Книга нужная… Многие рабочие… прочтут роман с большой пользой для себя». Тут уж никакой «расточительности творческой жизни» не найдёшь! Как восхищался Ленин «Прозаседавшимися» Маяковского («Давно не испытывал такого удовольствия»!), но ведь не преминул при этом заметить, что удовольствие доставляло ему стихотворение лишь «с точки зрения политической и административной», поскольку «поклонником поэтического таланта» поэта он «не является». Как будто к художественному произведению эти две оценки возможно применять по отдельности и независимо друг от друга!
Достаточно редкими в 20‑е годы по такту и терпеливости были взаимоотношения Ленина с Горьким, то и дело совершавшим политические «ошибки». Переписка с Горьким, выпустившим после Октября злую и откровенную книгу очерков о революции и, в конце концов, вынудившим Ленина отправить его в неофициальную эмиграцию, где он и пребывал до 1928 года, даёт наглядный пример возможности либерального «руководства литературой», как и маленькая ленинская рецензия на вполне «контрреволюционную» книжку А. Аверченко «Дюжина ножей в спину революции».
Сегодня обращает на себя внимание не столько даже решительное требование переиздать (с какими бы то ни было политическими целями) сборник рассказов Аверченко, открывающийся гневным восклицанием: «Разве та гниль, глупость, дрянь, копоть и мрак, что происходит сейчас – разве это революция?» – сколько обращение Ленина именно к художественному уровню этой прозы. «Талантливая книжка», «замечательно сильные места этой высокоталантливой книжки», «прямо–таки превосходные вещички», «с поразительным талантом изображены…» и пр. Невозможно даже представить нечто подобное в устах Сталина!
В оценках литературы Ленин зачастую не может отказаться от «староинтеллигентской» реакции на художественное качество произведений (как никак, дворянин, из учительской семьи, юрист, окончивший гимназию и получивший высшее образование до революции, знавший иностранные языки). Однако из ленинского наследия нельзя вычеркнуть и многое из того, что прямо противоречит его «староинтеллигентским» рефлексам. На идеологические и политические позиции, замечу, человечность Ленина ни в малейшей степени не влияла.
В области общих, «доктринальных» позиций, связанных с коренными проблемами развития советской культуры, он «стоял железа твёрже», многое предопределив в ее дальнейших путях и судьбах самым мрачным образом. Здесь и «закрытие царских памятников» с заменой их на «бюсты» революционеров; и великий поход на религию; и совет Луначарскому «все театры… положить в гроб»; и замечание в письме Горькому насчет Короленко («Таким «талантам» не грех посидеть недельку в тюрьме…»); и личная разработка структуры Наркомпроса («Художественный сектор оставить как единый сектор, поставив «политкомов» из коммунистов во все центральные и руководящие учреждения этого сектора»); и восстановление традиций царской цензуры, с созданием соответствующего государственного учреждения —
Главлита. В ленинских «Директивах по киноделу» (1922) были изложены установки, успешно воплощавшиеся потом в нашей стране чуть ли не на протяжении века, от советского Наркомпроса вплоть до нынешнего министерства культуры РФ и бывшего его министра Мединского: «Наркомпрос должен организовать наблюдение за всеми представлениями и систематизировать это дело. Все ленты, которые демонстрируются в РСФСР, должны быть зарегистрированы и занумерованы в Наркомпросе».,
Пожалуй, самой меткой художественной характеристикой «двоемыслия» Ленина было и остаётся замечательное словцо Бабеля: «таинственная кривая ленинской прямой»…
Сталин – это «Ленин завтра»
Главные идеологические принципы и понятия, характеризующие, по Ленину, построение социализма в России как «низшей фазы коммунизма», выводили на авансцену отечественной историй фигуру Сталина с объективной неизбежностью. А так как в конце 1922 г. Ленин, по существу, отошел от управления перепаханной им сверху донизу страной, специфическую окраску советской истории 20–30‑х гг. правомерно рассматривать уже в свете не столько ленинских, сколько ленинско–сталинских идеологических концепций.
Сталин успешно продолжил работу над законодательством в ленинском направлении. В частности, он непрерывно развивал и наращивал знаменитую 58‑ю статью, которая, кажется, уже могла бы быть издана отдельным сборником. Смертная казнь, по Ленину, полагалась самовольно вернувшимся на родину после высылки. Сталин предложил обратное прочтение —
казнить за «предательство» «невозвращенцев», самовольно оставшихся за границей. Это было покрепче Ленина, поскольку, кроме несчастных «сменовеховцев» и «евразийцев», о которых речь пойдет ниже, обратно на родину никто не собирался (усилия К. Симонова, пытавшегося соблазнить И. Бунина высокой должностью руководителя Союза писателей СССР, остались безрезультатными). Закон о «невозвращенцах» был оперён, пользуясь словами Мандельштама, «двойною рифмою», поскольку провозглашал, если на минуту задуматься, правомерность террора на территории других государств и непосредственно касался интеллигенции – рабочие и крестьяне СССР за границей никак не могли оказаться. Крестьяне, кстати, до той поры, пока Хрущёв не выдал им паспорта, не могли бежать даже «за границу» собственной деревни.
Если Ленин изо всей исторической концепции марксизма ухитрился извлечь только теорию диктатуры, то Сталину в этом направлении ничего нового изобретать как будто бы уже и не пришлось. Диктатуру в разоренной и изнуренной войной и революцией стране он продолжил осуществлять с беспримерной жестокостью и последовательностью.
Очень долго мы противопоставляли «хорошее» и гуманное ленинское десятилетие последующим – «плохим» и негуманным сталинским (за вычетом, правда, периода Великой Отечественной войны, когда интересы тоталитарного государства и народа в ходе общего несчастья совпали). Между тем сегодня совершенно очевидно, что принципиальных различий в характере тоталитаризма первых лет ленинского правления и последующих сталинских не было. Ленинские концлагеря 1918 года предшествовали сталинскому ГУЛАГу. Ленинские политические процессы («левых» и «правых» эсеров) стали прообразом политических процессов и конца 20‑х, и конца 30‑х. Пресловутая сталинская теория обострения классовой борьбы по мере побед социализма, теория 30‑х годов, не оставляющая стране никаких надежд, была не чем иным, как органическим продолжением нараставшей ленинской ненависти к своим побежденным политическим противникам: перечитайте все написанное и сказанное Лениным в адрес политической эмиграции именно тогда, когда революция, казалось бы, должна была ликовать и праздновать головокружительные свои успехи… Торжество ленинского «воинствующего» атеизма, вкупе с физическим уничтожением духовенства и разграблением церквей, длилось два десятилетия, пока чуть было не проигравший Великую Отечественную войну и спасенный лишь самоотверженностью и долготерпением народа Сталин не понял огромного значения религии в русской жизни периода страшных социальных катаклизмов и не стал срочно восстанавливать отношения с разрушенной церковью.
Сталин последовательно продолжил начатое Лениным дело партийного строительства как в практическом отождествлении партии с государством, так и в теоретической концепции «вождизма», где на острие ленинской триады «класс – партия —
вожди» возвышалась фигура главы партии и тем самым – государства. В ходе успешной борьбы с политической оппозицией и превращения партии в единый монолитный организм членом партии в идеале уже мог стать каждый гражданин. Больше того – Сталин оказался учеником, опередившим учителя: после смерти Ленина он провел ряд «чисток», каждый раз существенно сокращавших численность партии, а после того, как политические процессы конца 30‑х гг. просто истребили всех вычищенных, ряды партии стали пополняться.
Построение неведомого ни Ленину, ни Сталину и не имеющего исторических прецедентов социализма требовало, казалось бы, от «авангарда» постоянных дискуссий, обсуждений, полемики, но всё это лишь угрожало превратить «централизованную боевую организацию» в некий теоретический клуб. Судьба «господствующей партии», на корню истребившей любое инакомыслие, для огромного большинств партийцев заканчивалась в сталинскую эпоху репрессиями, лагерями и высылками. По существу история РСДРП(б), РКП(б), ВКП(б) была историей смертельной и непрекращающейся борьбы как с другими партиями, так и с внутренней партийной оппозицией – «ликвидаторами», «отзовистами», «оборонцами», «капитулянтами», «левыми коммунистами», «рабочей оппозицией», «анархо–синдикалистами», «военной оппозицией», «правыми» и «левыми» «уклонистами», «новой оппозицией» «троцкистско–зиновьевским антипартийным блоком», «бухаринско–рыковской антипартийной группой», «право–троцкистским блоком» и т. п. и т. д., причем всегда предполагалось, что существует некий ленинско–сталинский идеологический эталон, которому следует большинство образцовых, не ведающих колебаний коммунистов, а рядом мечутся бледные, зловещие тени врагов, стремящихся разрушить партию изнутри, «навязать» ей (любимое выражение «Краткого курса») очередные дискуссии. На ХVII съезде партии в 1934 г. Сталин объявил социализм построенным, что и засвидетельствовал лаконично в «Кратком курсе».
Борьба с партийной оппозицией была для Сталина лишь одной из множества конкретных форм классовой борьбы. Теория обострения классовой борьбы по мере построения социализма преследовала в этом контексте чисто прагматическую цель и должна была лишний раз оправдывать набиравший силу в СССР от 20‑х к 30‑м гг. террор. Сталин действительно формулировал эту теорию неоднократно – и в 1928 г., в речи на пленуме партии, и в антибухаринской работе «О правом уклоне в ВКП(б)», и в1930 г., в докладе на ХVII съезде партии, и в итоговом виде на февральско-мартовском пленуме ЦК ВКП(б) 1937 г. В конце концов, он довел её до полного абсурда. В 1925 г. он, в частности, объявлял классовой борьбой «противоречия между пролетариатом и крестьянством», в 1929 г. «одной из самых опасных форм сопротивления против развивающегося социализма» называл «вредительство буржуазной интеллигенции» и пытался подвести теоретическую базу под практику превращения в классовых врагов всех противников своей линии в верхних эшелонах партийной власти.
Задачи, сформулированные Сталиным в понятиях «индустриализация» или «коллективизация», были абсолютно ясны и доходчивы, хотя индустриализовать аграрную Россию было делом куда более тяжким, чем ввести нэп, когда народ еще не успел утратить навыков частной собственности. «Это можно было сделать лишь создав энтузиазм индустриализации, превратив её из прозы в поэзию, из трезвой реальности в мистику, создав «миф о пятилетке», одновременно сопровождающийся террором и ГПУ», – справедливо замечал Н. Бердяев.
Поскольку о реальном «социализме» большевики, руководствуясь наполеоновским принципом – сначала ввязываться в войну, а потом уже разбираться, что к чему, – понятия не имели, Сталину пришлось на полном ходу придумывать все эти «индустриализации», «коллективизации», «колхозы», «пятилетки», «чистки» и пр., через которые железной рукой проволок он «за шиворот» страну на протяжении трех десятилетий. В «коллективизации» Сталин пошёл куда дальше ленинских «кооперативов» и «товариществ» и фактически вернулся к политике «военного коммунизма», но уже вершимой руками самих крестьян, изымающих у соседей «излишки», а потом, с помощью государства, «изымающих» и самих соседей. В то же время в идее колхозов была удачно использована русская общинная традиция, помноженная на большевистский «коллективизм», с его установкой на равенство минимальных потребностей.
Развивая ленинские представления о задачах диктатуры, Сталин постепенно уничтожил всех единомышленников и соратников Ленина, вместе с которыми в первые послереволюционные годы он руководил новым государством. Показательны судьбы членов первого ленинского правительства в России после 1917 года, того самого Совета народных комиссаров, в котором Ленин отвел Сталину достаточно скромную роль министра по делам национальностей.
По интеллекту, книгам, уровню образования, знанию языков большевистские министры, первые руководители разрушенной революцией России не уступали, я думаю, куда более успешным и цивилизованным странам. Г. В. Чичерин, первый советский нарком иностранных дел – сын баронессы Майндорф, выпускник историко–филологического факультета Петербургского университета, полиглот, любитель поэзии, друг Михаила Кузмина (умер за год до начала репрессий, весьма болезненно коснувшихся и его наркомата). И. И. Скворцов–Степанов – министр финансов, впоследствии редактор «Известий», переводчик «Капитала», автор книги о Жан–Поль Марате, сотен статей и брошюр; В. П. Менжинский —
юрист, после смерти Дзержинского председатель ОГПУ, дворянин, прошедший через эмиграцию (Бельгия, Швейцария, Франция, США), эрудит, полиглот, книгочей. В. А. Антонов–Овсеенко – выпускник Воронежского кадетского корпуса, много лет прожил во Франции, был на дипломатической работе
в Чехословакии, Литве, Польше. Н. В. Крыленко – юрист, учился в Санкт–Петербургском и Харьковском университетах, в 1917–1918 гг. Верховный Главнокомандующий российской армией, председатель Верховного суда и Генеральный прокурор РФСР до Вышинского. О Л. Д. Троцком и А. В. Луначарском и говорить нечего – за ними, помимо блестящей образованности и широчайшей в 20‑е годы популярности, стоят горы книг и статей. Но ведь в первом советском правительстве даже А. Г. Шляпников, министр труда, единственный, по–моему, выходец из рабочей среды, много лет до революции прожил за границей и тоже оставил после себя какие–то книги.
В итоге неустанной сталинской деятельности Л. Д. Троцкий был выслан из страны и после многолетней на него охоты убит, А. И. Рыков расстрелян, А. Г. Шляпников расстрелян, П. Е. Дыбенко расстрелян, И. А. Теодорович расстрелян В. А. Антонов–Овсеенко расстрелян, Н. В. Крыленко расстрелян, Г. И. Опоков расстрелян… В ходе политико–экономических процессов 30‑х годов пошли под нож Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев, Н. И. Бухарин и другие.
«Похлёбку классовой борьбы», пользуясь формулой Я. Смелякова, Сталин продолжал варить до конца жизни. Уже действительно старым и больным человеком, пережившим ряд инсультов, он просил ХIХ съезд КПСС освободить его от должности Генерального секретаря партии, но делал это перед онемевшими от ужаса делегатами скорее по давней привычке провокационно проверять реакцию ближнего круга (примерно так он спаивал участников своих застолий, сам оставаясь совершенно трезвым), нежели сообразуясь с реальным состоянием своего здоровья. Иначе зачем бы на сугубо секретном Пленуме ЦК, собранном сразу после съезда (материалы его до сих пор закрыты и известны только по отрывочным воспоминаниям участников, не решавшихся записывать происходившее на их глазах), «дряхлый» Сталин без бумажки произнес эмоционально–злобную полуторачасовую речь с её главным тезисом: классовая борьба и по сей день продолжается, причем не где‑нибудь, а в самом Политбюро.
При этом он набросился на ближайших сподвижников: обвинил Микояна в пособничестве крестьянству, которого тот предлагал освободить от каких‑то налогов, якобы полагая, что мы что‑то им должны, тогда как они кругом должны нам (не отпускала большевиков, вслед за Лениным, до конца жизни ненависть к этому классу!), а Молотова – в готовности передать Крым евреям и разглашении государственных тайн своей жене–еврейке (которая, кстати, при молчаливом согласии мужа, уже своё отсидела), а также данного на Западе врагам, не иначе как в «подпитии», обещания начать издание в СССР буржуазных газет и журналов. Выразительно писал об этом в своих воспоминаниях К. Симонов.
Угроза прежних расстрельных ярлыков – «правого уклона», «капитулянтства» – казалось, просто витала в зале в воздухе над покорно склоненными головами… Я думаю иногда, какими мелкими должны были казаться Сталину послевоенные политические кампании вроде «ленинградского дела» и борьбы с космополитами по сравнению с парадными процессами 30‑х годов. Он мечтал о другом масштабе, о большой крови и, возможно, готовил такой – мирового резонанса – процесс над деятелями культуры. Помешала война, и центральные фигуры возможного судилища – М. Кольцов, Вс. Мейерхольд, И. Бабель, пока на других ещё собирались материалы, были пущены в расход бездарно, понапрасну.
Непосредственно перед Великой Отечественной войной Сталин уничтожил чуть ли ни весь высший командный состав Красной Армии. Были расстреляны 3 маршала, несколько адмиралов, 10 командующих армиями, 60 командующих корпусами, 135 командующих дивизиями, 56 генералов, неисчислимое количество армейских комиссаров и пр. и пр. Я помню то потрясение, которое все мы испытали, когда был опубликован (еще не заглохла инерция хрущевской «оттепели») первый вариант списка расстрелянных командиров, получивший название «Списка Тодорского», по имени А. И. Тодорского, генерала, отсидевшего огромный срок и, выйдя на волю, первым решившегося подсчитать потери советского командного состава. Человека, чья книга 20‑х годов «Год с винтовкой плугом» была высоко оценена Лениным.
Здесь не место гадать, были ли тому разгрому реальные основания в виде заговора военных или мудрый вождь поверил фальшивке гестапо. Достаточно и того, что он имел все причины видеть в армии единственную силу, способную свергнуть его режим в свете надвигающейся военной угрозы, далеко зашедших заигрываний с Гитлером, нарастающего политического террора и сугубо силового управления народным хозяйством. Стратегия сохранения верховной власти была проста до гениальности – подстригать, опираясь на низменные инстинкты homo sapiens, проявляющиеся, как только вышеозначенный homo объединяется в толпу, всё сколько–нибудь выбивающееся наверх и способное к конкуренции. Убирали соучастников, убивали свидетелей. Поэтому наряду с прямыми жертвами в годы «большого террора» было уничтожено и энное количество их палачей, что впоследствии успешно использовалось приверженцами тоталитарного режима в качестве оправдательного аргумента: власть–де осуществляла высшую справедливость абсолютно объективно, не отдавая предпочтения ни одной силе социального процесса и не щадя даже верных своих опричников…
Человеческие потери в России за какие‑нибудь два с небольшим десятилетия (до конца 30‑х годов) до сих пор в полном объеме не просчитаны: НКВД числит за собой «всего каких–нибудь» 800 000 расстрелянных в период «ежовщины». Но если к этой цифре прибавить неучтенные сотни тысяч людей, погибших во время ничем не объяснимых в аграрно развитой стране «гладоморов»; сотни тысяч заключенных, истребленных болезнями и непосильным рабским трудом в концентрационных лагерях или на великих стройках сталинской индустриализации, десятки тысяч крестьян, сгинувших после раскулачивания и высылок в чащобах Сибири; да еще огромные и не мотивированные ничем, кроме провальных итогов внешней и внутренней предвоенной политики Сталина, потери первых лет на фронтах Великой Отечественной, то счет пойдет на многие миллионы.
Но на миллионы, надо думать, должен идти счет и безвестным исполнителям террора. Мы обычно подчеркиваем только огромное количество доносов и доносчиков, подпитывающих работу карательных органов. Но это лица сугубо гражданские. Однако никто почему–то не захотел подсчитать, какие массы сильного, активного, до зубов вооруженного мужского населения были втянуты в борьбу с собственным народом на «внутреннем фронте», в тылу – следили, арестовывали, допрашивали, карали, охраняли даже и тогда, когда шла беспощадная народная война и так нуждался в «живой силе» фронт реальный.
«Революция» на протяжении всех 30‑х и далее продолжала неостановимо пожирать своих детей, и можно только поражаться бесконечной талантливости народа, сумевшего годами, несмотря ни на что, восполнять свою кровавую убыль в самых экстремальных условиях существования (на примере полководцев, стремительно выдвинутых войной взамен вырубленных Сталиным, эта талантливость производит впечатление какого–то чуда). Между тем, ошибок своих «отец народов» признавать не любил и фактически сделал это лишь дважды, причем оба раза, видимо, под сильным эмоциональным впечатлением войны (большего стресса ему действительно в жизни испытать не довелось – в конце концов, решался вопрос, кому висеть на виселице…).
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?