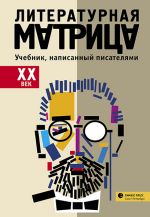
Автор книги: Вадим Левенталь
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Начиная с 1918 года Маяковский развивает бурную деятельность на самых разнообразных поприщах. Пишет сценарии и снимается в кино. Рисует плакаты. Сочиняет частушки. Совместно с художником Александром Родченко работает в рекламе, «прославляя» изделия Моссельпрома, Резинотреста и Мосполиграфа. Сотрудничает с рядом центральных газет в качестве штатного и внештатного корреспондента. Совместно с Бриком, Асеевым и Третьяковым учреждает творческое объединение ЛЕФ (Левый фронт искусства). Редактирует журнал. Пишет пьесы, которые ставят в столичных театрах. Беспрерывно разъезжает по Советскому Союзу и зарубежью, не только читая стихи, но и пропагандируя наступление в отдельно взятой стране царствия всеобщего благоденствия.
И при этом беспрерывно пишет. Но по большей части написанное после 1918 года к поэзии имеет лишь чисто формальное отношение. Поскольку это зарифмованные репортажи об отвратительной жизни за границей, разоблачающие социальные язвы фельетоны в стихах, «приказы по армии искусств», текстовки плакатов, агитки, прославляющие новый быт…
Вот, например, стихотворный фельетон «Прозаседавшиеся» – от пересказа «в прозе» сочинение это ровно ничего не теряет. Поэт приходит в учреждение на прием к «Иван Ванычу». Иван Ваныч занят – он на заседании. Попытки отловить его бесперспективны: Иван Ваныч перемещается с заседания на заседание. Вечером разъяренный поэт врывается в зал заседаний и видит, что на стульях сидят нижние половинки людей. Ему объясняют, что заседательная нагрузка столь велика, что чиновникам приходится раздваиваться, чтобы одновременно присутствовать в разных местах. В финале поэт требует созвать последнее заседание, на котором необходимо принять резолюцию о запрете всяческих заседаний. Типа смешно.
К концу 1920-х годов поэт начинает переживать душевный разлад, который в конечном итоге и привел его в апреле 1930 года к самоубийству. Причин этого разлада несколько: и запутанные отношения с Лилей Брик; и осознание того, что все его старания переменить человечество «к лучшему» одной лишь силой слова оказались тщетными; и начинавшиеся изменения в культурной политике государства.
Новые веяния в скором времени (хотя это произойдет уже после смерти Маяковского) привели к безраздельному царствованию в советской литературе социалистического реализма. А в 1928 году началась лишь «артподготовка» под лозунгом «критика формализма в искусстве», которая должна была искоренить все эстетически новое в литературе, изобразительном искусстве, музыке, театре и кинематографе и наполнить их примитивным содержанием, прославляющим политику коммунистической партии.
Идеологически поэзия Маяковского вполне удовлетворяла этой концепции, а вот эстетически – отнюдь нет. Изощренная метафоричность, причудливые рифмы да и вообще новый язык стихотворений Маяковского чем дальше, тем больше подвергались критике. Он попытался «обыграть в карты дьявола», перейдя в начале 1930 года из ЛЕФа в РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей), которая тогда была оплотом назревавшего соцреализма. Но оказался в еще большем проигрыше: и старые соратники от него отвернулись, и рапповцы не переменили к нему враждебного отношения.
Ощущение того, что литературная судьба не складывается, начало вызревать в душе Маяковского уже в середине 1920-х годов, когда он написал:
Я хочу быть понят моей страной,
а не буду понят —
что ж.
По родной стране
пройду стороной,
как проходит
косой дождь.
При этом поэт, который, как вол, работал во имя утверждения социалистической идеологии, отождествлял «понятость страной» с «полезностью государству». И государство в конце концов продемонстрировало ему свое полное пренебрежение: открытие итоговой выставки «20 лет работы Маяковского», на которой поэт представил все свои газетные и журнальные публикации, изданные книги, а также агитационную и рекламную графику и работы в театре и кинематографе, – открытие выставки не почтил своим посещением ни один госчиновник, ни один сколько-нибудь авторитетный деятель культуры. Это послужило сигналом к остервенелой ругани в прессе и выставки, и самого поэта.
В апреле находившийся в депрессии Маяковский покончил жизнь самоубийством…
Правда, потом он был «понят своей страной». Но понят, как говорится, «с точностью до наоборот». На щит подняли его трескучие пропагандистские сочинения – стихи о советском паспорте, о Ленине, о вреде пьянства, о трудовых подвигах и т. д. и т. п. Из них понадергали цитат типа «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить» или «Я волком бы выгрыз бюрократизм». А его ранние стихи было принято считать чуть ли не ученическими трудами, которые он вскоре якобы перерос.
В действительности же все совершенно иначе – писавший в юности почти исключительно шедевры, Маяковский деградировал, как только изменил природе своего литературного дарования. И голос чуткой скрипки с натянутыми, словно струны, нервами был заглушен трескучим оркестром, составленным из глупой тарелки, меднорожего геликона и солдафонского барабана.
Максим Кантор
Апостол революции
Владимир Владимирович Маяковский
(1893–1930)
Его величие очевидно – однако всегда находятся аргументы, чтобы отлучить Маяковского от сонма избранных. Поминают агитки, и то, что его «насаждали, как картофель при Екатерине», и высокомерное поведение. Самое непростительное – любовь к революции. Если бы он просто служил советской власти (как большинство), если бы он из осторожности агитки публиковал, а лирику писал «в стол» (как многие), если бы он сначала вольнодумствовал, а потом испугался (как некоторые), но нет – он искренне любил то, что другие ненавидели и чего боялись. Парадоксальным образом ему не прощают именно искренность. И хотя Маяковский сам от данной власти пострадал и жизнь закончил трагически – это не спасает его во мнении интеллектуального большинства. Собратья по цеху не любят выскочек, мстят долго. Стараниями коллег сложилась легенда о том, что ранний Маяковский – поэт хороший («трагический»), а поздний – плохой. На самом деле все обстоит прямо наоборот.
1
Маяковский прожил те самые тридцать семь лет, за которые гении успевают больше, чем другие за долгие годы. Он создал больше, чем любые пять поэтов, вместе взятые, расшевелил русский язык так, как до него сумел лишь Пушкин. Он пересмотрел отношения художника с миром столь же радикально, как это сделал Ван Гог. Он говорил о великом с наивной простотой – как умел разве что Шекспир.
Кто еще в XX веке написал шесть трагических поэм? Кто – естественно и как само собой разумеющееся – мог беседовать с солнцем? Кто – не эпитетом, но по сути – сделал поэзию вновь делом трагическим? Кто отождествил себя с эпохой так убедительно, что время уже не существует без него? Впрочем, именно это и стало его бедой. «Лучший, талантливейший поэт нашей советской эпохи», – определение Сталина сделалось приговором. Либеральная цивилизация сочла эпоху революции – катастрофой, а лучший поэт катастрофы, Маяковский, стал враждебен прагматичной современности. Казалось бы, всякий поэт может увлечься чем-нибудь этаким, ярким, но не вполне хорошим – вот и Блок, например, оскоромился. Однако все понимают, что Маяковский действительно любил революцию, это не поэтическое увлечение, это обдуманно и всерьез. Казалось бы, всякий поэт может ошибиться – вот, например, Булгаков написал пьесу «Батум», а Мандельштам – оду Сталину. Однако все понимают, что Булгаков и Мандельштам сделали это от страха, под влиянием обстоятельств, а Маяковский никогда и ничего не боялся; представить, что Маяковский делает нечто с перепугу, невозможно. Бояться и ошибаться поэту разрешено – но вот изменять поэтическому ремеслу нельзя, он перестает быть членом цеха. Маяковский сам, самостоятельно, отменил привилегии поэта, дарованные ему ремеслом. Он, выражаясь современным бюрократическим языком, лишил себя поэтического иммунитета, и к нему предъявили те же претензии, что к комиссарам и чиновникам. Поэтический иммунитет – вещь довольно странная, но тем не менее очевидная. Негласно признано, что поэту позволено несколько больше, чем простым смертным: бытовые безобразия, долги и мелкие финансовые трюки, распутство, социальные заблуждения – все это история списывает как накладные расходы на гениальность. Так списали Эзре Паунду его фашистские настроения, Лорке – нестандартную сексуальную ориентацию, Есенину – беспутную личную жизнь. Многие уважаемые литераторы выступили в поддержку фашизма (Шоу, Уэллс, Элиот, Йейтс), и, однако, их имена с фашизмом никто не связывает. Дело в том, что у всех этих поэтов социальное поведение существовало независимо от поэзии – мало ли, что я пью или лозунги выкрикиваю, пишу-то я все равно про березки. Бытовая трусость и некоторая моральная кривизна сопутствовали многим поэтическим биографиям тех лет: надо же было как-то пройти меж опасностей времени, немного виляли – кто бросит камень? В Маяковском крайне раздражает именно то, что он не вилял и грехи его – по понятиям интеллигенции – очевидны, огромны и не спрятаны. Маяковский от поэзии добровольно отказался, и не приходится удивляться, что поэзия и поэты ему не простили отказа.
2
Трудно найти пример поэтического гения (то есть существа эгоистичного по своей природе), отказавшегося от творчества во имя общественной деятельности. Можно трунить над Маяковским, но нельзя отрицать факт сознательной жертвы: находясь в расцвете поэтических сил, он сознательно отказался от творчества, заменив его деятельностью агитатора – то есть деятельностью неуважаемой. Правда, Рембо тоже перестал писать стихи и стал коммерсантом – но его поступок никто не рассматривает как жертву. Так происходит потому, что подобная жертва из стихов Рембо не вытекает, а для Маяковского – отказ от творчества закономерен. Этот поступок он совершил не от безумия и творческого кризиса, совсем напротив – как акт последовательного самовыражения. В русской литературе существует подобный пример – отказ от художественной деятельности ради деятельности полезной. Логика проста: творчество существует затем, чтобы образной выразительностью служить правде и добру. Так не проще ли служить правде непосредственно – не через искусственный образ, а прямо, воспитывая людей не иносказаниями, но прямой речью. Так поступил Лев Толстой; можно назвать Маяковского последователем Толстого. Во всяком случае, трудно представить более близких героев в русской литературе. Впрочем, Толстой отказался от художественного творчества в пожилом возрасте, к тому же Толстой – прозаик, то есть человек рассудочный. Для поэта (молодого, романтического, любимца публики, острослова) оставить высокие материи ради того, чтобы прославлять продукцию магазинов и достижения народного хозяйства, – вдвойне необычно. «И вы с прописями о нефти? – ужасался Пастернак. – Но как вас могло занести / Под своды таких богаделен / На искреннем вашем пути?» Трудность понимания Маяковского состоит в том, что занесло-то его именно потому, что путь был искренним. По определению Цветаевой, Маяковский «камнем – тяжеловес избрал, не прельстясь алмазом»; однако трудно ожидать, что цех ювелиров такой выбор одобрит. Мало того, трудно ожидать, что общество рано или поздно не упрекнет ювелира в том, что он бросил свое ремесло.
Решив служить людям, Маяковский стал отчаянно одинок: обществу его служение очень быстро перестало быть нужно, а собратья по цеху отступничества от поэзии не простили. Так он и остался ни при чем – и поэтом «гражданственной тематики» не стал, и в круг избранных лириков включен не был.
3
Вообще-то, Маяковский – поэт лирический, писал всю жизнь о любви. Более того, Маяковский писал о любви так, как не писал никто, – с безответной нежностью, с самоотречением, с болью.
«Страсти крут обрыв – / будьте добры, / отойдите. / Отойдите, / будьте добры»[74]74
Из стихотворения «Отношение к барышне» (1920).
[Закрыть]; «В мутной передней долго не влезет / сломанная дрожью рука в рукав»; «Вспомни – / за этим окном / впервые / руки твои, иступленный, гладил»; «Дай хоть / последней нежностью выстелить / твой уходящий шаг»[75]75
Из стихотворения «Лиличка!» (1916).
[Закрыть]. Это какие-то гипертрофированные чувства, экстатические, именно что исступленные. И одно это для поэзии необычно – «поэзия должна быть глуповата». Говорено о любви предостаточно – тема, по выражению самого Маяковского, «и личная и мелкая, перепетая не раз и не пять». Как всем известно, любовь – это такая сильная привязанность к другому человеку, которая выделяет данного человека из общей массы людей, делает его уникальным. Возникает чувство спонтанно, осознается плохо, анализу не поддается вообще. Ради любимого человека люди готовы на нерациональные поступки – таких не совершают ради начальства и не всегда ради Отчизны. Греки, например, считали любовь болезнью, мешающей гражданину выполнять общественный долг. Во все времена поэты противопоставляли массовым страстям (революции, войне, первоначальному накоплению, биржевой игре) именно это личное, не поддающееся рациональному определению чувство.
Надо быть весьма необычным человеком, чтобы найти новое толкование для известной вещи. Например, Иисус Христос нашел неожиданно рациональное применение иррациональному чувству любви – а именно, решил, что любовь должна стать главной социальной скрепой. Не убегать от Молоха[76]76
Молох (библ.) – неотвратимая сила, требующая множества человеческих жертв. – Прим. ред.
[Закрыть] социума в любовь, но, напротив, сделать весь социум одной сплошной любовью – «чтоб всей вселенной шла любовь», если пользоваться выражением Маяковского. Когда люди научатся любить дальних так же преданно, как ближних, а врагов полюбят так же пылко, как друзей, общество станет счастливым. Скрепа любви надежнее власти денег, сильнее зова крови. Применять это чувство следует не избирательно, но в массовом порядке. Любовь должна стать безусловным правилом в обществе – ну, скажем, как воинская повинность или подоходный налог. Это простое правило оказалось столь революционным, что его сразу не смогли (и по-прежнему не могут) принять народы планеты.
Надрывность лирического Маяковского происходит именно оттого, что в чувство к одной женщине он хочет вложить нечто массовое, некую любовь вообще, любовь как принцип отношений. А не получается. И это безысходно трагично. Если пересказать сюжет первой (и определяющей) поэмы Маяковского, «Облако в штанах», – получится вот что. Один человек разочаровался в любви, так как его обманула девушка. Любовное разочарование заставило героя увидеть весь мир другими глазами – и герой убедился, что в мире все не так. Не только любовь фальшива – также дурны искусство, власть, религия, гражданское право и социальное устройство. Вся вселенная, если присмотреться, «обезлюблена», то есть фальшива, порочна, расчетлива, дурна.
Даже в грустных историях Абеляра и Элоизы, Ромео и Джульетты случались светлые моменты – но в любовной лирике Маяковского просвета нет совсем. «…Метался / и крики в строчки выгранивал, / уже наполовину сумасшедший ювелир»[77]77
Из поэмы «Флейта-позвоночник» (1915).
[Закрыть] – это его обычное состояние. Никакого удовольствия от любви, наслаждения любовью поэт не знает в принципе. Любовь к женщине – повод увидеть несовершенство мира. Вряд ли хоть одна особа женского пола могла бы на такое чувство ответить.
Некогда поэт Данте использовал образ любимой, чтобы нарисовать общий принцип устройства Рая, – и Маяковский писал именно с такой претензией. Любовь земная для Данте лишь модель, прообраз любви небесной. Для Маяковского, который перемешал в своем творчестве евангельские притчи, социальную риторику и любовную лирику, индивидуального чувства любви также не существует. В мире, который устроен неправедно, невозможно решить одну маленькую проблему для персонального пользования – надо все решить сразу и для всех. «Где любимую найти мне, / такую, как и я? / Такая не уместилась бы в крохотное небо!»[78]78
Из стихотворения «Себе, любимому, посвящает эти строки автор» (1916).
[Закрыть] Сказано немного хвастливо – но правдиво.
Особенность Маяковского – с этой его особенностью трудно ужиться критикам – состоит в том, что он никогда не притворяется. Ему нужды нет позировать: он действительно чувствует то, о чем пишет, он не преувеличивает. В то время как его современники брали псевдонимы, чтобы произвести впечатление, ему хватало собственной невыдуманной фамилии. В соседстве с выдуманными именами (Ленин, Сталин, Бедный, Горький, Ахматова, Черный и т. д.) фамилия «Маяковский» звучит как изощренный псевдоним. «…будьте как маяк! / Всем, / кто ночью плыть не могут, / освещай огнем дорогу»[79]79
Из стихотворения «Эта книжечка моя про моря и про маяк» (1926).
[Закрыть]! Вопрос лишь в том, что по этой освещенной им дороге никто плыть не собирался.
И этот огромный мужчина, не умеющий пристроить свою любовь, не умеющий найти ей применения, маялся в одиночестве, метался, кричал, пугал желтой кофтой и яростным голосом. Это, безусловно, лирика, но какая-то нелирическая лирика.
4
Свое одиночество Маяковский предсказал заранее, еще мальчишкой, – это была одна из масок, которую он примерял на себя, как это всегда делают романтические натуры. В ранних стихах он изображал толпу и одинокого гения, непонятого чернью, – как это делают все поэты. Маяковский следует общей традиции – это не оригинально. Просто одним романтическая маска требовалась лишь на время, другие жили одинокими всю жизнь, и их одиночество из романтического состояния переходило к отчаянному. Маяковскому еще повезло, как мало кому везло: он собирал тысячные аудитории, путешествовал по миру, являлся полпредом советской поэзии, был обеспечен материально, печатался и переводился. Гумилев в тюремной камере, Мандельштам в лагере, Цветаева в Елабуге, Ходасевич в эмиграции, Пастернак во время травли и т. д. и т. п. – все эти люди были куда более одиноки. А если взглянуть шире – на Европу эпохи Первой мировой, – то одиночек и там найдется предостаточно. Эта эпоха, предвоенная и межвоенная, была эпохой общей растерянности. Это была та эпоха, в которую люди творческие становились одинокими просто в силу того, что мораль не поспевала за прогрессом, – достаточно вспомнить героев Чаплина, Хемингуэя и Ремарка. Одиночество – общий приговор.
История искусств того времени – демонстрация различных стадий отверженности от общества. Самые распространенные сюжеты – это портреты проституток; одинокие клоуны, скитающиеся по дорогам; бродяги – любители абсента и т. д. и т. п. И ранний Маяковский не сказал ничего оригинального по сравнению с созданным Пикассо, Ван Донгеном, Сутиным, Руо, Гроссом, Модильяни, Паскином, Чаплином. Скорее наоборот, он работал в общепринятой традиции – тогда так делали все. Маяковский не более других ненавидел толстосумов и толпу. Это общее место. Он, как и многие поэты, не принимал этот мир, но на то и существует поэт – чтобы мир не принимать. Он, как и многие поэты, отождествил себя с отверженными – в его ранней лирике этими отверженными были хрестоматийные клоуны, бродяги, проститутки. Нельзя сказать, что судьбы странствующих комедиантов искусство переживало глубоко – эти персонажи скорее символизировали одиночество самого творца, играли роль декораций. Когда Маяковский пишет умопомрачительную тираду «меня одного сквозь горящие здания проститутки, как святыню, на руках понесут», то представляешь себе отнюдь не персонажей Хитрова рынка, совсем не реальных московских проституток, описанных, скажем, Куприным. Нет, для такой театральной постановки нужны девушки кисти Ван Донгена: большеглазые, красногубые, у какой чулок спущен, у какой плечико голое, а за ними – тревожное зарево. Впоследствии, когда в качестве отверженных поэт выбрал не условных изгоев, а конкретных пролетариев, он перестал нуждаться в декорациях. Но в своей ранней лирике – именно в декорациях и нуждался.
Нельзя сказать, что Маяковский был не понят, а остальные – поняты; нельзя сказать, что он хотел служить людям, а вот Пастернак, например, не хотел. Или Цветаева – не хотела. Были поэты-гедонисты[80]80
Гедонист – здесь: тот, кто считает целью жизни получать наслаждение от самого процесса бытия. – Прим. ред.
[Закрыть] вроде Гумилева, Северянина, Есенина, но и они страдали от непонимания: вот, они несут миру новое слово, а мир глух. Дикое одиночество неуслышанного поэта выражено в прощальной поэме Есенина «Черный человек». Но проблема всех говорящих и неуслышанных была общая: они говорили в основном о себе, о своем состоянии души, а подавляющему большинству людей это не особенно интересно. Маяковский отличался от других поэтов тем, что хотел людям говорить о том, о чем интересно именно этим людям. Он готов был пожертвовать своим интересом ради их интересов.
5
Принято считать, что одиночество Маяковского было особой природы – природы, так сказать, пророческой. С ранней юности он почувствовал призвание взять на себя грехи мира и провозгласил себя апостолом, то есть лицом, наделенным особой судьбой. Не просто писать стихи, как прочие поэты, но служить посредством стихосложения человечеству – вот его стезя.
Однако – и об этом свидетельствуют сами стихи Маяковского – именно этот пункт (служение людям как цель искусства) выявляет много несовпадений и противоречий. Прежде всего новый апостол собирается служить не всем людям. Некоторых он не любит и служить им, несомненно, не хочет – он даже негодующе спрашивает: «Вам ли, любящим баб да блюда, / жизнь отдавать в угоду?!»[81]81
Из стихотворения «Вам!» (1915).
[Закрыть] Понятно, он не собирается служить богачам, капиталистам и рантье. Но штука в том, что другим – тем, которые отнюдь не толстосумы, – он тоже служить хочет избирательно, не всем подряд. Так, Маяковский с ранних стихов отвергает толпу, противопоставляет толпе поэта и в одиночестве находит единственное спасение. Он смотрит на скопление народа и вопрошает, глядя на физиономии: «…чья не извозчичья?»[82]82
Из стихотворения «Никчемное самоутешение» (1916): «Улицу врасплох огляните – / из рож ее / чья не извозчичья?»
[Закрыть] Очевидно, что толпа не блещет положительными качествами, скопление людей вообще провоцирует животные, стадные чувства – они все вместе куда-то катятся, бездушные хамы, и для сострадания ближнему закрыты их сердца. Толпа – это не привилегированные богачи, толпа – это просто набор обывателей, потребителей, мещан. Эти мещане лишены идеалов и живут по меркам материального мира – ясно, что поэту они враги. Правда, тот же самый Маяковский в других стихах говорит, что готов бросить свое поэтическое ремесло ради толпы – готов «каплей литься с массами». Огромное скопление народу может, как выясняется, вызывать и положительные эмоции – люди, сбившись в кучу, охвачены общим порывом (например, палить помещичью усадьбу), и поэт их приветствует. Вот тут появляется смысловая неразбериха – между массой и толпой разница почти неуловима. Скажем, на немецкий эти понятия переводятся одним и тем же словом, да и по-русски не сильно различаются. Собственно говоря, огромное скопление людей не может быть разным по качествам – люди, они и есть люди, каким словом ни назови большое их количество. Когда в кучу собирается много людей (что на площади, что в трамвае, что в колонне демонстрантов), то все элементы этого сообщества приобретают однородные свойства. Как можно служить массе, а не служить толпе?
Эта путаница так и осталась неразрешенной в стихах Маяковского – более того, из-за этой смысловой невнятицы все его творчество распадается на две части, и связать эти две части невозможно. Поэт истово хочет служить людям, ради служения людям он готов наступить «на горло собственной песне», отказаться сам от себя – это одна сторона биографии. Поэт презирает мещан, ненавидит толпу обывателей, ничего гаже, нежели мещанская мораль, для него не существует – это сторона другая. Однако мещанская мораль присуща любой толпе, мещанская мораль – это просто бытовой интерес, поставленный впереди идеала. Стачки, демонстрации, погромы, очереди – словом, любое людское скопление управляется именно бытовым интересом. Можно принять возбужденный интерес за идеальный порыв, но это недостоверная посылка. Маяковский ждал от скопления людей некоего эмоционального взрыва, равного религиозному экстазу, – и хотел верить, что революция ввергла толпу в этот экстаз и толпа преобразилась, утратила присущие ей черты. Отныне (так полагает поэт) толпа уже толпой не является – толпа стала массой. И эта масса будет испытывать духовные потребности, а не телесные. Маяковский апеллировал к некоей идеальной толпе, к обществу сверхлюдей, людей возможного будущего – а современную ему реальную толпу недолюбливал. В его отторжении от толпы и амбиции нести той же самой толпе свет истины есть перекличка с ницшеанским Заратустрой; впрочем, он сам себя и называет «крикогубым Заратустрой». Подобно Заратустре, он идет к людям, чтобы им служить, но в смирении своем хранит сверхчеловеческую гордость и презрение к тем, которых хочет осчастливить. В его стихах желание распять себя «на каждой капле слезовой течи»[83]83
Из поэмы «Облако в штанах» (1914–1915).
[Закрыть] благополучно чередуется с призывами «На пепельницы черепа!»[84]84
Из поэмы «150 000 000».
[Закрыть]. Легко допустить, что те, чьи черепа предназначены на пепельницы, тоже плачут, но, вероятно, именно на их слезах поэт себя распинать не намерен. Жестокости в его стихах принято оговаривать: это, де, так – метафора, не всерьез. Однако какой именно из приведенных примеров – метафора? Черепа для пепельниц действительно использовали, а вот на слезе распять себя невозможно. Может быть, метафора – это как раз насчет слез? Возможно, что и жестокости, и прекраснодушие, и то и другое, – метафоры. Но жестокость выглядит более натурально. «…Люди, / и те, что обидели, – / вы мне всего дороже и ближе»[85]85
Из поэмы «Облако в штанах».
[Закрыть], – восклицает поэт; и этот же поэт говорит: «…выше вздымайте, фонарные столбы, / окровавленные туши лабазников»[86]86
Из поэмы «Облако в штанах».
[Закрыть]. Конечно, лабазники поэта обидели, но ведь он утверждает, что те, кто обидели, даже дороже прочих, – так неужели именно лабазников простить не может? Когда поэта захлестывает бешенство, его стих делается чеканным и страстным – вдохновение трудно имитировать. «Сегодня / надо / кастетом / кроиться миру в черепе!»[87]87
Из поэмы «Облако в штанах».
[Закрыть] – сказано так, что не забудешь. А рядом – пожелания пожертвовать собой во имя людей и благие намерения выражены так же страстно: «…душу вытащу, / растопчу, / чтоб большая! – / и окровавленную дам, как знамя»[88]88
Из поэмы «Облако в штанах».
[Закрыть]. Чему верить? Да и образ растоптанной души какой-то сомнительный. Что же получается: если поэт ради служения людям вытащил из себя душу – он стал бездушным? И может ли такой бездушный – людям служить? Коротко говоря, в теме служения людям много неясного – поэт искренне хочет им служить, но люди попались ему крайне неудачные, и он разочарован.
6
Отношение поэта к Богу также довольно противоречиво. Он назначает себя тринадцатым апостолом, но, чуть что, угрожает Господу расправой: «…тебя, пропахшего ладаном, раскрою»[89]89
Из поэмы «Облако в штанах».
[Закрыть]. Никакого почтения в его отношении к отцу небесному не наблюдается – «…с неба смотрела какая-то дрянь / величественно, как Лев Толстой»[90]90
Из стихотворения «Еще Петербург» (1913).
[Закрыть], «недоучка, крохотный божик»[91]91
Из поэмы «Облако в штанах».
[Закрыть] и так далее. Иногда поэт забывает о своем апостольском чине и самого себя принимает за Иисуса Христа: «Был абсолютно как все – / до тошноты одинаков – / день / моего сошествия к вам»[92]92
Из поэмы «Человек» (1917).
[Закрыть]. Как можно одновременно быть апостолом и Богом – представить непросто. Трудно вообразить, чтобы религиозный поэт (например, Данте) путался в самоидентификации – и самого себя принимал одновременно и за Господа, и за вожатого, и за ученика. Иерархия в представлении средневекового поэта была предельно ясной – у Маяковского же полная неразбериха, здесь и богоборчество, и богоискательство перемешаны в один непонятный продукт. Понятно, что ни о какой конкретной конфессии речь не идет, но иногда не ясно даже, идет ли речь о христианстве. Христианская риторика очевидна, но и поправки к христианству, внесенные поэтом, тоже очевидны. «Мой рай для всех, / кроме нищих духом»[93]93
Из пьесы «Мистерия-буфф» (1921).
[Закрыть] – так может сказать лишь тот, кто уполномочен за комплектацию рая, – наделен ли такими полномочиями Маяковский? Какому именно богу Маяковский приходится апостолом? Скорее всего, не Христу, но тому явлению, которое он сам произвел в боги, подобно тому как себя определил в апостолы. «…В терновом венце революций / грядет шестнадцатый год. / А я у вас – его предтеча…»[94]94
Из поэмы «Облако в штанах».
[Закрыть] – сказано просто, но даже в этой простоте много путаницы. Как год может быть мессией, как революция может быть Богом? Какая-то здесь чехарда понятий. Да и вообще, все время хочется спросить: так вы кто, товарищ поэт, – апостол, Иоанн Предтеча или Иисус Христос? Уточните, пожалуйста, свои полномочия.
Надо сказать, что для Маяковского путаница в иерархии была не случайна – ему иерархия в принципе не нравилась, он ее отменял. Ему не хотелось ни на кого смотреть снизу вверх, «как утка на балкон», пользуясь его выражением. В том мире, который он себе воображал, в мире идеальной одухотворенной толпы, вообще нет иерархии. В силу этого любое статусное величие отменяется: поэтическое, начальственное, природное. Он равно непочтительно обращается и к Богу, и к Наполеону («на цепочке Наполеона поведу, как мопса»[95]95
Из поэмы «Облако в штанах».
[Закрыть]), и к Пушкину («я бы / и агитки / вам доверить мог»[96]96
Из стихотворения «Юбилейное» (1924).
[Закрыть]), и к Колумбу («ты балда, Коломб, – / скажу по чести»[97]97
Из поэмы «Христофор Коломб» (1925).
[Закрыть]), и к солнцу («чем так, / без дела заходить, / ко мне / на чай зашло бы!»[98]98
Из стихотворения «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче» (1920).
[Закрыть]). Это панибратство для Маяковского было как бы условием равенства. Вполне вероятно, что Колумб не обрадовался бы обращению «балда», хотя Маяковский ругается беззлобно, вроде как локтем пихает в бок. Архангелы могли обидеться на «прохвостов крыластых», особенно в устах новоявленного апостола. Важно здесь то, что для религиозного служения понятие иерархии актуально, но в мире, раскатанном катком революции, иерархия отсутствует.
Попутно надо заметить следующее: хамство поэтическим натурам вообще свойственно и самодовольство присуще. «О Александр! Ты был повеса, как я сегодня хулиган» (Есенин о Пушкине); «Мусорный старик» (Ахматова о Толстом) и т. п. – такое часто говорилось поэтами в отношении своих великих предшественников, но не потому, что поэты отменяли иерархию мира в принципе, как раз наоборот: от непомерного самомнения и уверенности в том, что они в высшие круги тоже попали. Ахматова действительно думает, что может судить о Толстом, ей в самом деле кажется, что ее деяния и деяния Толстого стоят друг друга. Есенин правда считает, что его пьянство той же природы, что и похождения Пушкина, – на то они и поэты, чтобы позволять себе лишнее. В случае Маяковского происходит нечто обратное. Он не признает никого над собой, поскольку не признает своего главенства над кем-то на том основании, что он – поэт. Поэт в его представлении не есть привилегия, или точнее – есть привилегия фальшивая. И другие привилегии тоже фальшивы. В том коммунистическом раю, который он воображает, все будет уравнено: один делает гайки, другой для них винты, третий пишет стихи, солнце всходит и заходит, и так создается счастье коллектива.
Чем такое счастье лучше постылой земной юдоли, поэт знает – отсутствием иерархии, отсутствием главных и подчиненных. Но что, собственно, хорошего в таком вот счастье, в таком вот рае – он и не знает, и вообразить себе не может. Сейчас – плохо, а хорошо – это как? Апостолом какой религии, вожатым какого рая он себя представлял? Данте ясно видел ад, но столь же ясно он видел и рай, а вот Маяковский рая вообразить себе не мог. Фантастический проект человеческих воскрешений, разумеется, напоминает идею христианского воскресения. Однако совершенно непонятно, как будет функционировать этот рай: что будет делать воскрешенное в своем телесном облике человечество – сохранится ли оно в ненавистном качестве толпы или перейдет в благостное состояние революционной массы? А перейдя в благостное состояние, что делать станет? С чем бороться? Мир должен быть переделан – Маяковский настаивает на этом с марксистской определенностью. Он постоянно приговаривает: «мы земную жизнь переделаем», «надо жизнь сначала переделать» и т. д. Ясно, что́ следует изменить: власть богатых и мещанскую мораль. Ненависть к богатым гораздо определеннее сострадания к бедным – ибо бедные в серости своей могут захотеть мещанского уюта, остановиться в борьбе.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?





































