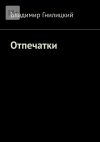Текст книги "Новая модель реальности"

Автор книги: Вадим Руднев
Жанр: Философия, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Реальный смысл человеческого существования на земле можно найти не во внешней жизни и земных объектах, а в идее трансформации, которая, происходя в человеке, ведет к этому состоянию – Царствию Небесному. Таким образом, все беды и горести, все личные трагедии, все тревоги, разочарования и обиды, так же как все радостные события и счастливые моменты, которые каждый человек время от времени переживает, в свете Царствия Небесного, не что иное, как средства для достижения цели. Сами по себе они лишены какого-либо значения и не имеют ничего общего с Божьей волей. Человек должен отвернуться от мира и обратиться к себе [Николл, 2006, с. 115, 127, 134].
Но я не готов к обретению Царствия Небесного, поэтому я стал писать книгу. Внутреннее, говорит М. Николл, это то, что невозможно постичь при помощи ощущений. Чтобы обрести Царствие Небесное, недостаточно выключить телевизор и выглянуть из-под одеяла. Надо совершить подвиг не писания книги. Нет, этого тоже мало. Можно и писать книгу, можно даже смотреть телевизор с ощущением внутренней реальности в себе. Внутренняя реальность высшего порядка это не наррация о Царствии Небесном. Царствие Небесное анарративно. Оно является вещью в себе за пределами пространства и времени.
Не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие внутри вас есть [Лк. 17:20–21].
А где внутри нас? Где именно внутри? Параметры как внутренней, так и внешней реальности регулируются повторением и различием [Делёз, 1997]. Повторение обыкновенно связывают с ритуалом. Это в определенном смысле неверно: ритм повторения лежит в основе человеческого дыхания, где вдох связывается с жизнью, а выдох – со смертью (или наоборот; в данном случае это неважно, в свете того, что жизнь переходит в смерть, а смерть в жизнь). Но одного повторения мало. Нужно различие. Человек не может все время дышать и только – это человек, который находится в коме. На дыхание большое внимание обращал O. Мандельштам:
…За радость тихую дышать и жить
Кого, скажите, мне благодарить?..
…На стекла вечности уже легло
Мое дыхание, мое тепло.
Из омута злого и вязкого
Я вышел тростинкой шурша
И страстно, и томно, и ласково
Запретною жизнью дыша.
В определенном смысле повторение – это аналог протяженности, а различие – это аналог мышления. Повторение и различие связаны диалектически подобно тому, как связаны внутреннее и внешнее. Не понимаю. Подробнее! Например, что-то можно вывернуть наизнанку. Внутреннее станет внешним, а внешнее – внутренним. Вспомним также ленту Мёбиуса. Но это не все. Можно ли изнутри вывернуть Царство Небесное так, чтобы оно было внешним? Другими словами, можно ли заменить высшее внутреннее состояние внешними делами. Можно пожертвовать внутренним во имя внешнего, нирваной – во имя счастья других людей – так поступали Боддххисавты. Хватит пока об этом. Но какие наррации несут нам повторения и различия? Прежде всего, информацию о жизни и смерти: если дышит, значит, жив.
Что является главным признаком реальности? Тот факт, что она несет нам какое-то сообщение, которое одновременно является действием. В общем, единицей реальности является речевой жанр, или языковая игра, примем до поры до времени, что это синонимы.
Я иду по улице. – «Что ты делаешь?» – «Да разве ты не видишь – я иду по улице». А кому ты это говоришь? Ведь никто тебя об этом не спрашивает. Меня реальность об этом спрашивает, например, другие люди. Если я иду по улице, а навстречу мне идут другие люди, то они краешком сознания меня косвенно спрашивают: что он делает? А! Он идет по улице. Или он остановился, потому что у него развязался шнурок. Ритм шага как res extensa, пожалуй, является, следующим по важности после ритма дыхания. Вероятно, следующий по важности – это наиболее сложный ритм человеческой речи. Интонация, соотношения гласных и согласных, долготы и прочее. Ведь Ж. Лакан определил человека как говорящее животное.
Но нам более важны в данном случае такие вещи, как шаг, потому что нам необходимо отделить человеческую ходьбу от передвижения животного. Почему о животном нельзя сказать, что он сделал шаг. Можно сказать, что шаг может быть коротким, быстрым и т. д., но и животное может передвигаться быстро, медленно и т. д. Можно сказать, что кардинальным отличием человеческого шага является его осмысленность. Здесь нам могут возразить, что мы лишаем животный мир осмысленности. Если собака куда-то бежит, то ведь в этом есть определенный смысл. Нет, это мы вкладываем в него смысл, мы, изучая животных, невольно антропоморфизируем их. Можно договориться так: животные располагают значением, но не располагают смыслом. Это будет, конечно, достаточно примитивно, но на первый случай сойдет. Смысл и значение мы понимаем по Фреге. Значение (то же, что денотат) – это тот факт, что собака бежит, смысл – это способ выражения значения в знаке, например собака семенит. Другая собака понимает значение, но не понимает смысла, по-моему, это очевидно. Мы остановились на том, какие наррациии несут нам повторение и различие. Помня о том, что все сообщения, сообщения-действия, сводятся к диалектике жизни и смерти, можно сказать, что повторение – это смерть, а различие – это жизнь. Тот факт, что повторение родственно смерти, открыл З. Фрейд в работе «По ту сторону принципа удовольствия». Можно сказать, что инстинкт жизни – это не инстинкт удовольствия, а инстинкт различия – более свежая мысль. В определенном смысле удовольствие это и есть различие. Все это простые, в сущности, вещи, просто их нужно собрать воедино и осмыслить. Гораздо сложнее соотношение повторения и различия в том, что касается ритуала. Там, по общему мнению, господствует повторение. Тем не менее в ритуале различие не может не играть роли: и в ритуале люди и дышат, и едят, и рождаются, и умирают. Вообще трудно представить себе жизнь первобытного человека как полностью ритуализованную, так же как было бы легкомыслием представлять нашу современную жизнь как полностью спонтанную. Полная ритуализация – это кома. Тотальное различие – это столпотворение. Нужна золотая середина. Если следовать развиваемой здесь онтологии, в соответствии с которой все контексты – косвенные и, стало быть, к реальности, где валидные понятия истины и лжи, отношения не имеют, то получается следующее. В самом деле – вот течет река, какое она имеет отношение к истинности и ложности? Или я вижу фильм, в котором течет река. Снятая на пленку, река является такой же наррацией, как подлинная река. Но здравый смысл говорит, что это не так. В кинематографической реке зритель, сидящий в зале, не может искупаться, потому что это просто кусочки пленки. Но по какому принципу мы различаем человека в кадре, который купается в кинематографической реке, и зрителя, сидящего в зале, который не может этого сделать? Искупаться в кусочке пленки нельзя. Тот человек в кадре не купался в кусочке пленки, он купался в реке. В чем же разница? Это другая реальность. Да нет, та же самая!
Поскольку понятия истинности и ложности не релевантны для реальности, понимаемой как наррация, то это не только, как мы писали выше, делает бесполезным разграничение вымышленного и документального дискурсов, но и в самóм документальном дискурсе делает понятие истины лишним. «Я сейчас иду по улице». Что это, в сущности, значит? Правда это или нет? Мы привыкли думать, что это либо правда, либо ложь. Либо я на самом деле иду по улице, либо мне это снится. Но в нашем понимании реальности, как наррации, значения истинности, или логической валентности, не принимаются в расчет. Совершенно не важно, на самом ли деле я иду по улице или мне это только кажется. Смысл моего речевого акта от этого не меняется. Но что же это за онтология такая, где неважно, идет человек по улице или ему это только снится? Мы можем сказать, что понятия истинности или ложности применительно к элементам реальности, как наррации, мы заменяем диалектикой жизни и смерти. «Я сейчас иду по улице» – означает, что я жив; «Мне снится, что я сейчас не иду по улице» – означает, что я мертв. Но этим все дело не ограничивается. Допустим, в логике реальности понятию «истинно» соответствует понятие «жизнь», а понятию «ложно» – «смерть». Тогда у нас получится, что смысл высказывания «Я сейчас иду по улице» означает, что я жив, а смысл высказывания «Мне снится, что я сейчас иду по улице» означает, что я мертв. Но здесь возникает новая трудность. Она как раз связана с понятием смысла. Смысл в отличие от истинностного значения не бинарен. Он не членит высказывание на два противоположных полюса. Он просто что-то показывает. Представим себе картинку «Я сейчас иду по улице» – ее легко представить. Но эта картинка не имеет отношения не только к истине или лжи, но и к жизни и смерти. Одна и та же картинка соответствует мне, идущему сейчас по улице наяву (то есть живому) и во сне (то есть мертвому). Опять-таки: что это за странная онтология, которая не различает, ни истины, ни лжи, ни жизни, ни смерти, ни сна и яви? Зачем тогда вообще нужны какие бы то ни было наррации? Представим себе такой диалог. Звонок по мобильному телефону: «Ты где?» Ответ: «Я сейчас иду по улице». Важно ли тому, кто спрашивает, действительно ли отвечающий идет по улице или нет, истинно это или ложно? Важно ли тому, кто спрашивает, жив отвечающий или мертв? Важно ли спит он или бодрствует. Очевидно, что все это чрезвычайно важно. Моя идея заключается в том, что вся эта «важность» нам только кажется. Зачем она позвонила и спросила его «Ты где?» Важно ли ей иду я по улице или сижу в баре, живой я или мертвый, спящий или бодрствующий. Ей важно только, что он ее любит. Вот смысл этого звонка. Если он ее любит, то все равно – идет ли он по улице, спит или давно умер. Если нет, то тем более. Тогда возникает другой вопрос. Если ей важно, любит он ее или нет, то с точки зрения традиционной онтологии это означает положительный ответ на воп рос «Истинно, что он меня любит». Но и это тоже кажущаяся материализация нарративной реальности. Вот, допустим, она его спрашивает: «Ты меня любишь?», и он отвечает: «Да!» Разве это звучит убедительно? Как он может действительно ответить ей на этот вопрос в свете нарративной реальности? Он должен показать ей, что он ее любит. Как? Есть много способов. Хорошо, другой вопрос: «Вы кто про профессии?» «Я – врач». А сам думает: «Да какой я врач! Я говно». Так же как врач не тот, у кого есть диплом врача, любящий не тот, у кого есть удостоверение, что он любит. Есть разные языковые игры. Игра в прятки – это языковая игра. Учеба в школе – это языковая игра. Истина и ложь – это языковая игра. Жизнь и смерть – это языковая игра.
Но любовь это не языковая игра. Когда мы слушаем музыку (особенно инструментальную), мы ведь не спрашиваем, истинна ли эта музыкальная фраза или ложна. Мы просто слушаем.
Вот так просто надо слушать реальность. Из-за того, что в музыке нет слов и она безразлична к истине и лжи, ей отказывают в нарративности. Если наррация – это диалектика жизни и смерти, то, конечно, она есть. Ведь жизнь и смерть это не слова. Но когда мы смотрим художественный фильм или читаем роман, мы судим героев с точки истины и лжи, как если бы они принадлежали к понятой традиционной онтологии. Самое сложное это объяснить самое простое. Стоит табуретка. Лежит камень. Растет дерево. О чем они рассказывают и кому? Нет, они-то – табуретка, камень, дерево – в общем-то, ничего не рассказывают. Но они сами являются сгустками наррации. Реальность, получается, это то, о чем рассказывают, а не то, кто рассказывает. Нет, мы тоже реальность, и то и другое. Когда мы говорим «камень», мы либо ничего не говорим, либо подразумеваем под этим «Это камень» или «Я вижу камень». При этом мы можем подразумевать «Камень» Мандельштама. Мы можем вообще ничего не говорить, даже про себя. Просто наше сознание (или бессознательное, в данном случае неважно) фиксирует: «Это камень», «Это деревья». Вот дом, который построил Джек. Опиши челюсть крокодила. Это ассоциативная психоаналитическая языковая игра. В сплетении ассоциаций может крыться какая-то тайна, а может и не быть ничего. Почему так важен ассоциативный анализ? Мы пишем роман своей жизни, проживая ее, но он тут же стирается в нашей памяти. Сколько домов сегодня видел я на улице? Каких людей я встретил? Мы можем сказать – вот, пожалуйста, вот так можно разграничить бытовую реальность и вымышленный дискурс. Там все исчерпывается количеством слов, сказанным героями и о героях. Так рассуждал М. Бойко в одной из своих статей. Но это не так. А бесконечные критические статьи, а устные разговоры! «Ну, ты совсем как Пьер Безухов». Вспомним Д. Андреева. Нет, не получается так разграничить. И даже бывает так, что один раз читаешь и видишь одно, а другой раз – совершенно другое.
…Я «Исповедь» Руссо
Как раз перечитал.
Так буйно заросло
Всё новым смыслом в ней,
Что книги не узнал,
Страниц ее, частей.
Как много новых лиц!
Завистников, певиц,
Распутниц, надувал.
Скажи, знаток людей,
Ты вклеил, приписал?
Но ровен блеск полей
И незаметен клей…
Александр Кушнер. Посещение
Камень, который никто не видит, это роман который никто не читает. В этом смысле роман (книга) почти ничем не отличается от камня. И напротив, роман, который у всех на слуху, можно уподобить камню, исписанному надписями вроде «Киса и Ося были здесь».
Барт писал когда-то: «Пишешь, чтобы тебя любили, но когда тебя читают, любимым себя не чувствуешь». А я чувствую себя любимым, только когда пишу. Поэтому надо писать дальше.
Итак, табуретка и «Я вас любил. Любовь еще быть может» – это элементы нарративной реальности одного уровня. Да и есть ли там какие-то уровни? Но есть разные языковые игры. Есть, например, кодифицированные языковые игры, скажем, система уличной сигнализации или шахматы. Но тот человек, который перебегает улицу на красный свет («И Ленский пешкою ладью берет в рассеяньи свою»), не только нарушает правило языковой игры в уличное движение, важнее то, что он также играет в другую игру, например, он опаздывает на свидание с возлюбленной. Но полицейский играет в первую игру и оштрафует его и будет прав. Но возлюбленную, стоящую на другом конце улице, будет волновать вторая языковая игра: что ради нее пренебрегают всеми другими правилами. Если, конечно, его у нее на глазах не раздавит машина. Миф нейтрализует все оппозиции [Пятигорский, 1965], но не обязательно, что он нейтрализует только важные универсальные оппозиции, он в принципе может нейтрализовать не значимые и даже не сопоставимые. Например, ясно, что миф нейтрализует оппозицию любви и смерти. Но совершенно неочевидно, что миф нейтрализует оппозицию табуретка vs эмпириокритицизм. Но он-таки и их нейтрализует. Как же и зачем он это делает? Мифологическое мышление довольно близко к цзенскому, а цзен – к психоанализу (впервые это заметил Э. Фромм). Чем нелепее ответ учителя на вопрос ученика, чем неправдоподобнее ассоциация пациента, тем ближе они к смыслу (чуть было не сказал к истине). Зачем человеку смысл? В определенном смысле ответив на этот вопрос, мы ответим на вопрос, что такое реальность. Когда у человека депрессия, он говорит, что все теряет смысл. Когда он был в нормальном состоянии, что-то для него имело смысл, а что-то нет. (В гипомании все имеет смысл.) Находясь в депрессии, он понимает, что табуретка и эмпириокритицизм – это совершенно разные вещи. Но для него они равно бессмысленные. Ему на них наплевать. Роза очень красивая. Но что ему до нее, когда ему плохо. Ему безразличны смыслы, но не денотаты. Он отличит розу от чайника, в какой бы тяжелой депрессии ни был. В этом отличие депрессии от шизо френии, которая не различает денотатов. Депрессивный человек не различает смысла как реализации – по Фреге – значения в знаке. А что значит смысл как реализация значения в знаке? Это значит, я люблю только эту женщину (а к остальным отношусь просто с симпатией). В ней и только сосредоточен для меня мой смысл, моя реальность. Поэтому Фрейд был неправ, говоря, что потеря реальности – это потеря денотатов. Шизофреник теряет не реальность, что-то другое, себя в ней. Реальность теряет депрессивный. Есть такой тест. Девушку берут на работу в компанию, строящую дома, на должность секретарши. Ее просят нарисовать дом. В зависимости от того, что за дом она нарисует, ее возьмут или нет. Для того чтобы работать в строительной компании, она должна любить дома, они должны иметь для нее смысл, быть частью ее реальности.
В чем заключается ощущение отсутствия реальности, или нереальности происходящего? Его можно выразить словами «Так не бывает!» Например, я иду по улице, а вокруг меня люди плывут по воздуху. Тогда я скажу себе: «Либо я сошел с ума, либо я сплю, и мне все это снится». Значит, все-таки бывает, но за пределами обыденного семантического пространства.
Что значит ощущение нереальности с точки зрения нарративной онтологии? Я говорю: «Так не бывает», когда не понимаю, что происходит, когда я не считываю месседж. Я как будто оказался в совершенно иной семиотической среде. «Так не бывает» – это сродни ощущению бессмысленности наррации, но не той бессмысленности отсутствия любви и поддержки, которой страдают депрессивные люди, а чисто логической бессмысленности, которая имеет иную природу. Это ощущение отсутствия обеспеченности знаков их денотатами. Люди не могут плыть по воздуху, такое может быть лишь в бреду, во сне или фантастическом фильме.
Ну, хорошо, тем не менее я иду по улице, а навстречу мне по воздуху плывут люди. Что я могу предпринять в таком случае? Я могу заставить себя проснуться. Или я могу пойти к психиатру. Но я могу сказать: «Вот как, оказывается, бывает на свете. И как я буду теперь жить дальше?» По-видимому, необходимо прочитать эту наррацию, расшифровать это послание, понять его смысл.
Мне не спится, нет огня;
Всюду мрак и сон докучный.
Ход часов лишь однозвучный
Раздается близ меня.
Парки бабье лепетанье,
Спящей ночи трепетанье,
Жизни мышья беготня…
Что тревожишь ты меня?
Что ты значишь, скучный шепот?
Укоризна или ропот
Мной утраченного дня?
От меня чего ты хочешь?
Ты зовешь или пророчишь?
Я понять тебя хочу,
Смысла я в тебе ищу…
А. С. Пушкин. Стихи, сочиненные ночью во время бессоницы
Возможно, Пушкин имел в виду нечто в таком роде. Понять смысл непонятного – в этом суть экзистенциально смелого отношения к абсурду. Трусливое отношение – нежелание проснуться или стремление пойти к доктору. В чем смысл того, что вот я иду по улице, а вокруг люди летят по воздуху? Неважно, сон это или бред или просто моя фантазия, все равно это некое сообщение моего бессознательного о том, что мне, к примеру, кажется, будто мне слишком тяжело живется, а другие люди будто летают по воздуху. В таком случае надо его проанализировать, деконструировать это послание. Мы на самом деле все время это и делаем, только сами не замечаем. Вещи, факты, ситуации, события (все элементы реальности) существуют в семантическом пространстве бесконечного количества вхождений, в которые они входили на протяжении всего развития культуры. Все эти элементы реальности, будь то Кёльнский собор или табуретка, несут на себе семантические слои, следы их употреблений как более универсальных, так и совсем индивидуальных. (Когда мы делаем шаги в реальности, ходы в языковых играх, мы ищем повторений, а находим различия и наоборот. В этом состоит суть нашего движения по реальности.)
Что происходит, когда мы что-то рассказываем? Например, я был в Париже и рассказывал знакомым о Париже. Но я видел всего лишь какой-то кусочек Парижа. Является ли мой рассказ именно тем кусочком Парижа, о котором в нем рассказывается? Ведь то, что я говорил – просто слова. Я называл какие-то имена, названия улиц, кафе, в которых я был. Разве рассказ о Париже и есть хотя бы частично сам Париж? С точки зрения традиционной онтологии это, конечно, не так. Хорошо, а с точки зрения нарративной онтологии является ли предложение «Как вы знаете, я выступал в Сорбонне!», частью Парижа? А предложение «Я никогда не бывал в Париже»? А предложение «Сейчас я буду есть гречневую кашу»?
Все эти предложения могут быть частью языковой игры «Поездка в Париж». Кстати, все языковые игры предикативны. Нет такой игры «Париж», но есть «Это Париж». Если есть слово «Париж», это не гарантирует того, что есть реальный город Париж. Но если я говорю «Я был в Париже», то я тем самым подтверждаю онтологический статус реальности Парижа. Если никто не был в Париже, не видел его, не может о нем ничего рассказать, то о чем тогда вообще говорить! Вообще представление о том, что существует город Париж во всей его целостности и во всех его подробностях с точки зрения нарративной онтологии, конечно, абсурдно. Кто этот человек, который ходил по всем улицам Парижа, заходил во все его кафе, бывал во всех домах и квартирах Парижа и разговаривал со всеми парижанами? Да и как можно рассказать обо всем Париже? Даже о камне, лежащем на дороге, рассказать, довольно трудно. Попробуйте рассказать о камне, лежащем у дороги. – «Ну, это был большой темный камень…» – «Да-да». – «Ну, это был такой камень… и он лежал у дороги, ну и… в общем, больше я ничего не могу рассказать об этом камне». Да и зачем? На самом-то деле с этим камнем, поскольку он несет на себе семантические слои, отпечатки и следы всех камней мира, связано бесконечное количество историй. Почему, однако, мы утверждаем, что этот камень несет на себе все слои, следы и отпечатки всех камней мира? Это же были совершенно различные камни. Хорошо, а понятие «социализм» – в устах разных социалистов это совершенно разные понятия? (Витгенштейн бы сказал, что разные.) Если Идея камня, Смысл камня, Тотем камня один, то все конкретные камни суть разновидности одного Камня. Мы ищем повторения, а находим различия, а когда ищем различия, находим одни повторения.
Смысл, идея камня, каменности универсальна. Но является ли эта идея частью реальности? Можно ли рассказать историю про Идею или Смысл Камня? Скорее, можно рассказать мифологическую историю некоего архетипического камня. Когда нам говорят, что вот этот дом – каменный, мы все понимаем, о чем идет речь. Но как рассказать, в чем суть каменности? Что имел в виду Мандельштам, когда написал «Легче камень поднять, чем имя твое повторить»? Все вещи были когда-то одной вещью. Все факты были одним фактом. Но это было не интересно. Поэтому мы наблюдаем иллюзию бесконечного многообразия вещей и фактов. Это интересно. Но это иллюзия. Рассказывая об одном, мы почти всегда рассказываем о чем-то другом. Причина этого в том, что все вещи и факты на уровне бессознательного являются чем-то одним и всё равно всему [Matte Blanko, 1979].
Цель этого состоит в том, чтобы рассказать о том, о чем хочешь умолчать.
Я пришел к тебе с приветом,
Рассказать, что солнце встало,
Что оно горячим светом
По листам затрепетало;
Рассказать, что лес проснулся,
Весь проснулся, веткой каждой,
Каждой птицей встрепенулся
И весенней полон жаждой…
А. Фет. Я пришел к тебе с приветом…
О чем он здесь ей рассказывает? Конечно, о своей любви к ней. А почему бы просто не сказать: «Я тебя люблю. Пойдем, поужинаем вместе». Ну, хорошо, а дальше что? Секс, ЗАГС, коммунальная квартира, пеленки. А так – «рассказать, что солнце встало» – красиво и никаких пеленок! Зачем мы вообще друг другу что-то рассказываем? «Ты знаешь, я сегодня встретил Колю Н. Он совсем не изменился». Ну и что дальше? (O. Фрейденберг писала: «Говорить – значит жить».) Он мог бы рассказать и такую версию: «Ты знаешь. Я сегодня видел Колю Н. Он страшно постарел!» В принципе, что именно рассказывать про Колю, которого он, может быть, и вообще не видел, совершенно все равно. «Расскажи мне что-нибудь интересное!» Пожалуйста. «Ты знаешь, сегодня встретил Колю – он стал гомосексуалистом!» Цель всех трех нарраций про Колю – убедить ее: «Я лучше Коли», «Он тебя больше не любит», «Я люблю тебя больше всех». Что такое вообще смерть? Что лучше: потерять смысл жизни и выжить или умереть, но при этом сохранить смысл жизни?
В принципе, все равно, о чем писать книгу. Любая книга – это новая модель реальности.
Тогда зачем ты пишешь? Именно для того, чтобы сказать об этом. Ну, вот ты сказал, можешь дальше не писать. Не буду. Врешь, будешь. Вру, буду. Чем отличается хорошая книга от плохой? Ничем. На месте Фрейденберг я бы сказал: писать – это жить. Пора подводить итоги. Любовь сильнее смерти? Да. Потому что любовь в себя включает смерть. А смерть не включает в себя любовь. Нет, это не верно. Любое слово включает в себя любое слово. Например, смерть (самоубийство) на почве несчастной любви. Тогда почему же любовь сильнее смерти? Ну, если следовать принципу, что «все равно всему», неукоснительно, то вообще можно просто повторять одно и то же. Но мы придумали различные языковые игры. Мы придумали себе реальность. Или это кто-то нам придумал реальность, чтобы и нам и ему не было скучно. Любовь сильнее смерти в том смысле, что у этого понятия больше экстенсионал. Можно любить смерть, но нельзя убивать любовь. О любви вообще не принято говорить. О смерти – пожалуйста. «А Иван Петрович жив? Нет, Иван Петрович умер. А в каком году умерла Софья Львовна?» Нормальные разговоры! «А Софья Львовна любила Ивана Петровича?»* Здесь надо поставить звездочку – так не говорят. Потому что это никого не касается. Но ведь все равно, о чем говорить! Но язык наш этому сопротивляется. Нельзя сказать: «Иван Петрович умер Софью Львовну». Это какой-то Хармс! А что, Хармс – плохой поэт? А это все равно – плохой поэт, хороший поэт… Мы уже говорили об этом. Тогда и традиционная онтология, утверждающая, что вещи существуют сами по себе помимо нашего сознания, тоже по-своему права. Ну, тогда и Гитлер тоже по-своему был прав. Вот и получается «бесконечный тупик» – ничего не докажешь!
Человек не может существовать только во внешней реальности или только во внутренней реальности. Если он существует только во внешней реальности, он превращается в бездушное животное или в автомат и сам не ведает, что творит, как Акакий Акакиевич, который мог только переписывать бумаги (поэтому ему и нужна была внутренняя реальность – шинель). Пребывание во внешней реальности – это пребывание во тьме внешней. Человеку нужен дом, где бы он мог укрыться от всего внешнего, внутренний дом, например, сон или утроба. Яма, шалаш, катакомбы. Но человек не может существовать и только во внутренней реальности своей психики, когда он спит или одухотворен, или вдохновлен, влюблен. Человеку необходим переход из внутренней реальности во внешнюю и наоборот. Этот переход осуществляется посредством наррации. Позволю себе пример из собственной жизни. Я приехал в Париж на конференцию, проснулся утром в маленьком нелепом гостиничном номере в ужасном расположении духа: «Зачем я сюда приехал!» Тогда я раздвинул шторы и увидел Париж – настоящий Париж. Город своими домами и окнами моментально рассказал мне о себе, перевел меня в свою внешнюю реальность. Рассмотрим наш обычный пример. Я иду по улице. Я иду по внешней реальности, одновременно находясь во внутренней реальности своей психики, своих размышлений и фантазий. Но я же иду по улице, по какой-то конкретной улице. Улица как представитель внешней реальности, обеспечивает мою внутреннюю реальность. Каким же образом это происходит? Улица рассказывает мне о себе. Я не могу идти по улице с закрытыми глазами. Внешняя реальность своим рассказом поддерживает мою внутреннюю реальность. Или я пишу книгу, как сейчас. Я могу долго размышлять о ней, слушать музыку, разговаривать с кем-то о погоде. Но настанет момент, когда я должен буду все свои внутренние впечатления перевести во внешнюю реальность. Я должен написать книгу на бумаге или набрать ее на компьютере. Так происходит переход из внутренней реальности во внешнюю. Я не могу всегда спать или грезить. Что-то должно разбудить меня, какая-то наррация извне. А что это за наррация? Это может быть будильник, солнечный луч, голос из-за двери. Какая разница! Что-то должно меня разбудить. Где я? Я в своей квартире, которая является внутренней реальностью по отношению к остальному миру и внешней реальностью по отношению к реальности моей психики. Как я вошел в квартиру? Я отпер дверь ключом. Ключ рассказал замку, как открыть дверь. Или я позвонил. Но мне никто не ответил. Дома никогда не было. Реальность говорит не словами и предложениями. Река не говорит: «Я теку». Она просто течет. Но самим этим процессом своего течения она говорит «Я теку». Но река не говорит «Истинно, что я теку». Она говорит скорее «Смотрите, как я теку» или даже «Смотрите, как я медленно теку» или «Как я быстро теку». Река сообщает о своем смысле, а не о своем денотате. Потому что самой реки может и не быть в смысле традиционной онтологии. «Смотри, вон река течет» может означать «Представь: вон река течет», а самой реки может и не быть. Вспомним эпизод из фильма Куросавы «Под стук трамвайных колес», где отец и сын строят в воображении дворец или замок. Вопрос о существовании или несуществовании реальности это неправильно поставленный вопрос. Что такое реальность? Какая реальность? Река – это реальность? А то, что изображено на картине Р. Маг рит та – это не реальность? А тело без органов – это не реальность? А круглый квадрат? Да всё реальность! Вопрос в другом. Зачем нам нужна реальность? Зачем нам нужна внешняя реальность? И не является ли внешняя реальность лишь проекцией внутренней реальности? Или нет, скорее, не проекцией, а проективной идентификацией. Младенец видит то, что мы за него называем грудью. Она реальна, когда кормит, и нереальна, когда не кормит. Ребенок не мог бы существовать без материнской груди. Реальность имеет не просто нарративную природу, но диалогическую, агональную природу. Всегда есть не только тот, кто говорит, но и тот, кто слушает и готов отвечать (в этом суть расширенного понимания проективной идентификации, данного нами в книге) [Руднев, 2012]. Эта агональная природа реальности, понимаемая как бесконечный диалог жизни со смертью [Фрейденберг, 1937], имеет ключевой характер для нарративной онтологии. Монологическая, или молчаливая, реальность – это реальность традиционной онтологии. Дерево растет, река течет, камень лежит. Почему такая реальность невозможна? Да когда некому сказать, что дерево растет, река течет, а камень лежит, то их и нет вовсе. Еще один бессмысленный вопрос, который отчасти решили Мах и Авенариус – что первично: материя или сознание? Ничего не первично и не вторично. Все связано отношением принципиальной координации или, что почти то же самое, проективной идентификации. Если мы не знаем слов «дерево», «река», «камень», и глаголов «расти», «течь» и «лежать», как мы можем тогда усмотреть в них реальность, и как их реальность сможет усмотреть нас? Мы тогда сможем только пробормотать нечто вроде: «Вон там что-то такое, неизвестно что, и с этим что-то происходит». И как мы тогда различим дерево, реку и камень, с одной стороны, и расти, течь и лежать – с другой? При этом нам хочется, чтобы все было ясно и стабильно: чтобы дерево росло, река текла, а камень лежал. Но что будет, если дерево вдруг потечет, река встанет, а камень начнет расти? Это что-то произошло в реальности или у нас «крыша поехала»? Но так ставить вопрос нельзя. Если мудрец видит в гнедом жеребце пегую кобылу, значит, у него по-другому устроено сознание. Про этого китайского мудреца мы можем сказать, что он сквозь внешнюю реальность (гнедого жеребца) видит внутреннюю реальность (пегую кобылу), то есть он находится в отношении проективной идентификации с внутренней реальностью, а не с внешней реальностью. Мы же не говорим, что картины Магритта, где внешняя реальность перепутана с внутренней, это бред сумасшедшего. Просто, значит, эти проблемы его волновали. Когда человеку, ориентированному материалистически, показали «Черный квадрат» K. Малевича и спросили, что он здесь видит, он сказал: «Что ж, это чернозем». А другой человек, с другим складом сознания, увидит «Московский дворик» В. Поленова, как систему магических символов и фигур. Внутренняя реальность анарративна. Она в чем-то похожа на бессознательное. В ней нет времени, нет имен и нет вещей, даже вещей-в-себе. Зачем нужна внутренняя реальность и как можно себе представить анар ративность? Как одновременность чего-то, что может быть развернуто в последовательность. Для чего же нужна внутренняя реальность, если ее вообще можно назвать в каком-то смысле реальностью? В ней зреет внешняя реальность, как плод зреет в утробе матери. Внутренняя реальность подобна мифу или, скорее, прамифу. В мифе собрана и нейтрализована возможность всего. Миф есть путь из внутренней реальности во внешнюю реальность. В мифе уже есть некоторое поступательное движение изнутри вовне, но оно все время оборачивается вспять. Поэтому смерть там чревата рождением, а рождение смертью. Почему, минуя миф, невозможно выйти из внутренней реальности во внешнюю? Это так же невозможно, как если бы из плода матери вышел сразу взрослый человек. Ему надо пройти большое количество стадий развития, большинство из которых носит мифологический характер. Про внутреннюю реальность нельзя сказать, что там смерть равна жизни, потому что там пребывают лишь непоименованные возможности. Что должно произойти, чтобы нечто внутреннее появилось как названное или поименованное? И для чего появляться этому поименованному, из которого родится внешняя реальность? Представим себе такую ситуацию. Некто или нечто, например, будущее Я, мой зародыш, оказывается в неко торой темноте, слепоте, глухоте, беззвучьи. Ему надо вырваться оттуда. Неизвестно, почему ему надо вырваться оттуда, но это так. Первое, что это будущее Я может почувствовать, это ритм своего дыхания – это протожизнь и протосмерть борются в нем, то есть внешняя и внутренняя реальности, которые в определенном смысле бездыханны). Когда эти вдох и выдох протожизни и протосмерти «опознаются» как первая, главная и в определенном смысле единственная оппозиция (все оппозиции сводятся к оппозиции жизни и смерти, см. об этом статью «Игра со смертью» [Руднев, 2011]), это становится началом мифа. Оппозиция жизни и смерти все время сворачивается и разворачивается до тех пор, пока не происходит прорыв, первый прорыв во внешнюю реальность. Как выглядит эта первоначальная внешняя реальность? Это поле борьбы жизни (дальнейшего движения во внешнюю реальность) и смерти (возвращения назад во внутреннюю реальность). Когда эта борьба стадиально исчерпывает себя, то появляется слово. Слово – имя ограничивает возможность мифа, поскольку слово – это окончательный прорыв во внешнюю реальность. В жизнь. Постепенно реальность загружается все бóльшим количеством оппозиций, пока не сформируется реальность взрослого человека. Оппозиции формируют речевые жанры и языковые игры. Но при этом каждый жанр и каждая игра в своей основе есть фундаментальная борьба жизни и смерти, стремление побороть внутреннюю реальность, представителем которой выступает миф, продолжающий пронизывать внешнюю реальность, стремление, если угодно, пройти всю внешнюю реальность, доступную человеку, и вернуться в посмертие новой внутренней реальности, в ее ахронность и безымянность. И так продолжается без конца. Буддисты называют это «колесо сансары». «Мы рождаемся и умираем каждую минуту».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?