Текст книги "Свинцовый дирижабль «Иерихон 86-89»"
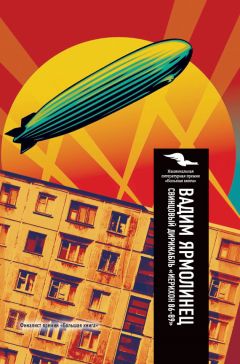
Автор книги: Вадим Ярмолинец
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Глава 5
По дороге в редакцию, а затем домой меня не покидало ощущение, что за мной следят. Это, видимо, было нормальной реакцией на встречу с комитетчиком. Отрезав кусок хлеба и намазав его вареньем, я устроился с книгой на диване – это был роскошный детектив «День шакала» Фредерика Форсайта, подаренный мне одним моряком, у которого я брал интервью. Книжка была о том, как один наемный убийца должен был кокнуть Де Голля. Но я был так возбужден, что не мог сосредоточиться. Бросив книгу, я поставил первую пластинку из пачки на подоконнике. Это был альбом Fleetwood Mac – Rumors. Но музыка раздражала. Мне показалось, что Стиви Никс просто воет, а не поет. Стой эта наркоманюга передо мной, я бы, пожалуй, треснул ее чем-то по башке. Типа подушки. Когда она с коллективом завела Go your own way, мне показалось, что через меня пропускают ток. Из кончиков ушей даже посыпались зелено-голубые искры. Последним, героическим усилием я остановил вертушку и выключил усилитель. Наступила спасительная тишина.
Хорошо, конечно, было бы владеть техникой медитации, чтобы отвлечься от всего этого бреда, расслабиться, как это, наверное, делал Кононов. Интересно, от чего он отвлекался? Что его беспокоило? Впрочем, судя по всему, медитация ему не помогла. Я сбросил туфли, уселся на диване в позу лотос, закрыл глаза и за незнанием буддистских мантр сделал глубокий вдох-выдох и прочел «Отче наш» раз десять. Потом, устроившись поудобней, задремал. Дух мой выбрался из меня и встал на посту у изножья, наблюдая за спящим. Когда проснулся, на часах была половина десятого вечера. Я умылся и вышел из дому. Пройдя до Комсомольской, сел на пятнадцатый трамвай. В вагоне, залитом мутноватым серо-желтым светом, было всего два пассажира. У переборки, отделявшей кабину водителя от салона, дергалась из стороны в сторону старуха с кошелкой. У окна дремал мужик, прижав к черному стеклу скособоченную кепку, со спрятанным под ней радаром для чтения преступных мыслей на расстоянии. Я остался на задней площадке. На следующей остановке я придержал дверь ногой и, когда трамвай тронулся и начал набирать скорость, соскочил на мостовую. Мостовая побежала-побежала назад, и я ее еле догнал, замахав на прощание кепке с радаром. Оглянулся. Франца Меринга была пустынна. У подъездов горели одинокие лампочки. На потолках квартир мотались телевизионные тени.
На Дерибасовской еще было многолюдно и светло от огромных витрин. Я нырнул в пропитанный запахом подгнивающих овощей мрак Гаваны и, миновав пустынную Ласточкина, прошел узким проходом под аркой в Палерояль. В его центре обнаженные Амур и Психея обнимались под серовато-голубым светом луны и звезд. Занимались, можно сказать, эротикой. А в безлунные ночи, возможно, даже и сексом. Надо было бы поинтересоваться у соседей, не крутят ли у них тут во дворе Донну Саммер. Или Тину Тернер. И потом пропесочить как эксгибиционистов. Оставив справа черную громаду Оперного, спустился по ступеням в переулок Чайковского. Задержавшись в глубокой тени деревьев, снова осмотрелся. Никого. Перелетев через мостовую, нырнул в спасительный мрак подъезда и, пробив его, свернул налево. Высокое окно, выходившее во двор, было освещено теплым желтым светом торшера. Привстав на цыпочки, я постучал костяшками пальцев по краю карниза. Наташино лицо появилось за стеклом, и она приветственно махнула рукой.
– Хочешь чаю? – спросила она, пропуская меня в квартиру.
– Очень. – Я устроился на диване, а она ушла на кухню.
Оттуда доносилось позвякивание посуды, шумела, ударяясь в отлив, вода, потом я услышал, как ее мать, Надежда Григорьевна, сказала со вздохом:
– Хороший парень, чего ты ищешь?
– Мама, – очень тихо попросила Наташа.
– Все чего-то ищут, – продолжила моя добровольная союзница, как бы ни к кому не обращаясь. – Если счастье, так только за горами.
Наташа вернулась с чашкой.
– Слушай, у меня тут такое случилось, – сказал я, принимая чай. – Даже не знаю, с чего начать.
– Влюбился?
– Ну, это допустим уже и не новость. Тут другая история… При этом с таким простым сюжетом, что как бы ты не подумала, что я чего-то недоговариваю.
Слова Коли о том, что подумают люди, завидев меня на Бебеля, вошли в меня как отрава. Действительно, человек, так или иначе связанный с комитетом, становился опасным, даже если его связь была невольной, вынужденной. Кто знал, о чем он говорил со своими попечителями за закрытыми дверьми? Доносил на кого-то, спасая себя, или благородно молчал и отнекивался, что грозило ему самому большими неприятностями, вплоть до потери свободы?
– Ты начни, а если у меня возникнут вопросы, я тебе скажу, ладно?
Я рассказал ей о своей встрече с комитетчиком. Действительно, сюжет оказался короче некуда.
– Тебя губит твоя добросовестность, – сказала она, улыбаясь, и, как всегда, в ее улыбке была тень то ли вины, то ли сожаления. – Ты относишься к этому делу так, как будто это твой долг – выяснять связи этого человека. Это не твой долг. Когда этот Майоров назначит тебе следующую встречу, скажи, что ты поговорил со своим Мишей, что ты поговорил с дворником и выяснил, что никто и ничего о нем знает. Ничего такого, из чего можно было бы сделать статью. И всё. Ты же помнишь, как у Солженицына – не играть с ними в кошки-мышки, не давать им конец ниточки, за который они потянут и раскрутят весь клубок. Да и клубка тут никакого нет. Он читал какую-то литературу. Все что-то читают. Все рассказывают анекдоты. У него же не нашли дома подпольную типографию. Или, я не знаю, склад оружия! Если им не за что будет зацепиться, они от тебя отстанут. На нет суда нет. Или ты хочешь, чтобы они помогли тебе устроиться в «Известия»?
– Нет, конечно же я не хочу, чтобы в «Известия» помогли мне устроиться они. Но вот ты сама говоришь, что надо хотя бы для приличия показаться этому дворнику.
– Покажись для приличия и продолжай делать то, что ты делал всегда. И не бойся их. Сейчас не тридцать седьмой год. Посмотри, что происходит в стране. Их самих не сегодня-завтра разгонят.
– А если это инициативный дворник? Что, если он уже десять раз ходил с жалобами на этого Кононова к начальнику ЖЭКа, а тот от него только отмахивался? И вот все его жалобы оказались обоснованными, и в довершение всего появился сотрудник газеты. Тут-то он выложит столько, что хоть книгу пиши. Что тогда?
Помолчав, она сказала:
– Ну, хорошо, пусть это будет инициативный дворник. Но подумай, что он может сказать при всей своей инициативности? Что этот Кононов вербовал его в буддисты? Обещал познакомить с Махатмой Ганди?
От этого Махатмы Ганди мы стали хохотать как сумасшедшие. Страх, напряжение – все прошло. Мне так захотелось обнять ее и прижать к себе, что в штанах у меня начался микроприступ гипертонии. Я сел поудобней.
– Что ты хочешь от меня услышать? – наконец сказала она. – Чтобы я порекомендовала тебе бросить работу в газете? Но ты же любишь ее, правильно?
– Слушай, я всегда знал, что есть неприятные задания, но для них есть псевдонимы. Я знал, что раз в году надо отписать муру про отчеты и выборы. Но тут выходит, что ничего другого и не надо. Что все, что я пишу, или почти все – это… не журналистика. Конторский официоз, полуправдивые очерки и теперь еще это развед-донесение.
Она вздохнула:
– Это не так. Ты делаешь прекрасные очерки, у тебя есть другие замечательные материалы. Не бывает работы без каких-то неприятных обязательств. Я тебе советую, Митя, не гони картину. Сейчас все уперлось в этого дворника. Встреться с ним, а потом увидишь, что делать дальше. Ну, подумай, что он тебе может рассказать? Ну, напился, ну привел к себе кого-то, мешал соседям, ну, что еще? Наша газета про пьяниц и дебоширов не пишет.
Она зевнула, похлопала ладошкой по губам. В комнате у мамы телевизор бодро сообщил, что в Москве двадцать шесть академиков подали в отставку, освободив место свежим кадрам. Процесс перестройки шел полным ходом.
– Ты права, наверное, – сказал я. – Я всегда начинаю волноваться заранее, хотя причин для этого, может быть, и нет. И всегда к тебе прихожу со своими проблемами. Расскажи лучше, как ты поживаешь?
Она отпила чай из моей чашки, пожала плечами:
– Как всегда. Ничего особенного. Нет, знаешь, вот вчера я смотрела по телику какой-то фильм, не помню уже, как называется, и вот там влюбленные после долгой разлуки встретились. И, как полагается, обнялись. И стали целоваться.
– Невероятно!
– Не перебивай. И вот, когда я смотрела на них, у меня вдруг сердце захолонуло. Мне на минуту, но очень отчетливо, так что я физически это ощутила, показалось, что они могут задохнуться. В этом было что-то очень символическое – любовь лишала их способности дышать, жить, ты понимаешь?
– Поэтому мы целоваться не будем.
– Конечно не будем! Я же тебе толкую – это опасно для жизни! Мы так сидим хорошо, говорим, понимаем друг друга. Стоит начать, и все это умрет. Я же вижу, как это происходит у наших друзей. Они женятся, а через год из их отношений уходит все то, что мы так ценим в наших. И эти разговоры, и эта постоянная тяга друг к другу. А потом проходит еще два-три года, и они разводятся. Мы должны сохранить все как есть. И нам этого хватит на всю жизнь, ты понимаешь меня?
– Ты с доктором не консультировалась?
Я взял ее руку с очень изящной кистью и длинными пальцами и приник к ней губами, а она стала гладить свободной рукой мой затылок.
– По какому вопросу мне надо с ним консультироваться?
– По вопросу мазохистских наклонностей.
Она отняла руку.
– Ну, где ты такое слово выучил, Митя?! Иди домой!
Глава 6
Я возвращался к себе по самым освещенным местам ночных улиц. Я бросал вызов скрывавшимся в тени шпионом с рациями и парабеллумами. Я их всех имел в виду крупным планом. Действительно, что я мог принести этому Ивану Ивановичу Майорову? Этому серому клещу? Высказывания Мишиной жены о том, что их сосед – дегенерат? Что мог рассказать мне дворник? Что гнусный буддист оставлял после мытья лужи у дворовой колонки? Нет, все не так плохо, как сначала казалось. Наташа права. Всё, что надо, это не рваться в бой, не рыть землю без надобности, не проявлять ту самую идиотскую инициативу, благодаря которой мне доверили важное идеологическое задание. И уходить от контакта с ними тоже не надо, чтобы не обозлять понапрасну. Они и отстанут. Действительно, не тридцать седьмой год на дворе.
Дома я достал из холодильника початую бутылку алиготе, наполнил стакан и вернулся в комнату. Было около полуночи, но спать не хотелось. Из приоткрытой балконной двери тянуло острой ночной прохладой, и от движения воздуха занавес покачивало. Как будто кто-то стоял за ним. Я подошел к балкону, откинул пыльную на ощупь ткань и высунул голову наружу. В черном колодце двора свет горел только в нескольких окнах. Прикрыв балконную дверь, я задернул занавес и прошел к подоконнику, где у меня стояли аппаратура и пачка дисков. Отпив с полстакана, я стал перебирать их. Некоторые я не слушал уже несколько лет, но, когда брал их в руки, мог ощутить то же, что и тогда, когда они впервые попали ко мне. Я тогда учился в десятом классе. В параллельном классе училась девочка Ира, чей папаша работал на таможне. Тогда я не связывал его место работы с ее коллекцией дисков. Позже до меня дошло, что он их попросту отбирал у наших моряков загранплавания, после чего они оказывались у него дома. Как сказал Жванецкий: «Что охраняем, то имеем». Благодаря тому, что доставались они ей даром, Ира не видела в них особой ценности и легко давала переписывать. В этом был занятный парадокс: перед ее папашей стояла задача – не дать прохода буржуазной культуре, но в действительности он активно распространял ее через дочь.
Один раз она мне дала сразу штук десять дисков. Среди них были Led Zeppelin III, Deep Purple – Fireball и Rolling Stones – Sticky Fingers. Она, не таясь, передала их мне в школьном коридоре, а я, пугливо оглядываясь, стал засовывать их в портфель, оказавшийся недостаточно вместительным для такой ноши. Потом, так же пугливо оглядываясь, я потрусил домой, держа так и не закрывшийся портфель под мышкой. Какие-нибудь хулиганы могли отобрать их. Город просто кишел ими. Я двигался короткими перебежками от одного добропорядочного на вид гражданина до другого, вжимая голову и ощущая спиной раскаленное дыхание незримых преследователей.
Первым я поставил «Зеппелин». Сначала раздались пять или шесть повторившихся через равные промежутки времени щелчков, какой-то, может быть, студийный отсчет, после которого ритм гитар и ударных просто оглушил меня, и над этим ритмом Плант завыл, что твоя нечистая сила:
– А-ага-га-а-а-а-а-а!
У каждого альбома была своя ценность помимо музыкальной. В перпловском Fireball это был звук уехавшей вниз кабины лифта. Звук заработавших моторов был таким же захватывающим, как и скорость, с которой Ян Пейс стучал по барабанам и тарелкам. А чего стоила обложка Sticky Fingers! В сфотографированные на нее «Левиса» была вставлена самая настоящая змейка! Расстегнув ее, можно было отогнуть край обложки, за которым оказывалась новая фотография – белых трусов. За ними был черно-белый вкладыш, на котором пятеро роллингов стояли у какой-то обшарпанной стены. На Джагере и Ричардсе были какие-то пестрые брючки. Самым аккуратным выглядел их новый гитарист Мик Тэйлор, сменивший утонувшего наркома Брайана Джонса. Казалось, что аккуратные джинсы и куртка были прямым указанием на то, что он новичок, который еще не позволял себе, как сказала бы моя мама, распоясываться. Каким он, должно быть, чувствовал себя счастливчиком! А как он играл! Ричардс брал свои размазанные, рваные аккорды, а Тэйлор солировал, вел тему. Но вдвоем они были совершенно бесподобны! Только Ричардс мог так по-роллинговски начать Sway – вам-вам-вам-ва-у-у! Но как бесподобно звучала гитара Тэйлора в Can’t you here me knocking. А как их гитары перекликались в Syster Morphine! Ричард рвал струны на акустической, а Тэйлор вставлял сперва короткие, протяжные ноты, а потом вел соло, и звук у него был тяжелым и гибким.
Я менял пластинки, ставил одну и ту же дорожку по нескольку раз, был в совершенном умопомрачении. Когда родители ушли спать, я продолжал слушать тихо-тихо, едва слышно.
На следующий день, когда Ира увидела меня в коридоре, она в точности повторила вопль Планта:
– Ага-га-а-а-а-а!
От испуга сердце у меня замерло – в школе так орать не полагалось.
– Ну, понравилось? – спросила она, когда мы оказались рядом.
Встречаясь на переменах, я торопился к ней и, захлебываясь от восторга и благодарности, рассказывал, как хотел бы еще знать, о чем они поют.
– А у меня есть их тексты.
– Откуда?!
– А у меня есть один чешский журнал, и там есть текст «Песни иммигрантов» и еще какой-то.
На следующий день, замирая от восторга, я читал слова, которые пел Плант:
We come from the land of the ice and snow,
From the midnight sun, where the hot springs blow.
The hammer of the gods will drive our ships to new lands,
To fight the horde, singing and crying:
Valhalla, I am coming!
– А что такое Валхалла? – спрашивал я всех, кого мог.
Ответ дала учительница английского Валерия Анатольевна:
– Это – место, где жил главный бог древних норвегов – Один. Или Одэн. Кстати, в его честь названа среда – Wednesday. В старых текстах его звали Wodan. А название дня звучало как Wodan’s Day.
Валерии Анатольевне было лет двадцать пять. Она закручивала светлые волосы в тугой узел с хвостиком на затылке и носила короткое кримпленовое платье с цветочным рисунком и туфли на платформе. Улыбаясь, она слушала мои восторги по поводу Зеппелина.
– Ты видишь, у тебя появился еще один стимул учить английский! – сказала она. – Хочешь, я тебе принесу битловские тексты?
– Нет, я лучше еще пару цепеллиновских попробую разобрать, а потом принесу вам на проверку, ладно?
– Если бы я их сама слышала, мне было бы легче тебе помочь.
– Так я вам запишу!
Когда она принесла мне чистую бобину пленки, у меня было ощущение, что мы стали сообщниками.
Диски мне были переданы на несколько дней. После выходных с таким же ужасом, спазмами в животе, на пустых ногах я принес их в школу, но Ира не пришла. Пытка транспортировки этого сокровища продолжилась. Я разозлился на нее за такую необязательность. Сказала приду – приходи, хоть не знаю что! Но она не появилась до выходных и после них тоже. Просто исчезла. От ее классного я узнал, что она заболела. Прошла зима, ее все не было. Я привык к тому, что диски теперь все время лежат на радиоле. Они стали почти моими. В самом начале марта – я помню за окном кружил редкий серый снежок – на большой перемене классный попросил всех встать. По его лицу мы поняли: что-то случилось. Я подумал, что врезал дуба кто-то из начальников. Родители часто посмеивались над их возрастом. Застучали крышки парт, мы стали подниматься. Когда все уже стояли, он вздохнул глубоко и сказал:
– Дети, я прошу вас минутой молчания почтить память нашей соученицы Иры. Она умерла.
Я не сразу понял, что речь идет о той самой Ире. Мне казалось совершенно невероятным, что может умереть моя сверстница. Умирать должны были люди, дожившие, ну, хотя бы лет до пятидесяти.
– А чего это она? – поинтересовался Миша Климовецкий.
– У нее была лейкемия, – ответил классный.
Еще одно слово пополнило мой словарный запас. Через несколько недель, узнав в учительской ее адрес, я поехал в поселок Таирова, чтобы вернуть диски ее родителям. Я нервничал. Побаивался вида людей, понесших такую утрату. Они скорбят, а тут я со своей липовой физиономией. Еще я побаивался, что они станут предъявлять мне претензии, почему я так задержал пластинки, когда она могла, например, послушать их перед смертью, или еще, чего доброго, начнут проверять, в каком состоянии я их возвращаю – обложки некоторых потерлись на сгибах.
Дверь открыл ее папаша. Тот самый таможенник. Он был в бежевых шортах и белой майке, крепко сколоченный, лысый. На моем лице было изображено горе, но он, казалось, был в хорошем настроении.
Я назвался. Он кивнул, чтобы я зашел. Прихожая была заставлена картонными коробками. Они как будто готовились к переезду. Я достал из сумки диски и подал ему. Он сел на ящик и, положив их на колени, стал рассматривать. Потом, постучав торцом пачки по коленям, выровнял ее и протянул обратно мне:
– Оставь себе. Считай, что это подарок от Иры.
Я поблагодарил его, не зная, удобно ли спросить, где она похоронена. Я подумал, что он может подумать, что я хочу отнести цветы на могилу в благодарность за диски, и в его глазах это будет выглядеть карикатурно. А без дисков, скажем, спросил бы? Как вы поняли, я с детских лет был мнительным мальчиком. Хоть бери меня и пиши работу по детской психологии.
– Как тебя зовут?
– Митя.
– Постой здесь, Митя.
Он ушел в комнату. Что-то там двигал. Потом вернулся и вручил мне еще пачку дисков:
– На память. Помни о ней.
Я так и не спросил, где ее похоронили. На лестничной площадке я всунул часть дисков в сумку, а часть мне пришлось везти в руках. Всю дорогу до автобусной остановки, а потом в автобусе я со страхом посматривал по сторонам, панически боясь, что меня бомбанут. Я также панически боялся назвать себе сумму стоимости своего нового достояния. Наверное, тут было дисков на годовую отцовскую зарплату. Держа их между ног, я с трепетом угадывал в темно-коричневом торце двойник Jesus Christ Superstar. Домой я ввалился мокрый от пота, кровь тяжело била в висках. Мама, стоявшая у кухонной плиты, спросила:
– За тобой что, бандиты гнались?
Я часто пытался вспомнить эту Иру, но цельный ее образ ускользал от меня. У нее были длинные, вьющиеся крупными кольцами, блестящие черные волосы и очень веселые карие глаза. Я помнил ее заразительный смех и ту щедрость, с которой она всем делилась, как если бы знала, что ТУДА с собой ничего не унести. Но тогда, в девятом классе, я проявлял интерес не к ней, а к ее дискам. Теперь они служили своеобразным напоминанием о моей туповатой подростковой жадности. Если правда, что ничего просто так не случается, как мне объяснил недавно товарищ Майоров, то этот подарок наверняка должен был поспособствовать моему культурному развитию. Музыка, которая не признавалась властью, считалась второсортной и даже вредной, научила меня прислушиваться к тому, что не хвалили. Что я дал взамен этой Ире? Ничего. Может быть, и дал бы, да не успел.
В отличие от музыки многих других групп первые диски Зеппелина не старели. Ужасно помпезно стал звучать Uroah Heep, первые диски Deep Purple, казалось, ничего не связывало с их шедевром Machine Head, однообразно звучали Free и Bad Company, T-Rex, первые роллинги и битлы казались совсем допотопными. Да, были и на них по одной-две хорошие песни, но в целом эта музыка принадлежала другому времени. Старый зеппелиновский блюз не терял своей мощи и напряжения, хотя был записан хороших пятнадцать лет назад. Перешли бы они на какую-нибудь популярную муру, как Yes? Не знаю. Джон Бонэм избавил их от решения этого вопроса, отбросив по пьяному делу свои барабанные палочки.
Зеппелин был моей первой любовью, заменившей настоящую любовь. Я приходил со школы, когда родители еще не вернулись с работы. Темнело рано, я ставил свой любимую песню Since I’ve Been Loving You и всякий раз замирал, когда звучали первые ноты пейджевской гитары – та-Та-та-та-Та-а, за которыми вступал барабан – чак, чак-чак! Музыка наполняла меня как наркотик. Когда Плант пел: It kinda makes my life a drag, drag, drag и последнее слово срывалось у него на протяжный вопль, сердце у меня останавливалась. Я вспоминал Иру и думал, что, вероятно, мог бы любить ее, как любил свою подругу Плант. И если бы я успел полюбить ее до того, как она умерла, то теперь этот блюз передавал бы мое ощущение потери. Я очень грустил по поводу того, что жизнь моя сложилась так, что я не успел полюбить ее вовремя. Занятно, что слова этого блюза, расшифрованные позже с помощью Валерии Анатольевны, совершенно не согласовывались с ходом моих макабрических фантазий. Ни я, ни покойница на роли героев зеппелиновской трагедии не годились. В песне героиня изменяла герою, а того мучила сильная ревность. Чего в нашем случае не было даже рядом. Особенно Плант страдал, когда приходил к ней после работы и слышал, как хлопала дверь черного хода, через которую смывался ее другой любовник. Из этой трагедии я вычленил только одну пригодную для себя фразу – life is a drag. Сначала я думал, что речь идет о наркотиках, но Валерия Анатольевна объяснила, что слова life a drag означают, что у человека не жизнь, а какая-то мутная тягомотина. Точно в такую тягомотину превращалась и моя жизнь, как только я отходил от своего проигрывателя больше чем на три метра.
Спросите меня: разве в те годы не было нашей, русской музыки, которая трогала бы меня? Я помню трех соучениц в коричневых школьных формах у пианино, за которым сидит школьный педагог музыки.
Белый аист летит,
Над белёсым Полесьем летит,
Белорусский мотив
В песне вереска, в песне ракит.
Всё земля приняла
И заботу, и ласку, и пламя,
Полыхал над зёмлей
Небосвод, как багровое знамя.
Девушки выводят слова нежными голосами, поводя плечами согласно течению мелодии.
Молодость моя,
Белоруссия.
Песня партизан,
Сосны да туман.
Песня партизан,
Алая заря.
Молодость моя,
Белоруссия.
Я не могу сказать, что мне безразлична история моей страны, ее жертвы. Мой отец воевал, был командиром взвода гвардейских минометов – «катюш», и у него полная коробка медалей и знак «Гвардия», которым он особенно гордится. Но в моем сердце – длинноволосые викинги, рев гитар и победный вопль Планта: «Вальхалла, я иду к тебе!»
Со школы эта музыка, какой бы энергичной она ни была, стала ассоциироваться у меня с сумерками, холодом и одиночеством – это было неизбежным следствием того, что я узнал ее и наслаждался ей в одиночестве. Прочитав в те же годы «Над пропастью во ржи», я обнаружил, что это же состояние одиночества переживал Холден Колфилд в зимнем Нью-Йорке. Учительница географии Жанна Бенционовна вставила страницы напечатанной в «Иностранке» повести Сэллинджера в скоросшиватель и давала читать нам. Она потом исчезла, и по школе прошелестел шепоток, что Жанна свалила в Израиловку. Сейчас ту самодеятельную кампанию просвещения школьников мой новый знакомый клещ мог бы вполне квалифицировать как идеологическую диверсию. Поразительно, но при всем богатстве русской литературы, в шестнадцать лет я не мог бы назвать более близкого себе духовно литературного героя, чем этот американский паренек. Холден Колфилд был героем моего времени, а не Онегин и не Печорин. Какое я, сын техникумовского преподавателя физкультуры и домохозяйки, имел отношение к вековой давности переживаниям провинциальной аристократии? Какое отношение они имели ко мне? Мне нужно было время, много времени, прежде чем я оценил Пушкина и Лермонтова. Кажется, уже после университета я открыл томик стихов Лермонтова и прочел первое попавшееся:
«Выхожу один я на дорогу, / сквозь туман кремнистый путь блестит, / ночь, луна, пустыня внемлет Богу, / и звезда с звездою говорит».
Я помню, как у меня встали дыбом волосы на руках и по всему телу прошла волна дрожи, на глаза навернулись слезы. Я закрыл книгу. Не знаю, такие ли моменты называют моментами истины, но для меня это был именно такой момент – мне открылась истина: Бог есть, и между Ним и человеком существует связь. Эта связь не имела никакого отношения к аристократическому или простонародному происхождению, сплину пресыщенных отпрысков благородных семей, джинсам, Зеппелину, эта связь существовала надо всем этим. Это было мое открытие. В школе мне этого не объясняли.
Начав работать, я иногда покупал новые диски, но в основном менял, оставляя неприкосновенными только те, которые получил от Иры. С годами мне даже стало казаться, что память о ней, веселой девочке с густыми черными волосами и карими глазами, стала причиной моей тяги к брюнеткам. Может быть, я думал, что с ними смогу досмеяться и договорить обо всем, о чем не договорил с ней.
Отпивая вино, я перебирал диски: Uriah Heep – Very ‘eavy Very ‘umble, с покрытым паутиной лицом кричащего человека; Yes – Close to the Edge – с воздушным китайским рисунком залитых туманом гор на развороте; Genesis – Selling England by the Pound – со спящим на скамейке носатым типчиком; Jethro Tull – Aqualang с нищим, показывающим непристойный жест; Led Zeppelin III – с обложкой в отверстиях и вставленным в обложку колесом с рисунками, которые попеременно возникали в отверстиях при вращении; Deep Purple – Machine Head, где размытые, но все еще узнаваемые лица участников группы находились словно за поплывшим от жары стеклом, с выплавленным названием альбома. У меня в голове не укладывались имена деятелей и даты событий, которые мы проходили по истории или литературе, но я знал наизусть имена участников всех групп, на каких инструментах они играли.
В восьмидесятых музыка стала мягче, ритм – проще, звучание – слаще, ее стали называть попсой. Даже новый рок стал попсовым. Миша Климовецкий, с которым мы балдели от Deep Purple и Led Zeppelin, теперь чуть не плакал от шлягеров Scorpions. Мой политически неподкованный приятель даже не подозревал, что они проповедовали насилие и еще какую-то гадость, о чем у меня был соответствующий документ.
Нет, я не был безразличен к новой музыке. Впервые услышав Шадэ, я просто влюбился в нее. Наверное такими же голосами пели сирены, соблазнившие Одиссея и его товарищей. Когда я увидел ее снимок на обложке пластинки, она, черноволосая и кареглазая, ясное дело, показалась мне натуральной сиреной. Редкая дискотека тогда обходилась без ее хита Smooth Operator.
Наконец я достал из пакета диск Genesis и поставил его на вертушку.
Can you tell me where your country lies? – запел Питер Гейбриел.
The path is clear
Though no eyes can see
The course laid down long before
And so with gods and men
The sheep remain inside their pen,
Though many times they’ve seen the way to leave.
Я допил вино и лег. Текст неожиданно совпал с моим настроением. Овцы это мы. Текст Гейбриела показался мне обращенным прямо ко мне. Где была моя страна? Где была та страна, в которой я мог бы заниматься любимым делом, а не выполнять поручения идиотов, преследующих свои идиотские цели? В то время как пресса и телевидение только и трубили об обновлении общества, клещ из комитета поручил мне очернить покойника на том основании, что при жизни тот был буддистом. Чем этому козлу и его начальникам мог мешать этот безмолвно медитирующий отшельник? Я понимаю, он мог мешать своим соседям Климовецким, забывая тушить свет в сортире или просто занимая комнату, которой им так не хватало для полного счастья, но какие к нему претензии могли быть у комитета? Почему этот дикий принцип – кто не с нами, тот против нас – распространялся даже на того, кто никого и ничего не трогал, а просто жил в стороне? Пусть даже я мог отделаться от этого задания, но сколько таких же мерзких могло возникнуть на моем пути в настоящую, московскую прессу? Переход в центральные издания был мечтой многих моих коллег. Мой предшественник из отдела писем Витя Конев перешел на работу в журнал «Огонек». Известный фельетонист из «Вечерки» Сева Лапшин получил место в «Известиях». Все, представлявшие что-либо в профессиональном плане, рано или поздно покидали этот прославленный в песнях, анекдотах и двух веселых романах провинциальный город и перебирались в Москву, на самый худой конец – в Киев. Но что они для этого сделали? Хватило ли им одного их таланта или требовались дополнительные усилия? Точнее, покладистость. И проявили ли они ее?
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































