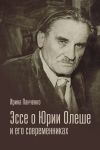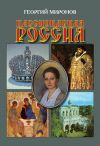Текст книги "Избранные статьи о литературе"

Автор книги: Валентин Бобрецов
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Рейс, кто вы?
(Евгений Германович Рубин)
Практически одновременно в московском издательстве «Русский путь» увидели свет сразу четыре (!) книги Евгения Рейса: «Радуга», «Кира Керн», «Кожевников, кто Вы?» и «Мой путь».
Из короткой биографической справки можно узнать, что автор этого «четверокнижия» «с начала 1998 года пишет статьи по-русски и по-английски для ежемесячника «Европейский вестник», выходящего в Лондоне. Ничего здесь необычного вроде бы нет. Коль скоро существует журнал, то, естественно, есть и авторы, для него пишущие.
Но иначе оценишь это, в первых же строках «автобиографических записок» Е. Рейса прочитав: «В канцелярии Владимирского собора в Киеве, матери городов русских, записано моё рождение 3 декабря 1906 года…» Ошеломляет не столько факт долголетия (ибо, как известно «Сед Полкан, да батькой не кличут»), сколько уникальность долголетия творческого. Как хотите, но девяностодевятилетний (пусть по легенде) Тициан с кистью в руке – пример куда более обнадёживающий и достойный подражания, нежели навеки восемнадцатилетний Чаттертон, простёртый на тахте.
В амплуа мемуариста, эссеиста и романиста (а таков жанровый диапазон поименованных выше книг) Евгений Рейс русскому читателю, в сущности, незнаком. А что более сорока лет (1950–1992) он регулярно печатался в парижской «Русской мысли», почти «не считается», ибо на территории СССР газета эта широкого хождения, мягко говоря, не имела. На Западе же Е. Рейс обрёл известность ещё в 1930-е годы, однако не в качестве литератора, но как «стильный» фотохудожник.
Впрочем, эта творческая ипостась нашего автора отечественному читателю-зрителю уже слегка приоткрылась. На обложке журнала «Новый мир искусства» (№ 4 за 1999 год) воспроизведён фрагмент давней (1937) «сюрреалистической композиции» Е. Рейса, отмеченной в своё время самим Андре Бретоном. В этом же номере журнала помещена прекрасно иллюстрированная, обширная и хотя не вполне свободная от мелких фактических неточностей, но как бы стратегически абсолютно верная статья искусствоведа Н. Воиновой о работе маэстро на ниве фото– и изобразительного искусства.
Где он, кстати, выступал не под литературным псевдонимом Е. Рейс (очевидно, от немецкого die Reise – путешествие, рейс), но под настоящей своей фамилией Рубин.
Все четыре книги Е. Рейса, включая роман «Кира Керн», откровенно автобиографичны и посвящены последовательно трём периодам жизни автора – в России («Радуга»), в Германии («Кира Керн») и во Франции («Кожевников, кто Вы?»). Сборник «Мой путь» на восемьдесят процентов состоит из эссе, в иной редакции повторяющих наиболее любопытные «мемориальные сюжеты» из первых трёх книг.
Впечатляет перечень знаменитостей, с которыми Е. Рейсу с той или иной степенью близости – от случайной встречи в сомнительном берлинском «локале» до долголетней дружбы – доводилось сталкиваться. Это Грета Гарбо и Н. Н. Ипатьев (да-да, бывший хозяин недоброй памяти «ипатьевского дома»), Феликс Юсупов и Вертинский, Марлен Дитрих и Станиславский, Н. Гончарова и М. Ларионов, Леонид Собинов и воспетая имажинистом Вадимом Шершеневичем Люся Кусикова.
Прибавим к этому наблюдательность мемуариста, его редкую как бы фотографическую память, композиционное чутьё и талант рассказчика.
Личность и судьба Е. Рейса весьма экстраординарны. Он родился в Киеве в состоятельной семье чиновника Австро-Венгерского консульства. Вскоре семья переехала в Москву. Воспитание Е. Рейс получил, по его собственному признанию, «чисто космополитическое»: «Моя гувернантка-немка не знала ни слова по-русски, в глазах родителей это было достоинством». И далее: «Мне рано стали доставлять удовольствие атмосфера элегантного ресторана, метрдотель во фраке и улыбки парадных дам». Родители, подвизающиеся на любительской сцене, приобщают отрока к театру и «синематографу».
Идиллия закончилась катастрофой 1914 года. В связи с объявлением войны отец Е. Рейса, как подданный Австро-Венгрии, сперва был арестован, а затем выслан на жительство в провинциальный Камышлов под Екатеринбургом.
Можно себе представить мучительную раздвоенность в душе его восьмилетнего сына, полуроссиянина-полуавстрийца.
Впрочем, выбор был сделан почти сразу и окончательно: «В тот момент я впервые понял, что отец и я были иностранцами в чужой стране. Сознание этого никогда больше меня не покидало».
Детская обида на «несправедливость русского правительства» становится лейтмотивом книги. (Разумеется, едва ли правительства Германии или Австро-Венгрии были менее «несправедливы» к оказавшимся на их территории подданным врага – Российской империи. Безусловное «добро» было дано лишь насельникам небезызвестного «пломбированного вагона» – да и то лишь на транзитный проезд через свою территорию. Но этой запоздалой, от 2000 года «объективной» сентенцией ничего не изменишь в мыслях и чувствах юного Е. Рейса в 1914 году…) И неслучайно поэтому, что самые патетичные строки «Радуги» посвящены кончине… императора Франца-Иосифа II. Что для русского читателя, воспитанного на гашековском Швейке, звучит несколько неожиданно.
Лишь осенью 1918 года семья Е. Рейса возвращается в Москву, где отец мемуариста в своих театральных начинаниях заручается поддержкой Луначарского. В годы нэпа благосостояние семьи едва ли не достигает, говоря языком официальной статистики, «довоенного уровня». Среди отцовских друзей Константин Коровин, который пишет портрет матери Е. Рейса, и преуспевающий беллетрист Пантелеймон Романов. Весьма характерна следующая фраза автора «Радуги»: «Свободное время отец посвящал покупке картин, персидских ковров и некоторых художественных изделий». А сам Е. Рейс, только что закончивший советскую школу, берет уроки верховой езды и бокса, посещает самые модные театральные премьеры, а с великовозрастными друзьями из нэпманских семейств нередко захаживает и туда, где «после осетрины нам подают рябчики в сметане и мы пьём французское шампанское». (Прочитав такое, невольно вспомнишь известную частушку Маяковского «про буржуя»).
В 1926–1927 годах, вплоть до отъезда из СССР, Е. Рейс работает «стажёром в канцелярии оперной студии, руководимой К. Станиславским», превосходный словесный портрет которого дан в «Радуге».
Совсем не случайно для самоаттестации Е. Рейс выбрал слова автора «Эмалей и камей» Теофиля Готье о тех, для кого «только видимый мир существует». Сильная сторона его воспоминаний – в своеобразном их акмеизме, мастерстве внешних портретно-интерьерных описаний с нюансированной игрой света и цвета (сказывается опыт фотохудожника европейского ранга).
Смеем предположить, что некоторые повседневные «мелочи жизни» – анекдоты, остроты, подробности и детали быта (а «деталь – это всё», – утверждал известный литературный критик 1920-х годов) сохранятся только благодаря тому, что были зафиксированы Е. Рейсом.
Правда, там, где мемуарист, откровенно признающийся в нелюбви к политике и всякого рода «абстракциям», незаметно для себя самого превращается в политолога или историка, с ним далеко не всегда можно согласиться. Будь то вполне сюрреалистичное изложение событий Февральской революции либо вполне фантастическое предположение о том, что Григорий Распутин намеревался возвести на престол великого князя Николая Николаевича. Достаточно вольно мемуарист обращается и с общепринятой хронологией. Так, Марко Поло у него возвращается в Италию в начале XIV века, Тайная канцелярия в России существует при Павле I, а покушение на Ленина происходит в 1921 году… Впрочем, «автобиографические записки» и не претендуют на роль учебного пособия по курсу истории.
В целом, все четыре книги Е. Рейса удачно дополняют друг друга. Но если работу художественного редактора следует оценить весьма положительно («Радугу» приятно взять в руки, а «идея обложки» просто гениальна), то с позицией полного редакторского невмешательства (хотя подобное «невмешательство» по-своему и реализует авторское право на полную свободу слова) согласиться трудно.
Вполне понятно, что в одночасье четыре книги не напишешь. И по ряду косвенных признаков можно догадаться, что над «Радугой» автор работал много позже, нежели над прочими книгами. Однако для человека, который последние семьдесят лет родным языком пользуется от случая к случаю, но не как инструментом постоянного общения, трудности с «великим и могучим» растут не по дням, а по часам. Отсюда в «Радуге» (и только в ней) немалое количество синтаксических и лексических «неправильностей» из разряда тех, которые не оживляют суховатый «русский литературный», но достигают как бы противоположного эффекта. Вряд ли стоило оставлять в неприкосновенности фразы и выражения вроде «я иду каждый день в гимназию» или «утренний завтрак». Не является большим плюсом и полное отсутствие в «Радуге» справочного аппарата. Ибо современный читатель, даже обладай он дипломом фармацевта, едва ли догадается, в чём соль шансонетки про «близзвериное» число 606: «Шестьсот шесть, шестьсот шесть нам спасут и жизнь, и честь!» («Радуга», с. 32).
Комплексом русского эмигранта первой волны австриец по отцу и западник по мироощущению Е. Рейс не страдал и в малой степени. Более того, в Европе он ощущал себя не иммигрантом, а репатриантом. Впрочем, «историческая родина», Австро-Венгерская империя, к 1927 году превратилась в крохотную и вдобавок разорённую войной Австрийскую республику, и удовлетворить амбиции двадцатилетнего денди, обладателя идеального пробора и безукоризненных светских манер, была не в состоянии. Своего рода приёмной родиной-матерью для Е. Рейса стала Германия. Существенным было и то обстоятельство, что в отличие от среднестатистических эмигрантов из русского Ада, оказавшихся в западном Раю чуть ли не в костюме Адама, «материальная база» семьи Е. Рейса, как он пишет, «дала возможность обеспечить себе годы жизни в Берлине».
Процесс натурализации – если не в гражданском, то в бытовом смысле – для Е. Рейса, готический шрифт узнавшего одновременно с кириллицей, труда не составил. И к 1930 году он не только в совершенстве осваивает фотодело (а из Советской России будущий мемуарист выезжал, не обладая решительно никакими профессиональными навыками), но в центре Берлина открывает собственное фотоателье, «выполняющее заказы для иллюстрированной прессы», где и работает до 1936 года.
Берлинским впечатлениям-воспоминаниям посвящён роман Е. Рейса «Кира Керн» («пушкинская» ассоциация у русского читателя – в связи с фамилией героини романа – автором не запланирована и случайна).
Герой романа, художник-эмигрант из России, особой тяги к творчеству, впрочем, не испытывающий и берущийся за карандаш лишь в случае выгодного заказа, в обществе весьма колоритных и не менее сомнительных субъектов (фигуры второго плана особо удачны) со вкусом «прожигает жизнь» в ресторанах и дансингах Берлина. В одном из персонажей без труда узнается «Саша» Вертинский, с которым мемуарист в начале 1930-х был достаточно близок (насколько возможна была близость с Вертинским, предпочитавшим исключительно женское общество). Присутствует и «роковая» героиня, девятнадцатилетняя валькирия, проявляющая большой интерес к кокаину. Как раз к моменту прихода к власти Гитлера деньги у художника подходят к концу, и он отбывает в Париж. Роман занимателен, динамичен, в меру фриволен, порой даже остроумен. Атмосфера «пира во время чумы» передана со знанием дела.
Другое дело, что читателя буквально на каждой странице преследует эффект déjà vu. причём «уже виденное» всякий раз вполне конкретно: это не только такие «берлинские» романы, как, например, «Дар» Набокова или «Три товарища» Ремарка, но одновременно «Шутовской хоровод» Хаксли, «Фиеста» Хемингуэя – и даже забытые «Записки мерзавца» А. Ветлугина. Впрочем, о сознательной вторичности, цитатности, то есть как бы «предпостмодернизме» Евгения Рубина – фотографа и художника уже писала Н. Воинова.
Недостаточно «арийская» фамилия послужила, очевидно, причиной переезда Рубина-Рейса во Францию. Парижскому периоду жизни автора посвящена его книга воспоминаний об Александре Кожевникове, племяннике Василия Кандинского, докторе философии Гейдельбергского университета, преподавателе Сорбонны и крупном чиновнике Министерства экономики в деголлевской Франции. История их сорокалетней дружбы воссоздаётся на отменно прописанном историческом и бытовом фоне русской эмиграции во Франции, включая период немецкой оккупации.
Заметим, кстати, что львиная доля мемуарной литературы этого периода принадлежит перу профессиональных литераторов. И посвящена в первую очередь опять-таки жизни литераторов, оказавшихся в эмиграции – сравнительно с художниками, музыкантами или представителями учёного сословия, – в положении наиболее бедственном. Вспомним Алексея Михайловича Ремизова, горько шутившего по поводу пятнадцатитысячного гонорара Стравинского на Венецианском биеннале: «А я и за 10 долларов в ноги поклонюсь». Позиция Е. Рейса-мемуариста много выигрышней. В широчайший круг его берлинских и парижских знакомцев входят комбинаторы различного калибра и князья, кинодельцы и редакторы журналов мод – словом, кто угодно, за исключением литераторов – полувынужденных-полудобровольных обитателей «русского культурного гетто».
Александр Кожевников (после принятия французского гражданства Коже́в), автор «Письма к Сталину» и «Введения к изучению Гегеля», человек многих дарований, даже для своего ближайшего друга Е. Рейса остался в известном смысле загадочной личностью. Отсюда и необычная вопросительная интонация в названии книги «Кожевников, кто Вы?»
Но едва ли с меньшим основанием мы могли бы задать подобный вопрос и её автору – фотографу, художнику, галерейщику, мемуаристу, эссеисту, романисту. Наконец, и поэту. В сборнике «Мой путь» среди полусотни эссе обнаруживаем и «поэму в прозе» «Камни».
Можно только сожалеть, что своё последовательное жизнеописание автор обрывает на 1927 годе. Далее оно приобретает фрагментарный характер – со значительными временными и событийными лакунами. Остаётся надеяться, что работа над воспоминаниями будет продолжена.
Так или иначе, но хочется пожелать их автору первую свою страницу в 2001 году начать, положим, со слов «Я родился в начале прошлого века. Тем не менее…»
2000
P. S. Евгений Германович Рубин (псевдоним Е. Рейс) скончался в Париже 15 февраля 2001 года.
Вино из одуванчиков, русский розлив
(Рэй Брэдбери)
Люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле. Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей.
Ф. Достоевский. Сон смешного человека. Фантастический рассказ.
Вполне естественно, что, перед тем как сесть за статью о Рэе Брэдбери, автор этих строк вознамерился перечесть, освежить в памяти «Вино из одуванчиков». Мой собственный экземпляр повести «зачитали», поэтому пришлось воспользоваться книгой из библиотеки Пушкинского дома, к фондам которой прибегаю издавна (и да, «по блату»).
Книга эта, изданная в далёком уже 1967 году, оказалась зачитанной буквально до дыр, – многие страницы украшали бумажные заплатки, а переплёт её обновлён был явно не единожды. Что, как можно догадаться, свидетельствует об успехе повести у сотрудников Института русской литературы, то есть учёных, которым по роду деятельности что-что, а литературу американскую читать вовсе не обязательно…
Вот уже почти полвека Рэй Брэдбери – один из самых читаемых у нас американских писателей. Интерес к нему стабилен и практически не подвержен никаким «сезонным перепадам». А начало этому было положено в далёком холодном – и в прямом, и в политически переносном смысле: холодная война! – декабре 1954 года, когда с докладом «Современная прогрессивная литература мира» на II съезде советских писателей выступил поэт Николай Тихонов. С высокой трибуны он сообщил: «Известный писатель научно-фантастического жанра Рэй Брэдбери написал повесть “451° по Фаренгейту”. В этой фантастической повести он описывает Америку конца ХХ века, когда правителям страны удалось довершить полную программу удушения и истребления культуры. Он описывает трагическую судьбу людей, изгнанных из городов за то, что они сохранили опасную привязанность к книгам, которые запрещены по всей стране».
Нетрудно предположить, что подобным образом аттестованная книга тотчас была оценена как превосходное «идеологическое оружие», незамедлительно переведена и издана.
Правда, со временем оказалось, что работает это «оружие» несколько странно – как некий гипотетический револьвер с П-образным стволом, который при выстреле отправляет пулю в направлении, противоположном предполагаемому. Словом, русский (виноват, советский!) читатель 50–80-х годов воспринимал антиутопию Брэдбери как «жуткую антисоветчину». Что, впрочем, было явлением вполне обыденным: подобным же образом в те баснословные года прочитывалась даже классика, например свифтовский Гулливер.
Сам Брэдбери, без сомнения, сильно изумился бы такой интерпретации своей книги. Он-то ведь без всяких задних мыслей писал откровенную «антиамериканщину». Что же касается нашей страны, то о ней у писателя, во всяком случае тогда, представления были довольно туманные. Так, в одном рассказе 50-х годов он называет чистокровную немку Екатерину II «типичной славянкой».
Но с другой стороны, советский «проницательный читатель» по-своему тоже был прав. Да, «451° по Фаренгейту» – книга об Америке, особо актуальная во времена приснопамятного сенатора Маккарти, то есть книга про общество – «по определению», – полярно противоположное нашему. Но хотя Южный и Северный полюсы находятся на изрядном друг от друга расстоянии (на то они и полюсы!), климат их, однако, на удивление схож. Не забудем, кстати, и то, что антиутопия Брэдбери – это, в сущности, переделка, «американская версия» знаменитых «Мы» Е. Замятина. Так что, согласимся, чутьё отечественного читателя не подвело. Тем более, чту такое «истребление культуры» и «опасная привязанность к книгам», соотечественник ГУЛАГа и «спецхрана» знал и без Р. Брэдбери.
Так или иначе, но перед русским читателем прозаик, драматург, эссеист и поэт Рэй Дуглас Брэдбери предстал в амплуа «писателя научно-фантастического жанра». Каковым и остаётся в читательском представлении по сию пору. Однако сам писатель, как известно, не слишком-то жалует проводящих его по ведомству научной фантастики и предпочитает, чтобы о нём говорили как о «сказочнике», «моралисте», а по сути – «просто писателе». И понять его можно; представим себе рьяного поклонника детективного жанра, который, будучи обуреваем классификационной жаждой, зачислил бы в «детективщики» Ф. Достоевского. Согласимся, он имел бы на это несомненное право. Ведь и «Преступление и наказание», и «Идиот», и «Бесы», и «Братья Карамазовы» – строго формально – детективы! Но, к счастью, далеко не только детективы»!
Даже в принёсших Р. Брэдбери всемирную славу «Марсианских хрониках» (1950, русский перевод – 1965) научно-фантастический элемент выполняет в тексте сугубо вспомогательную функцию. В первую очередь писателя занимают социально-психологические и моральные, самые что ни на есть земные проблемы. А Марс для Брэдбери, в сущности, лишь некий новый Новый Свет, где осуществляется истребление «индейцев космоса» – марсиан («О скитаньях вечных и о Земле»). К этому остаётся добавить, что никаких принципиально новых теорий и технических идей Брэдбери – научный фантаст не предлагает, предпочитая пользоваться самыми банальными «ракетами» и «роботами», а то и совсем уж старомодной «машиной времени». В своих же футурологических прогнозах (начало колонизации Марса в 1999 году) он зачастую попадает пальцем в небо. Что его, однако, ничуть не тревожит. Странный писатель научно-фантастического жанра!
Увидевшая свет в 1951 году и имевшая сенсационный успех повесть Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи» создала своего рода «эталон жанра». На долгое время всякий американский писатель, избравший героем своей книги подростка, волей-неволей вынужден был считаться с сэлинджеровским Холденом. Считаться и – так или иначе – вступать в соревнование с очень серьёзным литературным соперником. Кстати, едва ли не с подачи Сэлинджера (разумеется, при «посредничестве» переводчицы Р. Райт-Ковалевой) и наши тинейджеры 60–70-х – от Пскова до Харькова включительно – холденовским обращением «слушай» заменили устаревшее «Саша» или «Коля».
И вот в 1957 году была опубликована автобиографическая повесть Рэя Брэдбери «Вино из одуванчиков». О том, что своеобразный вызов Сэлинджеру был брошен, говорит уже «растительный элемент» в названии («одуванчики» у Брэдбери и «рожь» у Сэлинджера).
Нельзя сказать, что романтически настроенный двенадцатилетний герой Брэдбери взял да и запросто положил на обе лопатки долговязого, но изнурённого проблемами полового созревания семнадцатилетнего Холдена. Герои Брэдбери и Сэлинджера оказались как бы в разных весовых категориях, да и потом, литературное соперничество всё-таки несколько отличается от спортивного – будь это даже восточное единоборство. Последнее мы вспомнили потому, что в 60-х годах оба писателя проявят известный интерес к дзен-буддизму. Но в 1971 году американские астронавты нанесли на лунную карту кратер Одуванчик. И это стало не совсем обычным воплощением успеха совсем уж не научно-фантастической повести Брэдбери.
Но успех книги на родине писателя ни в коей мере не есть гарантия, что перевод её, пусть даже и очень удачный, в другой стране будет встречен с энтузиазмом. Да и действительно, какое дело русскому читателю до трёх жарких летних месяцев 1928 года в провинциальном американском городке и до обитателей-обывателей этого полувыдуманного (автобиографическая и документальная повесть – совсем не одно и то же!) Гринтауна. Что ему до мальчика Дугласа, то покупающего какие-то теннисные туфли, то помогающего деду своему делать вино из… одуванчиков! Видимо, и одуванчики-то в Иллинойсе какие-то другие. Иначе бы у нас любители выпить на халяву их давно под корень извели. Нет в этой повести ни политического подтекста, столь радовавшего нашего читателя в «451° по Фаренгейту», ни неожиданных сюжетных ходов «Марсианских хроник».
Поэт и литературовед Томас Стернз Элиот писал: «Люди часто ошибаются в оценках современных иностранных писателей. Но при условии достаточно длительного временного интервала неизменное внимание чужестранцев к какому-либо писателю может служить свидетельством того, что этот писатель сумел соединить в своих книгах местное со всеобщим. Поначалу чужестранца может привлечь в таком писателе как раз его необычность: писатель интересен чужестранцу, потому что в собственной литературе ничего подобного он не находит. Но мода на то или иное произведение, вызванная лишь его непривычностью, недолговечна: она не будет устойчивой, если чужестранный читатель не обнаружит в этом произведении, пусть и неосознанно, не только что-то для себя непривычное, но и нечто знакомое» («Американская литература и американский язык», 1953).
Да не вменят автору этих строк в вину нескромность, но, чтобы не моделировать опыт воображаемого «среднестатистического отечественного читателя», он просто-напросто обратится к некоторым собственным ощущениям-воспоминаниям, возникшим-воскресшим при чтении этой повести Брэдбери: «Господи, да ведь это книга о моём лете 1964 года в двухэтажном деревянном дедовском доме на окраине Ленинграда, до сих пор зовущейся “село Рыбацкое”, и тогда воистину утопавшей в зелени (Гринтаун!). Книга о шикарных китайских кедах 36-го размера, которые весной оказались малы, а новых – непременно китайских – нигде уже не достанешь. О том, как мы с дедом, набрав грибов в «лесках» – где сейчас построен химический завод, – сидим на траве и едим самый вкусный на свете пришвинский “лисичкин хлеб” (на сандвич с ветчиной «от Брэдбери» бюджет наш, как понимаю теперь, не тянул). Книга о том, как за стеной день-деньской стрекочет «Зингер» с ножным приводом соседа, дяди Бори Купермана, – чем не «машина счастья» брэдбериевского Лео Ауфмана? Да и о том, наконец, как в кухне на верхней полке поблёскивают “нестандартные” – румынские, венгерские, болгарские – бутылки с самодельным вином из гоноболя, ожидая зиму…»
Впрочем, очевидно, и любой отечественный читатель «независимо от пола, возраста и вероисповедания» обнаружит в этой книге Брэдбери своё, «знакомое» (Элиот), несмотря на пространственно-временную удалённость (Иллинойс, лето 1928 года) детства писателя от его собственного.
Как мы уже говорили, «Вино из одуванчиков» – повесть автобиографическая. Но в связи с этим тотчас возникают два вопроса. Ответ на первый – зачем Брэдбери в повести переименовал свой родной город в Гринтаун? – затруднений не вызывает. Реальный провинциальный Уокиган вырастает в прозе Брэдбери-поэта (к сожалению, в переводе названия повести не удалось сохранить как бы колокольный перезвон рифмованного английского Dandelion Wine) до символического Зелёного города детства. На ум тотчас приходит масса примеров употребления этого цвета в значении «цвета юности, радости и свободы». Это фольклор, английский и русский, «зелёная палочка» Л. Толстого, «Зелёная стена» Е. Замятина, «Гринландия» Г. Майринка и, наконец, «Зелёная-зелёная трава у родного дома» Тома Джонса и пресловутый «Гринпис».
Но для чего писателю понадобилось «состарить» своего героя на целых четыре года? Ведь летом 1928 года реальному Рэю Дугласу было не 12, как герою повести, но лишь 8 лет? А в детстве такая разница гораздо ощутимей, так сказать, «год за два»! Разве трудно было бы перенести действие повести в 1932 год либо оставить героя восьмилеткой? Но очевидно, для автора именно эти числа, 12 и 1928, почему-то важны. Попробуем разобраться. Дуглас Сполдинг, фиксирующий в дневнике свои «летние впечатления», – это сам Рэй Дуглас Брэдбери, чьи первые литературные опыты («так начинают жить стихом») относятся как раз к двенадцатилетнему возрасту, своеобразной вершине детства, – далее следует сумбурный и эгоистичный «переходный период». С другой стороны, 1928 год – последний год идиллического «века джаза» (Ф. Скотт Фицджеральд). В 1929 году в США началась Великая депрессия, лёгкое представление о каковой после «киндерсюрприза» от 17 августа 1998 года имеем теперь и мы. И реальному двенадцатилетнему Рэю Дугласу Брэдбери, в 1932 году колесившему вместе с безработным отцом по Америке, было не до патриархального «вина из одуванчиков». Именно поэтому, думается, рядом с Дугласом и возникает его младший брат, «коротышка Том», более соответствующий реальному Рэю Брэдбери 1928 года, который как бы раздваивается в повести, присутствует «един в двух лицах».
Устоявшееся мнение о «Вине из одуванчиков» – да и о прозе Рэя Брэдбери в целом – как о «лёгком» чтении, предназначенном «для среднего и старшего школьного возраста», представляется достаточно спорным. Уильям Фолкнер в речи при получении Нобелевской премии (1950) сетовал на то, что его младшие современники в Америке «пишут не о сердце, но о железах внутренней секреции». В этом смысле Брэдбери – счастливое исключение, и охотнику до физиологии поживиться у него практически нечем. Немногочисленные «любовные истории» Рэя Брэдбери – а к таковым в «Вине из одуванчиков» можно отнести грустную новеллу о молодом журналисте Билле Форестере, влюбившемся в семидесятилетней давности фотографию мисс Элен Лумис, – отличают благородная сдержанность и целомудрие. А любимые герои Брэдбери – это дети и глубокие старики. «Вот тут-то собака и зарыта!» – воскликнет с упоением любитель психоаналитических экскурсов. Но оставим его забавляться с «Лолитой».
Однако из того, что герою повести двенадцать лет, отнюдь не следует, что примерно столько же должно быть и её читателю. Даже если и не иметь в виду главу «Летний лёд», при чтении которой и самого что ни на есть взрослого читателя мороз пробирает и за которую учитель Рэя Брэдбери, Эдгар Аллан По, без сомнения поставил бы своему заочному питомцу «пять с плюсом».
К этому стоит добавить, что и хвалёный «оптимизм Брэдбери», ставший общим местом в оценках творчества писателя («Рэй Брэдбери, несмотря на прошедшие годы, сохраняет юношески свежий взгляд на мир и остаётся неистовым и неисправимым оптимистом»), явно требует существенной коррекции. Особенно если мы вспомним, что литературная карьера юного Рэя Дугласа Брэдбери началась ещё в 30-е годы с двух стихотворений, названия которых («Памяти Вилла Роджерса» и «Голос Смерти») едва ли свидетельствуют об исключительно оптимистическом миросозерцании. Да и в «Вине из одуванчиков» вслед за июньским радостным открытием Дугласа («Я живой!») с неумолимой логикой следует страшное августовское откровение: «Я тоже умру».
Платон определял философию как приготовление к смерти. В этом платоновском смысле Брэдбери – прирождённый философ. Смерть и «сопровождающие её лица» – зло, мрак, осень, насилие, одиночество – не оставляют без внимания ни одного произведения писателя. Всюду видны следы их пребывания. Однако ужасное предосеннее «открытие смерти» не деморализует писателя и его любимых героев. Они, «мужественные пессимисты», объявляют смерти войну, намереваясь, подобно Дугласу Сполдингу, «жить вечно или вроде того». И порой достигают ощутимых результатов – подобно энергичной героине рассказа «Жила-была старушка», изымающей собственное тело из рук прозектора, уже приступившего к работе.
Понятно, что для достижения такой грандиозной цели реализм – будь он критическим, социалистическим или капиталистическим – подходит мало. И писатель обращается к опыту и арсеналу изобразительных средств немецких романтиков, Эдгара По и даже Франца Кафки («Превращение»). А в титанической борьбе со смертью Рэю Брэдбери оказывается неожиданно близок автор «Философии общего дела» Н. Фёдоров со своим гениально-безумным фантастическим планом немедленного физического воскрешения мертвых.
Не питая иллюзий относительно «общества потребления» с его «правом продавать и быть проданным», Рэй Брэдбери, «научный фантаст № 1 современности», не имеющий у себя дома телевизора и избегающий не только полётов на аэроплане, но и езды в автомобиле, пишет своеобразную «апологию деревянного дома»: «Дом у нас был славный. И какой старый, Господи, лет восемьдесят, а то и все девяносто! По ночам, бывало, я все слушала, он вроде разговаривает, шепчет. Дерево-то сухое – и перила, и веранда, и пороги… А эта наша коробка… да она и не знает, что я тут, ей всё едино, жива я или померла. И голос у неё жестяной, а жесть – она холодная» («Земляничное окошко»). И в этом Брэдбери, а точней, героиня его рассказа, вторит другому русскому мыслителю консервативного лагеря, Василию Розанову, который писал: «Бревенчатый и необтёсанный, то есть не крытый тёсом: всё точь-в-точь такое, что я люблю и считаю лучшим на Руси. И мои лучшие времена – одушевлённые, творческие – прошли в таких домах. В каменных домах я только разрушал и издевался» («Русский Нил»).
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?