Текст книги "Почти дневник"
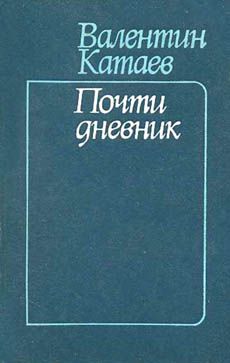
Автор книги: Валентин Катаев
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
О Горьком
Максим Горький был человек необыкновенно многогранный, интересный. Как у каждого большого человека, настоящего самородка, гениального художника, у Горького был очень сложный, даже подчас противоречивый характер. В нем удивительно сочетались самые разнообразные элементы: ясное, почти детское простодушие и упрямая несговорчивость, безграничная доброта и непримиримость, проницательность и доверчивость, веселье и грусть. Он умел быть то по-стариковски вдумчивым и мудрым, то совсем по-юношески порывистым и дерзновенным.
Однажды мы провели с Горьким в Сорренто великолепнейший вечер, даже ночь, которая пролетела, как сон. Мы разговаривали до зари, смотрели на звезды, пели хором, гуляли, плясали. И Горький плясал больше всех. Прощаясь на рассвете, я спросил у него:
– Алексей Максимович, сколько же вам лет?
– Семнадцать! – ответил Горький, озорно сверкнув глазами, хотя ему в ту пору было едва ли не все шестьдесят. Он как раз в это время писал свою самую мудрую и самую зрелую вещь – «Жизнь Клима Самгина».
Вот какой человек был Алексей Максимович.
Но при всем том в характере Максима Горького была одна наиболее ощутимая черта, которая явно выделялась среди всех других и благодаря которой Алексей Максимович Пешков и стал великим Максимом Горьким. Эта черта была партийность. Горький до мозга костей был человек партийный, хотя формально к партии и не принадлежал. Для художника – партийность есть не только формальная принадлежность к партии. Чувство партийности нужно неуклонно и постоянно воспитывать. Воспитывая нас, своих младших братьев, советских писателей, Горький всегда старался привить нам любовь и преданность к Коммунистической партии. Горький знал, что партийность не есть какое-нибудь прирожденное качество человека. Не приходится сомневаться, что Горького-партийца, Горького-большевика воспитал Ленин. Это исторический факт громадного общественно-политического значения. Все мы знаем и никогда не должны забывать о той дружбе, которая в течение многих лет связывала Ленина с Горьким. Дружеские чувства не мешали Ленину со всей прямотой и чисто ленинской, беспощадной принципиальностью руководить Горьким, подчас указывать Горькому на его ошибки и дружеской, но твердой рукой направлять творчество великого писателя. Переписка Ленина и И Горького является для нас убедительным примером высокой, требовательной, принципиальной дружбы партии с литературой.
В период столыпинской реакции, ведя самоотверженную и поистине титаническую работу по выковыванию пролетарской партии нового типа, среди множества забот, в самый разгар борьбы за очищение рядов российской социал-демократии от всяческой меньшевистской скверны, от ликвидаторов и отзовистов, от махистов и богостроителей, Ленин ни на минуту не забывал о Горьком и постоянно держал его в курсе всего хода борьбы. Он всегда спешил обрадовать Алексея Максимовича каждой новой победой и не уставал разъяснять Горькому смысл развивающихся событий. Со своей стороны, Горький делился с Лениным многими своими самыми сокровенными мыслями, связанными с той великой исторической битвой, которая с особенной силой разгорелась перед первой мировой войной. Именно в это время выковывалось мировоззрение Горького.
В первые годы Советской власти Горький с головой окунулся в дело организации нового, социалистического общества. Вот как об этом времени вспоминает сам Горький в письме Павловичу:
«Я слишком часто обременял его (Ленина. – В. К.) в те трудные годы различными «делами» – Гидроторф, Дефективные дети, аппарат для регулирования стрельбы по аэропланам и т. д. – великолепнейший Ильич неукоснительно называл все мои проекты «беллетристикой и романтикой». Прищурит милый, острый и хитренький глаз и посмеивается, выспрашивает: «Гм-гм, опять беллетристика?»
Но иногда, высмеивая, он уже знал, что это не «беллетристика». Изумительна была его способность конкретизировать, способность его «духовного зрения» видеть идеи воплощенными в жизнь».
И дальше, со свойственной ему откровенностью, Горький пишет:
«Я написал о Владимире Ильиче плохо. Был слишком подавлен его смертью и слишком поторопился выкричать мою личную боль об утрате человека, которого я любил очень. Да».
Вот каковы были отношения Горького к Ленину.
Свою любовь к Ленину, к Коммунистической партии Горький всегда старался привить и нам, молодым писателям. Он приложил много усилий, чтобы сделать советскую литературу партийной. В этом его колоссальная заслуга не только перед советским народом, но и перед народами всего мира, потому что наша советская литература должна служить всему трудящемуся человечеству.
Своей внутренней, если можно так выразиться, духовной партийностью я во многом обязан общению с Горьким. Но не только с Горьким. Долгие годы дружбы с Маяковским и Демьяном Бедным укрепили во мне глубочайшее убеждение, что, для того чтобы написать что-либо порядочное, полезное для народа, нужно твердо стоять на позициях коммунизма.
Теперь же, дожив до седых волос, я могу сказать с полным сознанием, что только подлинная, глубокая, продуманная и прочувствованная партийность может сделать наш художественный труд нужным людям и помочь создать действительные ценности. В этом все дело.
Это так просто и ясно!
Об этом свидетельствует пример дружбы между Лениным и Горьким. Теперь уже нет с нами Ленина и нет с нами Горького, но есть ленинская партия и есть Союз советских писателей. И большая, серьезная, творческая дружба между ними продолжается.
Будем же любить нашу партию так, как любил Горький Ленина! Пусть эта любовь с каждым годом растет и крепнет, и тогда нам не страшны никакие трудности, художественные и политические!
1954 г.
Заметки о Маяковском
Маяковский в «Огоньке»
Маяковский любил печататься в массовых многотиражных изданиях. В одном только «Огоньке» при жизни Маяковского было помещено больше двадцати стихотворений. Два стихотворения появились вскоре после его смерти: «Нота Китаю» и «Стихи о советском паспорте».
Я хорошо помню тот день – тридцать лет назад, – когда в редакции «Огонька» впервые появился Маяковский. Это было весной 1923 года, незадолго до выхода в свет первого номера журнала. Страна переживала тягостные, тревожные дни болезни Ильича. Положение Ленина было настолько серьезно, что правительство выпустило специальный бюллетень о состоянии его здоровья. Возле белых листков, расклеенных на стенах домов, толпились люди. Тень горя и тревоги упала на омраченный город. Она представляла разительный контраст с ярким весенним солнцем, блеском стекол и голубым небом над сиреневыми луковками Страстного монастыря.
Маяковский пришел в редакцию «Огонька» в легком весеннем макинтоше, в кепи, с палкой, повешенной на руку, с толстым окурком папиросы в углу своего характерно очерченного, энергичного рта. Опершись спиной о косяк двери, поэт прочел нам новое, только что написанное стихотворение:
Тенью истемняя весенний день,
выклеен правительственный бюллетень…
Как сейчас, слышу раскаты низкого голоса Владимира Владимировича, как сейчас, вижу над его переносицей глубокую короткую вертикальную черту, разделявшую его густые, крылатые брови.
Нет!
Не надо!
Разве молнии велишь
не литься?
Нет!
Не оковать язык грозы!
Вечно будет
тысячестраницый
грохотать
набатный
ленинский язык.
Это было гениально просто, с небывалой силой выраженное общее чувство всего советского народа. Это были те единственные слова, которые так отвечали нашему душевному состоянию.
Стихотворение «Мы не верим!» было напечатано в первом номере журнала. Так Маяковский начал сотрудничать в «Огоньке», так появились в печати строки, ставшие классикой: «Не ослабеет ленинская воля в миллионосильной воле РКП», «Вечно будет ленинское сердце клокотать у революции в груди…».
Маяковский не забывал «Огонек». Обычно он приходил днем, вынимал из бокового кармана сложенный вчетверо лист линованной бумаги, на котором помещалось ровно тридцать пять стихотворных строк знаменитой Маяковской «лестнички», и читал свою новую вещь сотрудникам журнала. Так мы впервые услышали многие его лучшие стихотворения: «Киев», «Мексика», «Мы – Эдисоны невиданных взлетов…», «Марш ударных бригад» и многие другие. Поэт помещал в «Огоньке» и свои знаменитые стихотворные рекламы. Своей работе в этой области Маяковский придавал большое принципиальное значение и очень сердился, когда с ним не соглашались. Была у Маяковского, между прочим, реклама, посвященная
«Огоньку».
Беги со всех ног
покупать «Огонек», —
призывали светящиеся буквы.
В 1923 году Маяковский принес шуточное стихотворение «Схема смеха», с собственными иллюстрациями: Шесть картинок, сделанных пером, тушью, в острой манере «Окон сатиры» РОСТА. Комизм стихотворения заключался в неожиданных рифмах и в еще более неожиданных логических выводах. Речь шла о том, как по железнодорожному полотну шла баба с молоком и чуть не попала под курьерский поезд.
Была бы баба ранена,
зря выло сто свистков ревмя?
но шел мужик с бараниной
и дал понять ей вовремя.
И вдруг совершенно неожиданный и смешной именно этой своей неожиданностью вывод:
Хоть из народной гущи,
а спас средь бела дня
Да здравствует торгующий
бараниной средняк!
Эта стихотворная шутка была напечатана в пятом номере новорожденного журнала.
В конце жизни Маяковский обратился к драматургии. Он написал «Клопа», потом «Баню». Постановка этих пьес была связана со множеством затруднений, которые очень раздражали поэта. Приходилось бороться с косностью, непониманием, прямыми «зажимами». Многие театральные деятели не хотели признавать Маяковского как драматурга, не видели в его пьесах искусства. Маяковский неустанно, где только мог, разъяснял смысл «Клопа» и «Бани», ездил на заводы и читал свои пьесы рабочим.
В это время Маяковский опубликовал в «Огоньке» две заметки об этих пьесах. Заметки содержат очень важные мысли Маяковского о драматургии, в частности о комедии.
Вот что, между прочим, написал Маяковский в № 2 «Огонька» за 1929 год о своей пьесе «Клоп»:
«Мне самому трудно одного себя считать автором комедии. Обработанный и вошедший в комедию материал – это громада обывательских фактов, шедших в мои руки и голову со всех сторон во все время газетной и публицистической работы, особенно по „Комсомольской правде“.
Газетная работа отстоялась в то, что моя комедия – публицистическая, проблемная, тенденциозная.
Проблема – разоблачение сегодняшнего мещанства.
Я старался всячески отличить комедию от обычного типа отображающих задним числом писанных вещей.
Пьеса – это оружие нашей борьбы. Его нужно часто навастривать и прочищать большими коллективами».
А вот что писал Маяковский в заметке «Что такое „Баня“? Кого она моет?».
«Баня» моет (просто стирает) бюрократов… Сделать агитацию, пропаганду, тенденцию – живой, – в этом трудность и смысл сегодняшнего театра».
Очень важные мысли великого поэта о театре!
Знаменитейшее стихотворение Маяковского «Стихи о советском паспорте» было впервые напечатано тоже в «Огоньке» уже после смерти поэта. Но я хорошо помню, как он, живой Маяковский, их читал; помню, с какой особенной силой и гордостью он произносил «серпастый» и «молоткастый», как он затем вытянулся во весь рост, поднял высоко над головой записную книжку и рявкнул:
Читайте,
завидуйте,
я – гражданин
Советского Союза!
Таким он мне и запомнился на всю жизнь.
Воображаемый разговор с Маяковским
Вы любили, Владимир Владимирович, путешествовать. «Мне необходимо ездить, – писали Вы в своей книге „Мое открытие Америки“. – Обращение с живыми вещами почти заменяет мне чтение книг». Немало Вы ездили по земному шару. Но больше всего Вы путешествовали по родной стране. Вы страстно любили свою социалистическую родину. Вы восхищались сказочно быстрым ростом ее городов, зорко всматривались в черты нового. Вашей поэзии было в высшей степени присуще чувство нового. Вы, как никто другой, понимали всю неповторимую красоту нашей жизни.
На сотни эстрад бросает меня,
на тысячу глаз молодежи.
Как разны земли моей племена
И разен язык
и одежи!
Из длительных путешествий по «своей земле» Вы возвращались в «свою Москву», полный новых мыслей, чувств, впечатлений. Вы приезжали веселый, помолодевший. В Вас чувствовался могучий прилив творческих сил, как в Антее, прикоснувшемся к матери-земле.
Посреди Вашей комнаты на полу лежал открытый чемодан с дорожными вещами и множеством записок, полученных Вами от слушателей во время выступлений. Такими же записками были набиты карманы. Вы извлекали их из жилета, из брюк, из пиджака. Вы разглаживали их своей большой широкой ладонью и сортировали по городам, числам и содержанию, раскладывая пачками на письменном столе. Вы очень любили собирать эти записки. Вы гордились ими. За всю Вашу жизнь их накопилось у Вас тысячи. Это было вещественное выражение общения с читателями. Каждая записка напоминала Вам какой-нибудь советский город. Вы редко делились своими впечатлениями. Но каждый раз Ваши друзья знали, что скоро Вы расскажете в стихах о том, что видели во время путешествия.
Вот что Вы, например, написали о Свердловске:
У этого
города
нету традиций,
бульвара,
дворца,
фонтана и неги.
У нас
на глазах
городище родится
из воли,
Урала,
труда
и энергии!
Вы написали это, Владимир Владимирович, четверть века назад – в 1928 году. Тогда бывший захолустный Екатеринбург только еще начинал по-настоящему превращаться в тот Свердловск, который мы знаем сегодня, в 1953 году. Вы, Владимир Владимирович, не видели еще на улицах Свердловска даже трамвая. Вы приезжали в Свердловск на поезде. Сегодня Вы, несомненно, прилетели бы сюда: давно уже действует авиалиния Москва – Свердловск. В Свердловске за двадцать лет построены сотни тысяч квадратных метров жилой площади.
Радостно сообщить Вам, Владимир Владимирович, что Вы совершенно безошибочно угадали могучие индустриальные очертания будущего Свердловска. Здесь выстроены десятки мощных заводов: среди них такие гиганты, как Уралэлектроаппарат, Уралмаш, Уралхиммаш, автогенный завод, инструментальный…
Вы не очень любили статистику. Но я уверен, что цифры, которые я упоминаю, Вам очень понравились бы.
Только в техникумах и институтах обучается тридцать тысяч студентов. В городе находится филиал Академии наук СССР. Более ста пятидесяти библиотек располагают книжным фондом до пяти миллионов томов. Драматический театр. Музыкальная комедия. Театр юного зрителя. Филармония. Киностудия. Девять кинотеатров. Около сорока Дворцов культуры и клубов. Уральская консерватория имени Мусоргского, один из крупных центров музыкальной жизни на Урале… Таким стал этот «городище», который только рождался на Ваших глазах. Побывав в Кузнецке, вы сказали:
Через четыре
года
здесь
будет
город-сад!
Так и случилось!
Вы совершенно точно предсказали:
Мы
в сотню солнц
мартенами
воспламеним
Сибирь.
Сегодняшняя Сибирь воспламенена сотнями и тысячами электрических солнц, а Ваша изумительная строфа о городе-саде стала классической, ее знает каждый грамотный советский человек:
Я знаю —
город
будет,
я знаю —
саду цвесть,
когда
такие люди
в стране
в советской
есть!
Возвратившись из поездки в Баку, Вы писали:
«Я помню дореволюционный Баку. Узкая дворцовая прибрежная полоса, за ней грязь Черного и Белого города, за ней – тройная грязь промыслов, с архаической фонтанной и желоночной добычей нефти. Где жили эти добыватели – аллах ведает, а если и жили где, то не долго.
…После годовщины десятилетия я опять объехал Баку.
…Это уже не сколок с московской культуры. Разница не количественная, а качественная. Это столичная культура – экономического, политического и культурного центра Азербайджана».
Так писали Вы в 1927 году в статье «Рождение столицы». Своим зорким глазом поэта-провидца Вы разглядели очертания растущей столицы Советского Азербайджана. Вы восхищались этим сказочно быстрым ростом. Но что бы сказали Вы, Владимир Владимирович, если бы познакомились с сегодняшним Баку! Это поистине нечто изумительное! И прежде всего изумились бы Вы, что бакинцы добывают нефть со дна моря…
Двести пятьдесят пять с половиной миллионов рублей было вложено за два последних года в жилищное строительство города. Открыт республиканский стадион. Используя рельеф местности, архитекторы-строители разместили трибуны на сорок тысяч человек величественным полукругом, открывая широкую перспективу на Бакинскую бухту, на весь город.
На улицах, в парках, вдоль автомагистралей Баку и его нефтяных районов высажено около семисот тысяч деревьев и декоративных кустарников. Сооружается двенадцатиэтажный дом.
Путешествуя по родной земле, Вы зорко вглядывались в черты нового и коротко, но метко фиксировали свои поэтические наблюдения:
По-новому
улицы Новочеркасска
черны сегодня —
от вузовцев.
Ныне вузовцев в Новочеркасске несравненно больше. В городе пять институтов и девять техникумов. Можно считать, что каждый прохожий, которого Вы встретили бы на улице, – студент.
Представляя себе будущий Волго-Дон, вы писали:
Один на Кубани сияет лампас —
лампас голубой Волго-Дона.
Вы видели этот голубой лампас в отдаленном будущем. Для Вас это еще была лишь поэтическая метафора. Для нас же, Ваших современников, она стала уже реальной действительностью.
Вы любили, Владимир Владимирович, Крым:
И глупо звать его
«Красная Ницца»,
и скучно
звать
«Всесоюзная здравница».
Нашему
Крыму
с чем сравниться?
Не с чем
нашему Крыму сравниваться!
Помните, Вы восхищались Ливадийским дворцом, в котором отдыхают крестьяне. Теперь таких дворцов, построенных Советской Еластью, десятки.
Вы писали о будущем Днепрогэса:
Где горилкой,
удалью
и кровью
Запорожская
бурлила Сечь,
проводов уздой
смирив Днепровье,
Днепр
заставят
на турбины течь.
И Вы оказались правы: Днепр заставил течь на турбины! Но Вы не знаете, что была кровавейшая война с фашизмом. Вы не знаете, что Днепрогэс был захвачен врагами, взорван, снова возвращен родине и вторично отстроен!
О, если бы Вы видели величественный подвиг советского народа, отстоявшего дело коммунизма от всех темных сил капиталистического мира! Если бы Вы были тогда с нами! Какими изумительными стихами воспели бы Вы, Владимир Владимирович, нашу победу!
В стихах «Владикавказ – Тифлис» Вы обмолвились следующими словами:
Я жду,
чтоб гудки
взревели зурной,
где шли
лишь кинто
да ослик.
И снова Вы предвосхитили будущее. Давно уже прошло время, когда Грузия воспринималась лишь как идиллическая страна виноградников и горных пейзажей. Давно прошло время, когда можно было писать:
Пену сладких вин
На узорные шальвары
Сонный льет грузин.
Грузия стала индустриальной страной. Грузия льет сталь. Здесь вырос большой промышленный город Рустави. Ему недавно лишь минуло пять лет, а как он чудесно выглядит! Там, где была древняя Руставская крепость, теперь задымили заводские трубы, глухая степь озарена электрическими огнями. Бывшие крестьяне стали металлургами.
В своих путевых стихах Вы роняли меткие характеристики, маленькие жемчужины истинно светлой, веселой поэзии.
О Евпатории Вы написали:
Очень жаль мне
тех,
которые
не бывали
в Евпатории.
О Киеве:
Вот стою
на горке
на Владимирской,
Ширь вовсю —
не вымчать и перу!
Посмотрите же, Владимир Владимирович, как сейчас выглядят воспетые Вами места родной земли. Евпатория в летние месяцы отдается в полное владение детям. А Киев? Киев становится еще прекрасней, хотя и в нем хозяй-ничали враги. И если бы Вы могли сегодня подняться на Владимирскую горку, какая перед Вами открылась бы ныне ширь!
Из всех городов мира Вы больше всего любили Москву,
Не надо быть пророком-провидцем,
всевидящим оком святейшей троицы,
чтоб видеть,
как новое в людях роится,
вторая Москва вскипает и строится.
Вот она, Владимир Владимирович, «вторая Москва», Поедем по ее новым улицам. Не узнаете? Еще бы! Ну, скажите, например, какая это площадь? Триумфальная? Нет, не угадали. Это площадь Маяковского, Ваша площадь, Владимир Владимирович. Здесь будет стоять Ваш памятник. Его еще нет, но он будет. Вот место, где его подавят. Видите цветы? Памятника еще нет, а цветы уже носят. Вас, отдавшего «всю свою звонкую силу поэта» великому делу революции, любит советский народ. То, что Вы, поэт-провидец, предсказывали из далекого вчера, этот народ, ведомый Коммунистической партией, совершил. И он повторяет Ваши слова о том, что:
Партия —
это
миллионов плечи,
друг к другу
прижатые туго.
Партией
стройки
в небо взмечем,
держа
и вздымая друг друга.
Партия —
спинной хребет
рабочего класса.
Партия —
бессмертие нашего дела.
1953 г,
Станиславский
Он был высокий, элегантный, снисходительно согнувшейся над собеседником, в галстуке бабочкой – ни дать ни взять президент, даже, может быть, Соединенных Штатов. Не хватало за его спиной полосатого звездного флага. Вместо него был знаменитый серо-зеленый занавес с декадентской чайкой, которая вдруг раздваивалась, когда занавес раздвигался.
У него были добрые чеховские глаза, белые волосы, черные брови, бритое интеллигентное лицо и, разумеется, пенсне, но не традиционно чеховское, а более современное, в толстой черной оправе на черной ленте, к которому в экстренных случаях он еще прикладывал маленький театральный бинокль, чтобы лучше видеть мимику актера.
Ну, о нем много было написано, много пишется сейчас к, надеюсь, впоследствии будет написано еще больше и интереснее. Ввиду того что очевидцы, как известно, отчаянно врут, а историки тоже врут, но более правдоподобно, предупреждаю, что, будучи очевидцем, не смогу не врать.
Все дело в том, как соврать!
Станиславский один из первых советских крупных театральных деятелей круто повернул свой театр к современной, советской драматургии. Теперь это кажется естественным, а тогда воспринималось как большая дерзость. Как же, пустить на подмостки Художественного театра каких-то никому не известных молодых людей с сомнительной репутацией! Справедливость требует отметить, что в этом повороте театра к советским авторам громадную роль сыграл Павел Марков – друг всего нового. Он тогда заведовал в театре литературной частью, и заведовал блестяще.
На подмостках МХАТа появлялись подряд пьесы советских писателей. Сначала Булгаков, а потом Иванов, а потом Леонов, а потом Олеша и так далее. Взял Станиславский также и две мои пьесы: инсценировку «Растратчиков» и «Квадратуру круга», сценическая судьба которых тесно с ним связана. Одну пьесу – «Растратчики» – с божьей помощью и при содействии Станиславского провалили, а «Квадратура круга» с той же божьей помощью и при содействии Станиславского превратилась в подлинный сценический шедевр.
Так или иначе начало моей литературной деятельности – угодно это или не угодно – связано со Станиславским. Почти полтора года общались мы с ним на репетициях в театре, у него дома и даже в Кисловодске, куда я специально приезжал к нему поговорить.
Спорщик Станиславский был ужасающий, но и я в этом отношении ему не уступал.
Кричали мы со Станиславским иногда до утра, в полном смысле слова. Помню, однажды начали спор у него в директорском кабинете во время какого-то вечернего спектакля, а кончили в половине четвертого утра на лестнице, куда меня проводил Станиславский, причем оба после такой бурной ночи были свежие как огурчики, только немного охрипли.
– Вы не правы, – мягко улыбаясь, говорил на прощанье Станиславский, глядя на меня сверху вниз чеховскими глазами в нечеховском пенсне.
– Нет, вы не правы, – петушился я.
– Почему же? – спрашивал он и так нежно произносил это «почему же», что оно у него получалось довольно язвительное: «Почему же?»
– Потому, что если бы вы все так хорошо понимали в театре, как хотите мне показать, то во МХАТе никогда не было бы провалов, – резал я правду-матку. – Сознайтесь, были во МХАТе провалы или их не было?
– Были! – восторженно говорил Станиславский. – Еще какие! Вообще, должен вам заметить, что у нас семьдесят пять процентов спектаклей обычно проваливалось.
– Так чего же вы торжествуете?
– Вы ничего не понимаете. Спектакли непременно должны проваливаться. У Ленского тоже всегда проваливались спектакли. А знаете почему? Потому что никто, ни один самый гениальный режиссер не может предсказать, провалится пьеса или нет, до тех пор, пока в зрительный зал не посадят публику и не дадут занавес. Вот тогда все становится ясно, и то лишь на другой день,
– Из этого мне ясно, что сами вы ничего не понимаете в театре, а полагаетесь на случай.
– На интуицию! – шепелявил Станиславский.
– Ну и провалимся с вашей интуицией, попомните мое слово.
– Может быть, и даже наверное. Но во всяком случае, я не позволю превращать наш театр в «так называемые МХАТ» или, еще того хуже, в театр Мейерхольда. Она там пускай как угодно ломаются, а я не позволю стилизовать Яншина. Вы представляете себе, что получится, если вдруг наш Миша Яншин начнет двигаться по сцене вот этак… – И Станиславский вдруг преобразился и пошел походкой фараона, как бы только что сошедшего с древне-египетского барельефа, – боком, в профиль, странно вывернув руки. Мы расхохотались, помирились и разошлись до следующей встречи.
Спор наш заключался в том, что я требовал ультралевой, сверхмеиерхольдовскои постановки, будучи глубоко убежден, что по старинке ставить современные пьесы нельзя даже такому мировому театру, как МХАТ, а Станиславский, понимая, что я прав, из чувства своего чудовищного упрямства хотел доказать обратное: то есть что любую, самую современную и самую странную пьесу можно поставить в самых скромных, камерных формах: все дело во внутреннем самочувствии актеров, в сверхзадаче и в глубине содержания.
Наверное, он был прав, но, к сожалению, ни внутреннего глубокого самочувствия, ни сверхзадачи, ни содержания не было налицо. Да и зерна тоже не было. Ничего не было. Был лишь молодой неопытный автор, вытащенный из самой гущи жизни, и был великий режиссер, который совершенно не понимал этой гущи жизни и не знал, как взяться за ее изображение. До чего Станиславский был далек от действительности, свидетельствует такой, например, случай, который я хорошо помню.
Репетиции «Растратчиков». Репетирует жена Станиславского Лилина, которую он упрямо называет «Перевощикова». Сцена изображает комнату бухгалтера Прохорова. За сценой раздаются звонки: три длинных и два коротких, как и полагается в коммунальных квартирах. Лилина, кутаясь в серую шаль, идет отворять своему загулявшему мужу, Станиславский останавливает репетицию.
– Подождите, Перевощикова, на место. Что это за звонки?
Режиссер объясняет ему, что так бывает в жизни.
– Не понимаю! – отрывисто произносит Станиславский.
– Видишь ли, Костя, – говорит Лилина проникновенно; – сейчас жилищный кризис. Люди живут в коммунальных квартирах. В каждой квартире несколько семейств. А звонок один общий. Вот они и сговорились, что одним нужно звонить один раз, другим – два раза, третьим – один длинный и два коротких…
– Два коротких? – подозрительно спрашивает Станиславский. – Не верю. Наигрыш.
– Костя, но уверяю тебя!
– Не знаю, – говорит он уныло. – Перевощикова, вы фантазируете.
– Честное слово.
– Гм… Гм… В таком случае надо напечатать на афише, что это пьеса из жизни людей, не имеющих отдельной квартиры.
Станиславский очень доброжелательно относился к нам, новым драматургам Художественного театра, но имел о нас странное представление.
По случайности Булгаков, Олеша и я работали тогда в железнодорожной газете «Гудок», и Станиславский почему-то вообразил, что все мы рабочие-железнодорожники, и при случае любил этим козырнуть. Я сам слышал, как он кому-то говорил:
– Утверждают, что Художественный театр не признает пролетарского искусства, а вот видите, мы уже ставим вторую пьесу рабочего-железнодорожника, некоего Катаева, может быть, слышали?
Однажды Станиславский строго спросил меня:
– Вы любите оперетку?
Мне было стыдно признаться, что я люблю, но все же я заставил себя сказать правду.
– Очень.
– Да? – оживленно воскликнул Станиславский. – Серьезно? Это очень хорошо. Я сам обожаю хорошую оперетку. Только, знаете, не эту… венскую… московскую… А подлинную. Лекока. Вы любите Лекока? Вот это – настоящая оперетка. И конечно, ничего похожего на наших опереточных примадонн с их перьями, кружевами, непристойными движениями – словом, со всем тем, что называется «каскад».
Он оживился, сбросил чеховским жестом нечеховское пенсне и с увлечением стал посвящать меня во все тайны подлинного опереточного жанра.
– Вы знаете, что такое настоящая опереточная примадонна? О, вы не знаете, что такое настоящая опереточная дива! Мадам Жюдик. Вы слышали когда-нибудь о мадам Жюдик?
– Конечно, – сказал я.
– А откуда вы могли слышать? – с сомнением спросил он, надев пенсне и взглядом экзаменатора уставившись в мое лицо.
– Из Некрасова, – ответил я. – «Мадонны лик…»
– Да-да. Совершенно верно. «Мадонны лик. Взор херувима. Мадам Жюдик непостижима…» Именно так. Некрасов описал ее совершенно точно, как большой художник, – без малейшего наигрыша. Жюдик! Это феноменально. И в чем был ее секрет? Сейчас вам объясню Вообразите себе – дореволюционная, даже купеческая Москва, сад «Эрмитаж», гастроли оперетки с участием Жюдик. Народу – полно, и все богачи, миллионщики, целыми семьями, с женами, дочерьми, женихами. Сейчас уже этой Москвы Островского и в помине нет. Может быть, осталось один~два человека – и обчелся. И вот перед ними появляется Жюдик. Ничего опереточного: маленькая, скромненькая, гладко причесанная, в фартуке, наколочке, с ангельскими голубыми глазами, молитвенно поднятыми вверх; ручки сложены, как у причастницы. Она становится у рампы, посредине сцены возле суфлерской будки взмахивает ресницами и вдруг начинает божественным голоском петь такую похабщину, что даже привыкшие к разным видам фарсовые и шантанные завсегдатаи лезут от стыда под кресла. Вот это настоящая опереточная примадонна. А вы говорите – Татьяна Бах.
Не помню, писал ли в своих книгах Станиславский об оперетте, но о водевиле писал много и чрезвычайно интересно. Он оказался большим любителем водевиля, и это нас отчасти сближало, потому что мне до сих пор чрезвычайно нравится водевильная форма. Отсылаю читателей к книге Н. Горчакова[15]15
Автор имеет в виду статью Н. Горчакова «Работа К. С. Станиславского, заслуженного деятеля искусств РСФСР, над советской пьесой» в книге «Вопросы режиссуры (Сборник статей режиссеров советских театров)». М, «Искусство», 1954, с. 98 – 111.
[Закрыть] (забыл название). Что же касается оперетки, то помню еще вот что. Как-то на репетиции «Растратчиков», в перерыве, Станиславский снова заговорил со мной об оперетке.
– Оперетку должны играть непременно большие, замечательные артисты, иначе ничего не получится. Жанр оперетки по плечу только настоящему актеру – мастеру своего дела.
– Почему так?
– Потому что иначе не поверят.
– Кто?
– Зрители.
– А зачем нужно, чтобы зрители непременно верили чепухе, которую показывают в оперетке?
– Гм… Гм… – сказал Станиславский. – Если не поверят – не будут ходить в театр, и антреприза прогорит.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































