Читать книгу "Рождение двойника. План и время в литературе Ф. Достоевского"
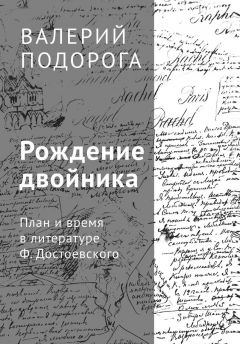
Автор книги: Валерий Подорога
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
«Но только что он заметил в себе это болезненное и до сих пор совершенно бессознательное движение, так давно уже овладевшее им, как вдруг мелькнуло пред ним и другое воспоминание, чрезвычайно заинтересовавшее его: ему вспомнилось, что в ту минуту, когда он заметил, что все ищет чего-то кругом себя, он стоял на тротуаре у окна одной лавки и с большим любопытством разглядывал товар, выставленный в окне. Ему захотелось теперь непременно проверить: действительно ли он стоял сейчас, может быть всего пять минут назад, пред окном этой лавки, не померещилось ли ему, не смешал ли он чего? Существует ли в самом деле эта лавка и этот товар? Ведь он и в самом деле чувствует себя сегодня в особенно болезненном настроении, почти в том же, какое бывало с ним прежде при начале припадков его прежней болезни. Он знал, что в такое предприпадочное время он бывает необыкновенно рассеян и часто даже смешивает предметы и лица, если глядит на них без особого, напряженного внимания. Но была и особенная причина, почему ему уж так очень захотелось проверить, стоял ли он тогда перед лавкой: в числе вещей, разложенных напоказ в окне лавки, была одна вещь, на которую он смотрел и которую даже оценил в шестьдесят копеек серебром, он помнил это, несмотря на всю свою рассеянность и тревогу. Следовательно, если эта лавка существует и вещь эта действительно выставлена в числе товаров, то, стало быть, собственно для этой вещи и останавливался. Значит, эта вещь заключала в себе такой сильный для него интерес, что привлекла его внимание даже в то самое время, когда он был в таком тяжелом смущении, только что выйдя из воксала железной дороги. Он шел, почти в тоске смотря направо, и сердце его билось от беспокойного нетерпения. Но вот эта лавка, он нашел ее наконец! Он уже был в пятистах шагах от нее, когда вздумал воротиться. Вот этот предмет в шестьдесят копеек; «…конечно, в шестьдесят копеек, не стоит больше!» – подтвердил он теперь и засмеялся. Но он засмеялся истерически; ему стало очень тяжело. Он ясно вспомнил теперь, что именно тут, стоя перед этим окном, он вдруг обернулся, точно давеча, когда поймал на себе глаза Рогожина. Уверившись, что он не ошибся (в чем, впрочем, он и до поверки был совершенно уверен), он бросил лавку и поскорее пошел от нее. Все это надо скорее обдумать, непременно; теперь ясно было, что ему не померещилось и в воксале, что с ним случилось непременно что-то действительное и непременно связанное со всем этим прежним беспокойством. Но какое-то внутреннее, непобедимое отвращение опять пересилило: он не захотел ничего обдумывать, он не стал обдумывать; он задумался совсем о другом»[64]64
Ф. М. Достоевский. ПСС. Том 8 («Идиот»). С. 187.
[Закрыть].
Несколько иначе, чем кн. Мышкин, но все же чрезвычайно схожие ауратические состояния испытывает Раскольников:
«Для Раскольникова наступило странное время: точно туман упал вдруг перед ним и заключил его в безвыходное и тяжелое уединение. Припоминая это время потом, уже долгое время спустя, он догадывался, что сознание его иногда как бы тускнело и что так продолжалось, с некоторыми промежутками, вплоть до окончательной катастрофы. Он был убежден положительно, что во многом тогда ошибался, например в сроках и времени некоторых происшествий. По крайней мере, припоминая впоследствии и силясь уяснить себе припоминаемое, он многое узнал о себе самом, уже руководясь сведениями, полученными от посторонних. Одно событие он смешивал, например, с другим; другое считал последствием происшествия, существовавшего только в его воображении. Порой овладевала им болезненно-мучительная тревога, перерождавшаяся даже в панический страх. Но он помнил тоже, что бывали минуты, часы и даже, может быть, дни, полные апатии, овладевшей им, как бы в противоположность прежнему страху, – апатии, похожей на болезненно-равнодушное состояние иных умирающих. Вообще же в эти последние дни он и сам как бы старался убежать от ясного и полного понимания своего положения; иные насущные факты, требовавшие немедленного разъяснения, особенно тяготили его; но как рад бы он был освободиться и убежать от иных забот, забвение которых грозило, впрочем, полною и неминуемою гибелью в его положении»[65]65
Ф. М. Достоевский. ПСС. Том 6 («Преступление и наказание»). С. 335.
[Закрыть].
Каждый раз все сначала… (как в игре, но ставкой является «память»). После припадка страдающий кн. Мышкин («Идиот») не воспринимает мир и людей вокруг, скорее припоминает, что есть эти люди, что есть этот мир, он припоминает то знание, какое сохранил, несмотря на тяжелое душевное расстройство (длившееся до 24 лет). Повторяю, не воспринимает, а припоминает, вот почему для него восприятие – типичное deja vu; он все время проверяет себя, не знает ли он эту вещь, не видел ли он ее когда-нибудь прежде, или тот разговор – не слышал ли он его уже где-нибудь, или то лицо – почему оно так знакомо, хотя он и не может сказать, видел ли его когда-нибудь, или те же глаза, которые все время преследуют его, и он по-прежнему уверен, что «знает» их. Вяч. Иванов прекрасно уловил этот разрыв: «Этот перевес Платонова анамнезиса над восприятием действительности делает его среди людей и глупцом и мудрым провидцем. Бывают минуты, когда анамнезис в нем вспыхивает и потрясает его как будто бы раздирает завесы, разделяющие внешний мир от того другого, и он ослепляет, волнует, сжигает душу как неожиданно явленное величие Зевса сжигает Семелу – и оставляет в душе на миг чувство несказанного блаженства и освобождения: это минуты, когда Мышкин падает в припадке эпилепсии. Столь сильна в нем эта первоначальная память, что до двадцати четырех лет он не смог обжиться в нашем мире и до сих пор ведет себя как «идиот»»[66]66
Вяч. Иванов. Лик и личины России. Эстетика и литературная теория. М.: 1995 С. 409.
[Закрыть].
Можно отметить несколько фаз в эпилептическом цикле: первая – вход-подъем, медленное развертывание моментов времени (цепочки событий-переживаний). Это стадия накопительная, продолжается, пока не образуется целая сеть таких эпилептических сигналов-предвестников и не возникнет ситуация вдруг-времени. Правда, до достижения высшей точки напряжения, эйфории, взрыва и высвобождения всех сил, может и не дойти; но когда все же «доходит», то высшая точка обрушивается (практически «мгновенно») в низшую – предел распада всех жизненных функций организма. Так образуется амплитуда перепадов или колебаний с постоянными циклами, которые, кстати, рассчитывает Достоевский, пытаясь предугадать критическое время наступления припадка. Выход из болезненного состояния намного более медленный, чем непредсказуемый вход в него. Два предела-точки ограничивают собой область аффекта: низшая и высшая нуждаются в промежуточном времени, которое только длится (скука, ничем не заполняемая пустота, грубее – просто дыра, куда проваливается время). Длительность припадка можно отметить на графике линией, то резко, почти мгновенно, взмывающей вверх, то медленно соскальзывающей вниз. Сверхценным опытом Достоевского является не клиника болезни, не сам припадок, не последующий выход из него с полным разрушением ауратического, с обнажением того ужаса, с которым страдающий сталкивается в «после-времени», а именно начало припадка – рассеянное блуждание в экзистенциальном времени ауры. Гигантское пятно облачно-туманной, сумеречной атмосферы перемещается по литературному пространству, в нем зарождается движение других образов; они кружатся вокруг зачарованного героя, пока не раздвинется занавес и не вспыхнет сияние… Пространственно-временные структуры не имеют четких форм и не могут описываться вне тех случайностей преобразования, которые они претерпевают в подобных состояниях. В романе «Идиот» как будто все высказано в отношении одного из ауратических опьянений:
«Он задумался, между прочим, о том, что в эпилептическом состоянии его была одна степень почти пред самым припадком (если только припадок приходил наяву), когда вдруг, среди грусти, душевного мрака, давления, мгновениями как бы воспламенялся его мозг и с необыкновенным порывом напрягались разом все жизненные силы его. Ощущение жизни, самосознания почти удесятерялось в эти мгновения, продолжавшиеся как молния. Ум, сердце озарялись необыкновенным светом; все волнения, все сомнения его, все беспокойства как бы умиротворялись разом, разрешались в какое-то высшее спокойствие, полное ясной, гармоничной радости и надежды, полное разума и окончательной причины. Но эти моменты, эти проблески были еще только предчувствием той окончательной секунды (никогда не более секунды), с которой начинался самый припадок. Эта секунда была, конечно, невыносима. Раздумывая об этом мгновении впоследствии, уже в здоровом состоянии, он часто говорил сам себе: что ведь все эти молнии и проблески высшего самоощущения и самосознания, а стало быть, и «высшего бытия» не что иное, как болезнь, как нарушение нормального состояния, а если так, то это вовсе не высшее бытие, а, напротив, должно быть причислено к самому низшему. И однако же он все-таки дошел наконец до чрезвычайно парадоксального вывода. „Что же в том, что это болезнь? – решил он наконец. – Какое до того дело, что это напряжение ненормальное, если самый результат, если минута ощущения, припоминаемая и рассматриваемая уже в здоровом состоянии, оказывается в высшей степени гармонией, красотой, дает неслыханное и негаданное дотоле чувство полноты, меры, примирения и восторженного молитвенного слития с самым высшим синтезом жизни?” Эти туманные выражения казались ему самому очень понятными, хотя еще слишком слабыми. В том же, что это действительно „красота и молитва”, что действительно „высший синтез жизни”, в этом он сомневаться не мог, да и сомнений не мог допустить. Ведь не видения же какие-нибудь снились ему в тот момент, как от хашиша, опиума или вина, унижающие рассудок и искажающие душу, ненормальные и несуществующие? Об этом он здраво мог судить по окончании болезненного состояния. Мгновения эти были именно одним только необыкновенным усилием самосознания, – если бы надо было выразить это состояние одним словом, – самосознания и в то же время самоощущения в высшей степени непосредственного. Если в ту секунду, то есть в самый последний сознательный момент пред припадком, ему случалось успевать ясно и сознательно сказать себе: „Да, за этот момент можно отдать всю жизнь!”, то, конечно, этот момент сам по себе и стоил всей жизни. Впрочем, за диалектическую часть своего вывода он не стоял: отупение, душевный мрак, идиотизм стояли перед ним ярким последствием этих «высочайших минут». Серьезно, разумеется, он не стал бы спорить. В выводе, то есть в его оценке этой минуты, без сомнения, заключалась ошибка, но действительность ощущения все-таки несколько смущала его. Что же в самом деле делать с действительностью? Ведь это самое бывало же, ведь он сам же успевал сказать себе в ту самую секунду, что эта секунда, по беспредельному счастию, им вполне ощущаемому, пожалуй, и могла бы стоить всей жизни. «В этот момент, – как говорил он однажды Рогожину в Москве, во время тамошних сходок, – в этот момент мне как-то становится понятно необычайное слово о том, что времени больше не будет. Вероятно, – прибавил он, улыбаясь, – это та же самая секунда, в которую не успел пролиться опрокинувшийся кувшин с водой эпилептика Магомета, успевшего, однако, в ту самую секунду обозреть все жилища Аллаховы“»[67]67
Ф. М. Достоевский. ПСС. Том 8 («Идиот»). С. 187–189.
[Закрыть].
Поведение сомнамбулы: кн. Мышкин воспринимает мир в полубессознательном состоянии, как ребенок, не «зная» и не «опознавая». Когда же приходит в себя, то все время силится припомнить то, что с ним случилось прежде, когда он воспринимал мир непосредственно, т. е. не будучи вполне в сознании. Ничего не помнить, зато припоминать – это уже форма для поиска психологической идентичности героя. И здесь действительно hiatus, выпадение, остановка, разрыв, следы «маленькой смерти», вновь пережитой, вот что отделяет одно состояние мира (воспринимаемого) от другого (припоминаемого). Время распадается на мгновения, не связанные между собой, «отдельные» и автономные, мгновения-монады; каждое из них имеет собственную форму «я», но нет и не может быть вневременного (концентрированного) единства «я». В центре потока этих мельчайших единиц темпорального потока «вдруг-мгновений» – точка эксцентрации субъекта, через которую он проходит. Не субъект управляет временем, а время им, оно его эксцентрирует – постоянно выбрасывает из центра, из некоего привилегированного места, где он мог бы осуществлять над ним полный контроль. Вот что заставляет искать места замедления, рассеянности, остановки времени; и ауратическое переключение психических состояний позволяет достигать этого вполне успешно. Время начинает двигаться по замкнутому кругу, оно почти не движется, аура смыкает начало временного цикла с его концом. Эксцентричность – как черта, характеристика внутреннего психического разлома персонажа. Нет концентрации и внимания, нет и длительной памяти, есть лишь припоминание, если это и память, то кратковременная. Если же нет воспоминания или долгой памяти, то нет и ^-идентичности, развития того же самого «я», контролируемого во внутреннем экзистенциальном времени. Нет автобиографии, нет времени собственного, принадлежащего «мне». Тело во времени эксцентрации теряет феноменальные границы, экзистенцию, нить существования в бытии.
Произведение и болезнь – столкновение и разрыв. Или, быть может, неустанный поиск примирения? Да и есть ли нужда в том, чтобы исследовать клинику болезни? Не следует ли понять болезнь Достоевского не как «клинику», а как событие, которое вторгается в биографическое время и преобразует его в Произведение, вводит в последовательность сюжетов жизни и символов, обслуживающих и нейтрализующих разрушительную энергию события. Произведение не прямо и не в «другом языке» является дублированием физиологических или психических нарушений, патологии или глубокого душевного расстройства. Духовно-жизненным импульсом страдающего писателя является не то, что с ним случилось физиологически, а то, как он мог сам себя понять в качестве пораженного болезнью, символически преобразовать ее, создать для себя новую, воображаемую анатомию, если угодно, другую форму жизни. Ведь тот факт, что Достоевский при определенных обстоятельствах впадал в падучую болезнь, испытывал ночные кошмары или слуховые галлюцинации, не может быть прямо введен в произведение. Мортальный опыт свершающегося (припадок) невыразим в языке, этот опыт невозможно психологизировать, но он может быть сохранен в ряду символов. Болезнь, наделяя существование различными качествами переживания, т. е. дополняя повседневное переживание и доводя его до аффекта, преобразуется в то, что можно определить как изначальную символическую матрицу. Отсылая к началу произведения, болезнь вместе с тем остается всегда той же самой и там, где она есть и всегда будет, в своем ужасающем безличии (клиническое свидетельство). Произведение – своего рода символический фильтр, и оно действительно отбирает, усиливает, распределяет материал переживаний, наделяет значением то, что не имеет само по себе никакой ценности. Персонажи-эпилептики Достоевского – это образы некой жизни, чья суть сведена к форме эпилептического порыва, а еще, точнее, они – лишь способ интерпретации времени и памяти. С точки зрения здравого смысла их безумие очевидно, но внутри повествования их функции специализированны и крайне ограниченны, они – символы неких состояний, «мертвые двойники», но не «живые лица». Разве не всякий писатель стремится стать абсолютным мимом – проникать повсюду и не быть нигде, исчезать и появляться, развертывать новые «органы» чувств, обрастать двойниками и двойниками двойников, направлять векторы сил, изобретенных им отклонений и психических аномалий на собственных персонажей? Именно этот расширяющийся опыт «ненормальности» и освобождает писателя от подступающего безумия. Здесь, вероятно, приходит спасение от безумия. Но спасаются самим безумием.
На первый взгляд как будто очевидна прямая связь между болезнью и творчеством (и свидетельств в архиве современной психиатрии множество)[68]68
См. прежде всего недавно переизданную работу: В. Ф. Чиж. Ф. М. Достоевский как психопатолог и криминолог; В. Ф. Чиж. Болезнь Н. В. Гоголя. Записки психиатра. М., «Республика», 2001; а также: О. Н. Кузнецов, В. И. Лебедев. Достоевский над бездной безумия. М., «Когито-Центр», 2003.
[Закрыть]. Из феномена болезни нельзя вывести произведение, но вот в произведении болезнь вполне может проявиться, хотя не прямо, а опосредованно, в ряду многих других символически преобразованных переживаний. Болезнь – как элемент в конструкции произведения; часто сам писатель выступает в качестве семиолога собственного заболевания. Если мы попытаемся провести сопоставление между опытом эпилептического заболевания в литературе Достоевского и клиническими наблюдениями, например, того же Е. Блейлера, то можно поразиться совпадениям. И это не внешние и случайные, это совпадения на уровне целостных образов, гештальтов (символов), где даже микрологические описания особенностей протекания болезни удивительно схожи. Но если для психиатра клиническая картина заболевания – главная ценность, то для художника болезнь интересна как возможность соотнести себя с пограничным опытом. Однако что это за пограничный опыт, опыт-предел, «переход за черту», столь высоко ценимый Достоевским? Можно сказать, что это опыт предчувствия чего-то необычного – события, которое позволит увидеть мир в ином освещении. Вся симптоматика болезни расписана Блейлером, буквально, во всех известных Достоевскому-пациенту клинически достоверных подробностях. Тут можно найти и точное описание ауры:
«Прелюдией самого припадка является аура. Она состоит чаще всего из каких-нибудь парэстезий, боли, чувства похолодания или вздувания (отсюда и название) – последнее, впрочем, не так часто наблюдается, – „колесико кружится в желудке“; затем могут быть настоящие галлюцинации, особенно зрительные, очень часто также вкусовые. Видения часто имеют тенденцию надвигаться на больного и все увеличиваться в тот момент, когда они прикасаются к его груди, сознание исчезает. В „рефлекторной эпилепсии“ с (более редкой), когда припадки вызываются раздражением рубца или другого болезненного места, аура может начаться в виде ощущений в соответствующей части тела. В отдельных случаях больной иногда галлюцинирует сложные сцены. Психическая аура может состоять во внезапном изменении настроения или в субъективно ощущаемом расстройстве мышления. Наряду с этим наблюдается и двигательная аура, состоящая во всевозможных, большею частью ограниченных клонических и тонических у дорогах, молниеносных подергиваниях или сложных автоматических движениях, вроде бесцельного бега (aura cursoria); редко дело доходит до сложных действий вроде раздевания и т. п.»[69]69
Под эпилепсией понимается «…внезапное, зачастую молниеносное появление судорог во всей мускулатуре, которые носят тонический, потом клонический характер, тянутся несколько минут и связаны с тяжелым расстройством сознания, имеющем вид полной потери сознания». (Dr. Е. Bleuler. Руководство по психиатрии. Берлин, 1920, С. 362–363.)
[Закрыть].
Далее, выделяются наиболее показательные черты в симптоматике заболевания, которые мы в поразительном изобилии находим у Достоевского:
«…при наступлении общих судорог воздух, большей частью, выжимается сквозь закрытую голосовую щель, вследствие чего получается характерный крик (реже наблюдается дикий крик ужаса, относящийся к психической ауре или к aura cursoria). Большею частью одновременно с криком больной падает как бревно, не считаясь с опасностью падения. Напряжению мускулатуры в некоторых случаях как будто предшествует расслабление ее. Совершенно неподвижное одеревенение, можно сказать, никогда не наступает; какая-нибудь одна сильнее сократившаяся группа мышц берет верх над антагонистами и производит, таким образом, медленное движение; особенно часто берет верх сначала одна сторона, потом другая. В тоническом состоянии появляется конечно livor, доходящий в тяжелых припадках до страшного почернения; через полминуты примерно можно увидеть толчки в отдельных мышцах, они быстро распространяются и переходят в дикие энергичные движения всех частей тела. Через некоторое время начинает сквозь хаос движений пробиваться известная координаторная целесообразность, а именно в смысле обороны. Во всяком случае, движения постепенно слабеют, уступают место полному покою; большею частью за этим следует еще несколько постепенно слабеющих толчков. Координация и в известной степени сила движений возвращаются лишь постепенно, в течение нескольких минут, а то и дольше. Лишь в исключительных случаях сознание возвращается сразу или сейчас же по прекращении двигательного припадка; большей частью больной собирается с мыслями постепенно, причем степень ясности очень колеблется; ориентировка, поначалу невероятная, проясняется сначала в отдельных вещах, затем при оклике, а потом и целиком. Больной просыпается не из небытия, а как бы со сна»[70]70
Dr. Е. Bleuler. Руководство по психиатрии. С. 363–364.
[Закрыть].
Или еще:
«Если сознание теряется лишь на несколько секунд и больной при этом не падает (это сопровождается большей частью побледнением, реже покраснением, неподвижным взглядом, иногда небольшими движениями губ и языка), тогда это называется absence или petit mal (в противоположность grand mal – вполне выраженному припадку»[71]71
Там же, с. 364. См. также фундаментальное исследование: А. Крейндлер. Эпилепсия. Клинические и экспериментальные исследования. М., Медгиз, 1960.
[Закрыть].
Аура – и объект, и радуга, и облако, и небесное свечение – одним словом, некое отмечаемое самим Достоевским реальное переживание фантастичности («нереальности») происходящего, и это не сон и не явь, а нечто промежуточное, переходное. Санкт-Петербург – не город, а белесый плотный туман, подымающийся над чухонскими болотами. Включение ауры, или ауратизация предметов и события, что происходит или может произойти, создает канву, которой придерживается читатель, чтобы не утратить истину реального. Сигналы подаются постоянно и отовсюду. Так, Раскольников и Свидригайлов (совершившие «тяжкие» преступления) существуют в симптоматическом кругу глаголов от «забылся» до «опомнился»[72]72
Ф. М. Достоевский. ПСС. Том 6 («Преступление и наказание»), с. 90–91.
[Закрыть]. Важно опознать в ауре некое состояние, которое предшествует… является постоянным для всех возможных планов, прежде всего для плана эпилептического и сновидческого (или, точнее, для некоего промежуточного состояния). А еще более точно, аура – это такое состояние зачарованности, которое перекрывает собой все планы, сводит их вместе. Возможно, что только благодаря этой вспыхивающей внезапно ауре, предшествующей повествованию («рассказу»), и начинается литература Достоевского. Мечтать, жить как во сне, испытывать мистическое состояние, погружаться в фантастические, чудесные образы – без этого нет начала письма. Можно согласиться с А. Л. Бемом, который видит в литературе Достоевского специальный случай «драматизации бреда»[73]73
Ср.: «…этот прием с известным основанием можно рассматривать как своеобразную драматизацию бреда, т. е. развертывание явлений галлюцинации и бреда вовне как реального события, но окрашенного в тона, выдающие его происхождение». (А. Л. Бем. Исследования. Письма о литературе. М., «Языки славянской культуры», 2001, с. 270.)
[Закрыть]. То, что мы называем эпилептической ауратизацией, он определяет несколько иначе, усматривая в описаниях Достоевским паранормальных состояний психики осознанно разработанный прием («болезнь» относится к символическим ценностям литературного опыта). Этот великий исследователь, благополучно забытый сегодня, весьма тонко рефлектирует двусмысленность некоторых литературных приемов. Ведь вопрос в следующем: если аура-состояние необходимо для того, чтобы указать на реальность, существующую вне тех возможных проекций, которые удерживают ее в горизонте сознания («здравого рассудка»), то почему, собственно, не рассматривать прием Достоевского как поиск другой реальности, в которой события совершаются так, как могли бы свершаться, если бы их не блокировали предрассудки здравого смысла? Мы скорее безумны, нежели разумны. Если мы и разумны, то благодаря лишь этому почти инстинктивному миметическому неразумию. Мимесис против разумности, против управлямого и наделенного смыслом подражания. Поэтому Достоевский не просто пользуется бредом или галлюцинациями, снами и сновидениями, это для него – основной миметический материал литературы.









































