Читать книгу "Рождение двойника. План и время в литературе Ф. Достоевского"
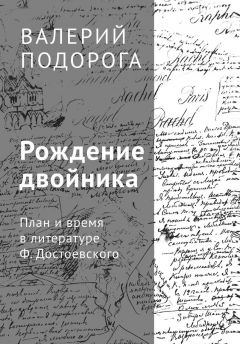
Автор книги: Валерий Подорога
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
3. Произведение против безумия
Болезнь преследует и настигает. Психосоматические события, взятые во времени клинического описания, означают только самих себя, т. е. остаются чисто клиническими знаками. История клиники не может быть историей Произведения, она – лишь психофизиологическая модель жизни пациента. Обладая объективно исчисляемым временем и конкретной локализацией (определенный участок мозга, «левовисочная эпилепсия» Достоевского), переходя на уровень произведения, они получают совершенно иное измерение: эпилептическая аура, конечно, может иметь символические и композиционные подобия, она может быть повторена в символах святости (и там же уничтожена, поскольку она, возможно, более уместна для святых и идеальных существ, таких как кн. Мышкин). Болезнь – как литературный прием, как условие наиболее точного описания состояния миметических возможностей в каждый отдельный момент повествования. Например, Кафка говорит, что его «разорванные легкие» не относятся к его телу, и боль от этой раны тоже, но является символом его отношений с женщиной по имени Фелиция. С точки зрения внутреннего опыта эта символизация и будет фильтром. Да, я поражен туберкулезом, но что это значит для меня? Могу ли я использовать болезнь для удовлетворения собственных психических нужд? Или когда Достоевский говорит о неизъяснимом блаженстве мгновения припадка, не является ли это эротизацией энергии (действующей против жизни)? Не используется ли здесь отрицательная энергия болезни для воссоздания некоторого вида эротической избыточности, ради конфигурации всего пространства литературного опыта? Другими словами, важно, что страдающий субъект делает с собственной болезнью. А он борется с болезнью собственным творчеством, разрабатывая символические средства защиты. Другими словами, символическая работа является естественной работой по сохранению психосоматического целого, единого образа тела, без которого легко впасть в болезнь как процесс необратимо патологический.
(1) Суждение Типпокраша. Вот почему так интересно наблюдать, как безразличие к клиническому содержанию болезни, ее угнетающей периодичности, «страху смерти» отыгрывается в значимую символику болезни как отношения профанного/священного. Именно в опыте «быть-не-быть» болезнь опознается Достоевским под именем священного (или «идеального», «чистого», «возвышенного» и т. п.). Область священного образуется жертвой. Персонаж-жертва – маска священного. Однако священным является, конечно, не сам персонаж, а его функция в отношении с другими персонажами. И прежде всего отношение к тому, что наделяет персонаж «святостью». Как известно, больной-эпилептик часто сообщается с «богами». Эпилептическая аура – род теофании, богоявленности времени. Тот, кто впадает в это состояние, соприкасается с богами, точнее, даже имитирует их присутствие в себе, подражает богам так, что как будто ими и становится. Если мы представим эпилепсию по старогречески, именно как «священную болезнь»: «<…> по отношению к этой болезни (люди – В. П.) различно себя держат, при всяком виде этого страдания приписывая причину богу. И при этом они называют не одно божество, но многие. В самом деле, если больные будут подражать козе и мычать и при этом будут повергаться на правую сторону, то они называют как причину этого матерь богов. Если же больной будет издавать более резкий и сильный голос, то говорят, что он похож на коня, и причину болезни относят к Посейдону. Если же у больного будут выходить твердые испражнения, что часто случается у страдающих этой болезнью, то здесь выступает на сцену имя Енодия; если же он выделяет более жидкое и часто, как птицы, то это – Аполлон Номий. Если же испускает изо рта пену и топает ногами, то виною Арес. Когда же ночью бывают страхи, испуг, безумие и припадки ужаса, причем больные соскакивают с постели и бегут, то утверждают, что это ковы Гекаты и наваждения героев»[74]74
Гиппократ. Избранные книги. М., 1994. С. 498–499.
[Закрыть]. Тогда следует признать и то, что эпилептик конвульсивно мимирует силу специального бога, то ли это будет Арес, то ли Гея, то ли Зевс. Страдающие падучей наказываются за эту попытку подражания тому, кем они стать не могут, но с чем они вступили в непосредственный контакт. Кара богов неизбежна для всякого, кто попытался стать «богом», т. е. совершить богоборческий акт. В любом случае, момент подражания богу – это психомиметическая катастрофа.
Пояснение к позициям персонажей романа «Идиот», например, можно дать, выделив линию напряжения, проходящую сквозь все произведение. Обычно выделяются отношения, сложившиеся между четырьмя ведущими героями: кн. Мышкиным, Настасией Филипповной, Рогожиным и Аглаей. Конструкция воспроизводит положение сторон мирского/священного в том драматическом контексте, который задается темой «МТХ», мертвого тела Христа. Геометрически ее можно представить в виде прямоугольника, состоящего из двух треугольников. Так Настасья Филипповна и кн. Мышкин из романа «Идиот» соотносимы в качестве «неудачных» или «стертых» святых ликов, чего нельзя сказать об утяжеленно-земных личинах Аглаи и Рогожина, для которых мертвое тело Христа должно найти свое место в пантеоне богов Земли (мать сыра Земля). Великое событие Воскресения оказывается недоступно пониманию «земных» персонажей. Перед зеркалом «МТХ» («Мертвое тело Христа») одни герои Достоевского стремятся к высшему и возвышенному, наверх, подняться над собой, «взлететь», «стать лучше и чище», «раскаяться»; другие остаются внизу, влекомые тяжестью порока и вины… хотя и для них не заказан путь к обновлению. Картина Гольбейна-мл. всегда между, она структурный символ, управляющий, например, отношениями драматизации в романе «Идиот». Почему? Как мы знаем, образ «МТХ» принципиально двойственен: в нем так и не разрешено противоречие между двумя ипостасями единого образа Христа, божественной и человеческой природой.

В первом треугольнике – кн. Мышкин – И. Ф. – Рогожин – отношения героев наделяются символическим значением благодаря «МТХ». Появления и исчезновения этих странных двойников, встреча, соперничество и их любовь, обмен крестами и «духовная побратимость», признания, наконец, убийство. Отношения их приобретают осмысленность благодаря линиям действия, которые определяются позицией Н. Ф., а она остается в центре их психомиметического конфликта. Итак, одна линия – это кн. Мышкин – Н. Ф. – Рогожин; другая: Н. Ф. – кн. Мышкин – Аглая.
Конечно, ни Аглая, ни Рогожин не могут занять центральную позицию, они вторичны и всегда «добавляются», но и без них ничего не получится. Другое дело, Н.Ф. Это персонаж, в котором легко читается другая сторона, неземная, недоступная людской молве, – образ «попранной Богородицы». Впрочем, и кн. Мышкин – почти идеал «совершенного человека», чуть ли не точная копия Иисуса Христа. Может быть, для многих персонажей Достоевского психическая болезнь приходит после встречи с Высшим существом, и она лишь выразительный телесный символ этого события.
(2) «Травмарода». Версия М.В. Вояоцкого. Пожалуй, основное, что следует отметить в интерпретации Волоцкого, – это то, что личные особенности заболевания и черты характера Достоевского выводятся из родовых признаков поведения членов «семьи» Достоевских. К ним относятся: своеволие-кротость, садомазохистическая полярность, эпилептоидная обстоятельность (вязкость, внимание к самым несущественным мелочам, формализм и т. п.), взрывчатость и несдержанность, «эмоциональные срывы». В любом случае, интерес представляет биполярность передаваемых качеств, которая в той или иной степени распространяется на всех представителей рода Достоевских, практически без исключения. Характер Достоевского – одна из вариаций характерологических качеств рода. Другими словами, он включает в себя (на правах «гениального» представителя рода) все многообразие полярных тенденций. Правда, с оговорками, но болезнь Достоевского представляется следствием некой «травмы рода», или, точнее, психическо-генетической травмы всего «родоначалия». Болезнь же в качестве «травмы рода» не может быть преодолена, «изжита», ни в какой культурной форме (в том числе и литературной). Волоцкой включает болезнь в литературу Достоевского, исключая ее символическую репрезентацию и «переработку» в художественных образах. Болезнь, по его мнению, всегда равна себе и является воспроизведением этой первичной родовой травмы.
А так как родовая жизнь (через проявление в личности Достоевского) находится в стадиальном процессе передачи основных эпилептоидных признаков, то она не поддается никакому обобществлению или «снятию» в границах литературы, но выступает в ней так, как она есть (а не как культурная форма). Все это и позволяет Волоцкому перейти к описанию «личности» Достоевского на основе шизоидной матрицы: «Преимущественные гиперестетики чаще всего бывают люди застенчивые, любящие уединение среди природы или книг. Всякий жизненный толчок, всякая шероховатость, всякий укол самолюбию воспринимается ими с повышенной болезненностью. „Я тщеславен так будто кожу с меня содрали, и мне уже от одного воздуха больно”, – жалуется один из героев Достоевского („Записки из подполья”). Подобная „обнаженность нервов'' побуждает шизоида искать такой среды, которая всего менее бы ранила. Чаще всего это выражается в форме так называемой „моллюскообразной” реакции, когда человек стремится уйти в самого себя, забиться в свой угол, забаррикадироваться от внешнего мира всеми возможными средствами. Как рак-отшельник находит защиту в найденной пустой раковине, так же и гиперстетический шизоид стремится найти такую среду, которая могла бы его защитить от толчков и уколов внешней жизни»[75]75
М.В. Волоцкой. Хроника рода Достоевского. 1506–1933. М., 1933. С 370.
[Закрыть]. Вполне можно, следуя «генеалогическому» плану Волоцкого, отыскать для каждого из персонажей Достоевского прототипы в неких клинических родовых масках, являющих собой характерологически определенные признаки родового опыта заболевания.
(3) «Отцеубийство»: версия 3. Фрейда. В «случае» Достоевского Фрейд различает органическую эпилепсию и аффективную и возвращается к имманентному плану толкования эпилепсии как тяжелой формы истерии, отрицая ее органическое происхождение, заново ставя вопрос об этиологии заболевания. Гипотеза Фрейда – только гипотеза, не приговор, но она отличается достаточной обоснованностью, разумеется, в границах используемого метода. Хотя многое в этой версии начинает выглядеть надуманно и даже комично. Стремление Фрейда на основании доступных ему биографических источников дешифровать ряд жизненных обстоятельств, воспоминаний и черт характера Достоевского с помощью понятий психоанализа дает возможность болезни занять неслыханное место в жизни писателя (которая та никогда не занимала). Цепь аргументации следующая: болезнь начинается с известия о смерти отца («первый» эпилептический припадок, хотя это вовсе не «факт»). Причиной является амбивалентное отношение к отцу (как у всякого мальчика), но особо остро проявившееся из-за деспотического нрава отца. Отец и любим, и ненавидим; его любят, одновременно желая ему смерти. Отсюда усиление комплекса Эдипа, бисексуальность, игра садомазохистических тенденций – привычная норма понимания развития детской сексуальности в психоанализе. Смерть отца истолковывается как событие, раскрывающее «преступный замысел» сына: он не убил отца, пускай так, но он желал убить, а раз тот «мертв», то вина опять-таки на сыне, желавшем его смерти (ведь желание сбылось).
Действительно, как отнестись к тому, что мы находим в «Братьях Карамазовых»?
«Убил отца он (Смердяков), а не брат. Он убил, а его научил убить… Кто не желает смерти отца?
– Вы в уме или нет? – вырвалось невольно у председателя. – То-то и есть, что в уме… в подлом уме, в таком же, как и вы, как все эти… р-рожи! – обернулся он вдруг на публику.
– Убили отца, а притворяются, что испугались, – проскрежетал он с яростным презрением.
– Друг перед другом кривляются. Лгуны! Все желают смерти отца…»[76]76
Ф. М. Достоевский. Том 15 ПСС («Братья Карамазовы»). С. 117.
[Закрыть].
Круг почти замкнулся, не хватает нескольких свидетельств. И они быстро находятся. Начиная с раннего детства Достоевский боялся умереть во сне и даже оставлял записки: не хоронить столько-то дней… Фрейд делает вывод: отношение к отцу было выражено в страхе перед наказанием за желание его смерти, и он преследовал с самого детства, замещаясь страхом перед смертью во сне. Теперь только один шаг к тому, чтобы сказать: «Ты захотел убить отца, дабы самому стать отцом. Теперь ты – отец, но мертвый отец. И при этом теперь отец убивает тебя»[77]77
3. Фрейд. Художник и фантазирование. М., 1995. С. 290.
[Закрыть]. Хорошим подспорьем является и тот факт, что, по признанию самого Достоевского, на каторге в Сибири припадки исчезли и он почувствовал себя совершенно здоровым и крепким. Цикличность эпилептических припадков и есть выражение этой тенденции к самонаказанию. «Малая смерть» как момент наказания, причем всегда последнего, дарующего избавление от вины. После припадка, по мере возращения памяти, ухода «страха смерти», начинается творческая активность, которая затем вновь наталкивается на внутреннее, постоянно нарастающее требование наказания. Достоевский творит благодаря этой непрерывной цепи самонаказаний. Побуждая к творчеству, самонаказание, оказывается истинной целью творчества[78]78
А.Л. Бем в работе «Достоевский. Психоаналитические этюды» вполне справедливо ограничивает применение техники психоаналитического дознания, полагая, что оно «возможно только до той границы, до которой доводят закрепленные в слове следы когда-то реальных у автора душевных переживаний». (А. Л. Бем. Исследования. Письма о литературе. М., 2001. С. 261.) Но все дело именно в «границе», как мы можем ее понимать с точки зрения Произведения (не автора), т. е. с точки зрения того, что действует в нем с неослабевающей силой свободной энергии. Произведение в этом противостоит тексту, нейтральной и равной себе матрице изменяющихся контекстов смысла, претендующей на абсолютное сообщение о Мире.
[Закрыть].
III. Сон и явь. Другие планы, дополнительные
1. Идея «чистого разума». План сновидный
Полуобморочное состояние, на грани видений и галлюцинаций, высокая температура, озноб, сонливость, бред – много и других признаков «болезни» главного героя. Например, неустойчивость психики, подвижность, «резкий» переток эмоций от одного полюса к другому. Такие состояния стали психической нормой для многих героев Достоевского. Часто трудно отличить их сновидения от реально происходящего события. По отношению к повествованию, сновидение, или, точнее, картина сновидения, представленная во всех деталях, выглядит наиболее ярко и реалистично. Все смещено. Достаточно сравнить сновидение Кафки и Достоевского, чтобы убедится в этом. У Кафки абсурд сна банален, приземлен, сон раскрывается не в какой-то тайне, а как особая реальность, не сводимая к «подлинной» и «повседневной» реальности. И этот переход от реальности-з^^ к реальности-там^ сновидной, совершается мгновенно, становясь композиционным принципом литературы Кафки. Исчезновение реальности в тот же миг, как начинается повествование. А это значит, что проблемы сновидного не существует: романы Кафки – это чисто сновидные конструкции, и их перцептивный (чувственный) строй подчиняется порядку сновидного. Замкнутое на себя произведение Кафки реализует программу сновидений: литература из сна и во сне; то, что Кафка называл «проснуться во сне». Достоевский же строит свое толкование сна, «картины сна», совершенно иначе. Сон более реален, чем реальность. И не потому, что вступает в конкуренцию с реальностью, а потому, что его скрытая логика является ключом к реальности. Кошмар и есть Реальность (с большой буквы). Тогда сон – это тайная логика разума, в которой движение спутанных и неясных дневных переживаний находит для себя наиболее полное, яркое и точное выражение.
«Сны, как известно, чрезвычайно странная вещь: одно представляется с ужасающей ясностью, с ювелирски-мелочною отделкой подробностей, а через другое перескакиваешь, как бы не замечая вовсе, например, через пространство и время. Сны, кажется, стремит не рассудок, а желание, не голова, а сердце, а между тем какие хитрейшие вещи проделывал иногда мой рассудок во сне!»[79]79
Ф. М. Достоевский. ПСС. Том 25 («Сон смешного человека»). С. 108.
[Закрыть].
«Иногда снятся странные сны, невозможные и неестественные; пробудясь, вы припоминаете их ясно и удивляетесь странному факту: вы помните прежде всего, что разум не оставлял вас во все продолжение вашего сновидения; вспоминаете даже, что вы действовали чрезвычайно хитро и логично во все это долгое, долгое время, когда вас окружали убийцы, когда они с вами хитрили, скрывали свое намерение, обращались с вами дружески, тогда как у них уже было наготове оружие и они лишь ждали какого-то знака; вы вспоминаете, как хитро вы их наконец обманули, спрятались от них; потом вы догадались, что они наизусть знают весь ваш обман и не показывают вам только вида, что знают, где вы спрятались; но вы схитрили и обманули их опять, все это вы припоминаете ясно. Но почему же в то же самое время разум ваш мог помириться с такими очевидными нелепостями и невозможностями, которыми, между прочим, был сплошь наполнен ваш сон? Один из ваших убийц в ваших глазах обратился в женщину, а из женщины – в маленького, хитрого, гадкого карлика, и вы все это допустили тотчас же, как совершившийся факт, почти без малейшего недоумения, и именно в то самое время, когда, с другой стороны, ваш разум был в сильнейшем напряжении, выказывал чрезвычайную силу, хитрость, догадку, логику? Почему тоже, пробудясь от сна и совершенно уже войдя в действительность, вы чувствуете почти каждый раз, а иногда с необыкновенною силой впечатления, что вы оставляете вместе со сном что-то для вас неразгаданное? Вы усмехаетесь нелепости вашего сна и чувствуете в то же время, что в сплетении этих нелепостей заключается какая-то мысль, но мысль уже действительная, нечто принадлежащее к вашей настоящей жизни, нечто существующее и всегда существовавшее в вашем сердце; вам как будто было сказано вашим сном что-то новое, пророческое, ожидаемое вами; впечатление ваше сильно, оно радостное или мучительное, но в чем оно заключается и что было сказано вам – всего этого вы не можете ни понять, ни припомнить»[80]80
Ф. М. Достоевский. ПСС. Том 8 («Идиот»). С. 377–378.
[Закрыть].
День отрицается в пользу ночи. Сон ведом «своей» логикой, и каждый момент сна оправдан с точки зрения разума. Сон как особое состояние разумной жизни. И поскольку сон, сновидение – это замедление жизни, ее «остановка». Как ни странно, но сновидные состояния героя, его галлюцинаторная активность есть выход из принудительного хаоса неорганизованной жизни. На какое-то мгновение, но именно во сне восстанавливаются все права разума, более того, становится отчетливо ясным отношение разума к жизни, чью тайну он хранит. Сновидение проявляет скрытую силу разумной жизни. Сновидение всегда потом, после, это вид припоминания, не памяти. Сон припоминается, это как бы другая жизнь, в которой вы побывали, другая, более прозрачная и ясная, чем та, которой живут повседневно. Сон – другая жизнь, вероятно, наиболее подлинная и более реальная, чем та, которую мы привыкли сочетать с бодрствованием и считать единственной жизнью.
На сновидный характер литературы Достоевского давно обращено внимание (А. Ремизов, И. Анненский). Сновидение как жанр и прием: в одном случае, сновидные описания указывают на принадлежность литературы к фантастическому жанру, в другом, ценность повествования возрастает, поскольку сновидным и другим особым состояниям сознания героя придается статус подлинности, истины. Так как устраняется неподлинность психологически объективного описания, недостаточно свободного по сравнению с сновидной реальностью. Причиной сновидной неопределенности текста Достоевского является его отрицательное отношение к идее сознания (шире, самосознания). В выстраиваемой им оппозиции между беспамятством и припоминанием нет места для инстанции сознания. Лишенные памяти персонажи, а к таким, с разной мерой условности, можно отнести Раскольникова, кн. Мышкина, Ивана Карамазова и даже Ставрогина, в решительные моменты повествования находятся в переходном состоянии от беспамятства к припоминанию, и обратно: от припоминания к беспамятству[81]81
Собственно, подобный стиль разработки сна и сновидений известен с немецких романтиков. Несомненно, к Достоевскому он переходит от Гоголя (см. наш прежний разбор темы сна в поэзисе Гоголя). Достоевский напрямую заимствует содержание сновидных сцен у Гоголя, вплоть до совпадения сюжетных деталей, хотя его экспериментирование с миметическими основаниями сна-кошмара сугубо индивидуально. Два вида снов. Один разряд снов – это «сны-кошмары.» (сон Ипполита, например), другие – «сны счастья.» (сон Раскольникова о «Золотом веке»). Но есть еще состояние, которое касается поведения многих персонажей, порой законченно сомнамбулическое, рассеянное, «плывущее». Или тот же сон-притча «Смешного человека». Везде мы находим свидетельства громадной роли сновидческого материала, без которого, надо признать, не было бы литературы Достоевского.
[Закрыть]. Действия (часто «преступные»), совершенные в прошлом, вытеснены и стерты; результат – полное беспамятство. Длительная память отсутствует, есть лишь припоминание, причем материал припоминания переживается так, как если бы то, что реально случилось в прошлом, относилось к другому персонажу, а не к тому, кто себя в данный момент припоминает. Часто припоминается то, что еще нужно вспомнить, т. е. проделать трудную работу воспоминания, говоря языком психоанализа.
Здесь возможно обновление нашего вопроса о сновидном опыте. Правомерно спросить: а не происходило ли то, что припоминается, во сне и не было ли оно припоминанием того, что никогда не случалось в действительности? И где гарантии реальности происходящего, если она подтверждается лишь через нестойкую и случайную память припоминания и больше ничем другим? Тот же Вельчанинов из повести «Вечный муж» жалуется на потерю памяти, удивляясь между тем своей усиливающейся способности к вспоминанию далекого прошлого, забытого и вытесненного:
«Вельчанинов давно уже, например, жаловался на потерю памяти: он забывал лица знакомых людей, которые при встречах, за это на него обижались; книга, прочитанная им полгода назад, забывалась в этот срок иногда совершенно. И что же? – несмотря на эту очевидную ежедневную утрату памяти (о чем он очень беспокоился), все, что касалось давно прошедшего, все, что по десяти, по пятнадцати лет бывало даже совсем забыто, все это вдруг иногда приходило теперь на память, но с такою изумительною точностью впечатлений и подробностей, что как будто бы он вновь их переживал. Некоторые из припоминавшихся фактов были до того забыты, что ему уже одно то казалось чудом, что они могли припомниться. Но это еще было не все; да и кого из широко поживших людей нет своего рода воспоминаний? Но дело в том, что все припоминавшееся возвращалось теперь как бы с заготовленной кем-то, совершенно новой, неожиданной и прежде совсем немыслимой точкой зрения на факт»[82]82
Ф. М. Достоевский. ПСС. Том 9 («Вечный муж»). С. 7–8.
[Закрыть] (Разрядка моя. – В. 17.)
Вспоминания идут своей чередой, интенсивно, одно за Другим, в то время как обычная память, столь необходимая в повседневной жизни, становится все более слабой – одни разрывы и выпадения. Так, припоминание устраняет механизм восприятия, который невозможен без так называемой оперативной, «мгновенной» памяти. Другими словами, реальность постигается героем под особым углом зрения, оптическим центром которого не может быть единичный акт сознания (т. е. внимание, воля, стремление к цели). То, что происходит «сейчас и здесь», теряет критерии реальности, как будто и нет возможности понять, что происходит и происходит ли? Что стало причиной поступка, почему именно так герой реагирует или действует? Достоевский невольно отрицает нашу способность как адекватно воспринимать себя, так и осознавать собственные поступки. По его мнению, порочна сама установка на осознание', то, что не может быть осознано в данный момент, не может быть осознано и в другой. Проявления реальности моментальны. Подавляющее число героев романов и повестей Достоевского (Вельчанинов, кн. Мышкин, Иван Карамазов, Ордынов, Раскольников и др.) страдают сходными расстройствами памяти. Именно благодаря этим литературным экспериментам Достоевский смог вести исследование болезненных психических феноменов, появляющихся на границах между сном и бессонницей, забытием/беспамятством и припоминанием.
Как определить доминирующее чувство осознания происходящего – не бессонница ли это? («… во все время своего сна, до самой той минуты, когда он проснулся, он видел во сне, что он не спал и что будто бы никак не может заснуть, несмотря на всю свою слабость»[83]83
Там же. С. 97.
[Закрыть]). Другими словами, наиболее активное состояние сознания, которым наделяет Достоевский подавляющее число своих героев, не является нормальным бодрствованием. А раз так, то реальность ставится под вопрос: «Что со мною, действительно ли это было так, да и произошло ли, не пригрезилось ли мне?» Следовательно, аналитический интерес писателя направлен не к Реальности (с большой буквы), не на осмысленное («мотивированное») применение реалистических техник подражания аристотелевского типа, а на исследование тех сновидных «остатков», которые задерживаются на границе между беспамятством и припоминанием. Вот к этому пограничному состоянию сознания, сумеречному и пассивному, Достоевский имеет наибольшую антропочувствительность, если так можно сказать, ибо в нем отражаются разом как в кристалле все происшествия: те, которые свершились, которые свершаются, и те, которые могут свершиться. Переход между ними во времени стерт настолько, что мы не в состоянии определить, какие из них завершились, какие нет, а какие еще продолжают длиться. Как разобраться, например, с тем: а убивал ли Раскольников или нет? Как узнать наверняка, кто поранил бритвой руку Ордынову, – может быть, он сам пытался совершить суицидальный акт, или все же это было нападение «господина с траурным крепом», преследующего его повсюду, и, конечно, прежде всего в снах. Вот эту зыбкую, словно погруженную в плотную ауру, реальность на-переходе, пограничную, и пытается открыть Достоевский.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































