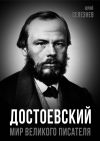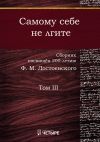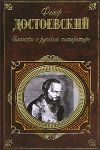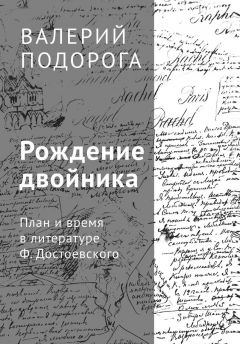
Автор книги: Валерий Подорога
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
4. План общий и планы. Составление
На составление плана оказывают непрерывное давление Другие, дополнительные планы, чьи следы хорошо видимы в черновых рукописях Достоевского. Если план произведенческий можно назвать планом по основанию, то дополнительные – планами по случаю. Это планы темпоральные, но время в них не интерпретируется предсказуемым образом (линейно или иерархически)[95]95
Вот подборка некоторых точек пересечения планов, там, где они поддерживают и даже проникают друг в друга: «Вы знаете, как я выехал и с какими причинами. Главных причин две: 1) спасать не только здоровье, но даже жизнь. Припадки стали уж повторяться каждую неделю, а чувствовать и сознавать ясно это нервное и мозговое расстройство было невыносимо. Рассудок действительное расстраивался – это истина. Я это чувствовал; а расстройство нервов доводило иногда меня до бешеных минут. 2-я причина – мои обстоятельства: кредиторы ждать больше не могли, и в то время, как я выезжал, уж было подано ко взысканию Латкиным и потом Печаткиным – немного меня не захватили». И в другом месте: «Между тем в романе и отдача моего долга, и жизнь насущная, и все будущее заключалось». Или еще: «Только отчаянное положение мое принудило меня взять невыношенную мысль. Рискнув как на рулетке: „Может под пером разовьется!“ – это непростительно». (Ф. М. До
[Закрыть].
(1) План первый, эпилептический, образуется в результате подсчета и частичного описания состояний после припадка; на самом деле это и не план, а график', время здесь движется бросками от припадка к припадку, время аритмическое и взрывное; насколько глубоко и как оно переживается Достоевским – еще вопрос. Тем не менее запись припадков делается для того, чтобы установить хоть какую-то временную закономерность в их циркулярной аритмии. Время здесь накапливается, стягивается вокруг некоего центра ожидания как время близкой катастрофы. Ритмическая кривая постепенно стягивает все моменты повествования в воронку ожидания, накапливает ее энергию, с последующим взрывом и кратким забвением.
(2) План второй – это план сновидный, со своей предсказательной функцией, соотносимый с планом эпилептическим: та же неосознаваемость происходящего, непостижимость образов и их случайность, то же калейдоскопическое расположение картинок, указывающее на то, что произошло или вот-вот произойдет. Отношение между планом сновидным и планом эпилептическим представляется фундаментальным для понимания в целом процесса планирования произведения у Достоевского. Ведь очевидно, что план эпилептический – это план антипамяти; послеприпадочный спазм жуткого страха – следствие того, что страдающий не может себя вспомнить. Заметим, что эпилептический припадок подавляет не общую функцию памяти, а припоминание, только оно, кстати, обеспечивает единство самосознания и преемственность прошлых психических состояний. Припоминание сходно с погружением в сновидный транс. План сновидный, чаще план-картина, не график, и не ориентационный или оперативный план. Сон-кошмар, сон-греза, «сон вещий» – все это разновидности картин (которые рассказчик описывает с мельчайшими подробностями). План, которым не руководствуются, а припоминают, раскрывает глубинный смысл бытия с точки зрения небытия. Сон больше, чем наша способность его припоминать, в нем совершается столько странных действий и событий, что человеческий разум отказывается признать за ними хоть какой-нибудь смысл. Не так у Достоевского: во сне человеческий разум становится свободным. Сон – шифр реального, его еще надо разгадать. Для этого и нужен свободный разум.
В сущности, два этих плана находятся в оппозиции. Сновидение лечит и, насколько возможно, предсказывает и объясняет, наделяет все смыслом (в том числе и Реальность). В то время как эпилептический удар разрушает, заставляет пережить органическую катастрофу потери памяти, атакует время, обезличивает, устанавливает время страха. Эпилептический план планирует время ожидания (и страха).
(3) План третий, долговой; как не заметить его присутствие, когда его расчетами и выкладками полны письма и черновики Достоевского. От будущего к настоящему, где прошлое всегда просрочено, нарушение договора, откладывание его, задержка и т. п., словно есть некий перескок от будущего сразу же к прошлому, минуя настоящее (выплата долга, завершение работы в срок)[96]96
Достоевский заключает контракты всегда вперед, причем планируется не что-то, что могло быть в портфеле, что уже сделано, или план чего как-то уже созрел. Достоевский, писатель – ремесленник, возможно, в высшем смысле, поскольку планировал написание произведения в листах, иногда в прямой зависимости от полученного гонорара. Больше листов – больше денег.
[Закрыть]. Время взаймы, ради отсрочки, время, которое не вернуть.
(4) Следующий план, план игры, собственно, это время, переживаемое игроком на рулетке, почти совпадает с общей техникой планирования и все же является несколько иным. Игра может иметь стратегию, тактические средства и план («план на игру»), и поскольку она их имеет, постольку все планируемое подчиняется целям достижения выигрыша, – правда, выиграть невозможно… Или выигрывают не потому, что «точно» рассчитывают, а потому, что «везет» или «не везет»… Принцип планирования, который так или иначе связан с расчетом якобы последнего «выигрышного варианта», всегда под угрозой со стороны случайного (движение шарика на диске рулетки). Конечно, расчет – важный момент в игре, так как с его помощью создается иллюзия достижения желаемого результата, но это не определяющий момент игры. Игра – это ставка, ставка – это риск, риск – это отношение, переходящее в область удовольствия от игры как выпадения счастливого/несчастливого числа судьбы.
(5) И, наконец, план общий, произведенческий, включающий в себя все предшествующие планы в той мере, в какой они могут совпадать по своим временным характеристикам, насколько они соответствуют основной идее Произведения. Захват времени настоящего (реконструкция «мгновения»). Однако зачем называть эти биографические измерения («биографемы») жизни планами? Ведь они вовсе не планы. Скорее это психический материал литературы: аффективные состояния, частью болезненные, частью возвышенные, частью навязчивые как страсть. Все это верно, но и не совсем. Мы-то как раз и говорим об участии в произведенческом плане особых состояний, которым Достоевский как личность и автор придавал исключительную ценность. Планирование в немалой степени являлось для него ответом, своеобразной реакцией на первоначальный аффект, поляризующий силовые линии жизненного опыта настолько, что сама жизнь оказывалась под угрозой. Естественно, что составление плана в каждом случае планирования будет защитой (миметической) против непредсказуемых изменений, вносящихся в жизнь аффективными состояниями. Если мы говорим о плане, то предполагаем расчет его будущих следствий. А если предположить, что этот расчет находится не вне, а внутри самого аффективного состояния? Другими словами, все процедуры и приемы по составлению плана произведения определяются изначальным аффектом, который не поддается устранению или смягчению, ему можно только следовать…
В планировании возможны две позиции: одни планы управляют жизнью, другие строятся сами, непроизвольно, т. е. не по модели тех «управляющих» планов, что ставит, как нам кажется, вторые в зависимость от первых. Вспоминая Спинозу можно сказать, что есть natura naturata, природа порождающая., и есть natura naturans, природа порожденная. Собственно, первый план, если его понимать достаточно широко, всегда направлен против времени, и он составляется именно для того, чтобы помочь осуществить как можно более точно и строго замысел, причем вопреки случайности времени. Этот план действительно конструирует и, если угодно, порождает реальность, а не столько ее отражает. Если реальность не соответствует плану, то тем хуже для нее. Однако в случае с литературой Достоевского мы имеем дело с Другим планом, порождаемым', он лишь описывает, разыгрывает, пытается связать настоящее (текущее, мгновенное, «секундное») в одной почти невероятной комбинации составляющих его мгновений. Е[лан – всегда post festum, и всегда план всех планов. Для Достоевского единственно возможный план – это план Произведения. Этот план поперечен, ибо является своего рода сечением, пересекающим измерения других планов. Не планировать случайное, а следовать ему; планирует не субъект, а случай. Поясню. Допустим, есть время календарное (хронологическое) и время повествования, вполне соотносимые друг с другом, но несводимые. Эти два времени линейны и длятся по обычной схеме прошлое – настоящее – будущее. Но есть и другое время, некая поперечная временность, когда линейное деление времени отсутствует, когда в одном мгновении настоящего разворачивается игра других мгновений, причем все мгновения равнозначны и не уничтожают друг друга; хотя они случайны в логическом смысле, но необходимы психомиметически. Каждое мгновение подражает другому, претендуя на место его образца или предела. Это время, если так можно выразиться, не течет, а пульсирует, взрывается, искрит мельчайшими мгновениями, оно может замедляться или стоять на месте.
Одни и те же персонажи Достоевского, чуть сменив внешность и историю, чуть изменив направление ума и страсти, переходят из романа в роман, не замечая между собой родства. Повтор одной и той же типовой схемы персонажа (из романа в роман): череда хищных типов, череда истерических женщин, череда юродивых, череда детей и подростков, череда жертв, самоубийц, насильников и садистов. Повторение захватывает процесс планирования персонажных масок, поскольку они сами лишены какой-либо внутренней самодостаточности, их появление, исчезновение, наделение плотью, взглядами, речью и позицией не зависит от них самих (и их «истории»).
Апокалиптика Достоевского (отмеченная многими исследователями), вероятно, следствие попытки миметического захвата потока временности. Полный мим мгновенного (времени). Достоевский как автор/рассказчик создает картину психомимезиса времени, в отличие от планирования времени в порождающей его схеме, когда имитируют (копируют) различные образцы времени, но не само время, чья суть в самодвижении, ацентричности мгновений, распаде. План не выдумывается, он уже есть, ему лишь помогают осуществиться, хотя то, что его порождает, остается неизвестным. Разве откладывание («на время») завершения романа (или его «не окончание»), не подтверждает сказанное? Разве литература не рождается под знаком отложенной смерти, т. е. принципиальной незавершенности? Достоевский всегда пытался противостоять как финальному, завершающему наброску плана, так и требованиям идеального произведения, отрицающего любой план, но побуждающего его развитие в других планах.
ПЛАН
План-разрыв, эпилептический
Забывание
Игра
План-картина, сновидный
Припоминание Дар/долг
План чувственности
План письма
ПРОИЗВЕДЕНИЕ
«При пристальном взгляде на архитектонику фабулы у Достоевского ясно усматривается удивительная пропайка отдельных мотивов ее в общем целого; фабула у Достоевского – тонкое кружево, каждая нить, проплетенная энным количеством нитей, являет ряд петель; все петли слагают отчетливо главный узор, растворенный в детали, но в них не утопленный; множество лиц, образующих видимый лишь кавардак, обстановка начала романа и сброшенных лбами в мятущуюся, суетливую кучу сбежавшихся к центру романа случайных людей, при анализе нитей, связавших их где-то кармически в точке центральной, нарочно пока еще скрытой, в дальнейшем течении романа слагаются в общей концепции друг относительно друга как органы целого; целое, в них проступая, сквозь них, при всей сложности, вычерчено совершенно отчетливо; переливаются в нем органически все составные элементы, и переливаются личности; видим сквозь них всех лишь «ряд волшебных изменений милого лица» одного!
Что на первых страницах казалось вполне кавардаком, вполне пирамидой случайностей, кое-как сброшенных в кучу, теперь раскрывается замыслом, как предысчисленным планом строения, промеренным, взвешенным с инженерной точностью и педантизмом; распределение тяжестей всех впечатлений, нагрузка внимания читателя множеством частных деталей показывает не один только гений, но ум наблюдающий, знающий душу читателя, в ней гравитирующий точку центрального замысла до появления ее; от того она – точка, поставленная после фразы последней, поставленная в центре кружева переплетенных мотивов; тут замысел целого вдруг ясен и точен; тут целое – живо глядящий портрет; в нем отдельные темы, отдельные люди даны в предысчисленности сочетаний; а, b, с, d, е даны: «а» в «abcde», «bacde», «bcade»; и так далее; «Ь» дано в «bacde», в «bdeca»; и так далее, далее; каждый бегущий мотив дан во всех модуляциях переплетения со смежными; каждый участник картины показан в расширенности своего сочетания с прочими, дан в расширении «личности»; вот уж воистину все здесь во всех; по прочтении тома мы видим, что он удивительное сооружение, в котором нельзя вынуть частности, не сокрушив всего целого; темы, подтемы и подподподтемы – центральны, во всех точках центра дана; я не знаю писателя, в ком бы сложение целого было сложнее; не знаю тематики в литературе бароккистее вместе с тем я не знаю писателя, в ком бы так ясно не выступила б центральная точка, или, как говорили недавно, «идея»; «идеи» романов даны
Достоевским в отчетливых, сжатых и алгебраических формулах; и по прочтении романа он в вас отпечатал тенденцию, лозунг; тенденциозный писатель!»[97]97
А. Белый. Душа самосознающая. М.: Канон, 1999. С. 265–267.
[Закрыть]
Согласен со всем, что здесь высказывается А. Белым, кроме его упора на центральную точку в технике планирования. Напротив, думаю, она ацентрирована, скользит и постоянно теряется, «блуждает». Отсюда невозможность «строгого» планирования, так как персонажи ускользают от завершающего определения их характера и не наделяются правдоподобными личными качествами.
Время письма вторгается в процесс чтения. Быстрота письма настолько захватывает сферу чтения, что не дает читателю никакого шанса опомниться, выразить протест или сомнение; читающий, чтобы схватить смысл читаемого, должен двигаться в тексте с той же быстротой, какую предлагает письмо, двигаться без остановок и не ожидать их, надеясь перевести дыхание и осмотреться вокруг, осуществить рефлексию и оценку события, он движется в тексте Достоевского как сомнамбула. Первое, что гибнет в этом опыте чтения, это, конечно, удовольствие от текста, которое, как известно, так зависимо от предоставляемой читателю в классической форме романа возможности прекратить чтение в любой момент, сделать остановку, задержать само движение, чтобы набрать утерянную по отношению к читаемому дистанцию и получить удовольствие от чтения, которое определяется не только содержательными или идейными структурами повествуемого, но и какими-то невзрачными деталями, отдельными образами, чем-то застывшим и сопротивляющимся двигательному распаду.
IV. Слепец
«Третий был слеп. Кто-то уверил его, что там будто бы находится столица России, что туда стянулись интересы империи, что оттуда правят ее судьбами. Под стук извозчичьих дрожек, катающих бледных существ взад и вперед по болоту, под звуки фабричных гудков, в дыму торчащих из мглы труб, – слепец расхлебывал вино петербургских туманов. Он был послан в мир на страдание и воплотился. Он мечтал о Боге, о России, о восстановлении мировой справедливости, о защите униженных и оскорбленных и о воплощении мечты своей. Он верил и ждал, чтобы рассвело. И вот перед героем его, перед ему подобными действительно рассвело, на повороте темной лестницы, в глубине каменных ворот самое страшное лицо, воплощение хаоса и небытия: лицо Парфена Рогожина. Это был миг ослепительного счастия. И в тот же миг все исчезло, крутясь как смерч. Пришла падучая…
Таков был результат воплощения прежде времени: воплотилось небытие. Вот почему в великой триаде хитрые и мудрые колдуны ведут под руки слепца; Лермонтов и Гоголь ведали приближение этого смерча, этой падучей, но они восходили на вершины или спускались в преисподнюю, качая только двойников своих в сфере падучей; двойники крутились и, разлетаясь прахом, опять возникали в другом месте, когда смерч проносился, опустошая окрестность. А колдуны смотрели с вещей улыбкой на кружение мглы, на вертящийся мир, где были воплощены не они сами, а только их двойники.
1. Noli me tangere. Тема плоти-I
В литературе Достоевского с какой-то навязчивой силой проводится запрет на касание. Свидетельством тому – едва заметное присутствие в его прозе гаптической формы чувственности, – одной из важнейших в романной технике «реалистического» изображения. Гаптическое – «воображаемый физический контакт» с теми частями пространства и объектами, которые были уже заранее «затронуты», т. е. мы можем их чувствовать потому, что расположили вокруг себя или они «расположились» благодаря множеству прошлых, вспоминаемых и неосознаваемых телесных следов[99]99
Ср.: «Термин hapticos используется для описания того ментально представленного чувства касания, которое приобретается благодаря целостному опыту жизни и действия в пространстве». (A. Montagu. Touching. The human Significance of the Skin. N.-Y., 1986, p. 16–17.)
[Закрыть]. Как если бы каждая ближайшая к нам вещь смогла вобрать в себя тысячи повседневных касаний, стать естественным продолжением нашего тела. Зрение невозможно без гаптической функции, без опоры на внутренний образ мира. Мы не приближаем к себе того, чего прежде не коснулась наша рука. Гаптическое разновидность пространственного чувства, с помощью которого наделяется смыслом самое ближайшее. Может быть, мы видим и слышим потому, что нас коснулось то, что мы только что сами тронули… Гаптическая функция в восприятии – это способ, каким наше тело вписывает себя в мир, не изменяя ни себя, ни мира.
(1) Испредметность. Слепота Достоевского кажется врожденной, не ослеплением, которым страдает существо сумеречное, ночное, плохо видящее на свету дня. Мы способны видеть благодаря тому, что сами видимы, а для этого необходима полная освещенность. Быть видимым («быть в глазах Другого») и знать это – вот норма реалистического изображения. Внешнее подражание особенно активно в классическом европейском романе середины XIX столетия. Литература Достоевского подобным правилам следует чисто формально и неполно. Нехватка чувственности ей предопределена (и сам автор прекрасно знает об этом). Слепота или, лучше, подслеповатость – это неспособность увидеть происходящее со стороны, т. е. взглядом Другого, отчужденно, не вовлекаясь в событийный поток. Отсюда как результат – неспособность удержать дистанцию. Раз ты не способен коснуться или боишься касания, то касаются тебя. Автор-рассказчик Достоевского походит на слепорожденного, он не видит или, точнее, часто не может видеть. Главное для него не столько касаться или ощупывать, но вслушиваться, иметь обостренную чувствительность к слуховым событиям (шумам, тонам, звучаниям и звукам, гармониям и голосам и т. п.).
А. Ремизов оставил нам замечательное понятие – испредметность: «Задумав рисовать на обоях прямо на стене в столовой – обои желтоватые с выцветшими и золотыми фигурками – я неожиданно для себя обнаружил, что, когда, намусолив палец, я стал пальцем водить по обоям, из пятна показался рисунок: этот рисунок как бы сам выходил из обоев. Мое „испредметное“, значит, подумал я, не только в предметах-вещах и в живых лицах, а также и в самом материале – в бумаге, и для вызова к жизни не требуется никакого внимания – всматривайся, глаз совсем ни при чем, а надо только как-то коснуться. Тайна материала и магия живого прикосновения…»[100]100
А. М. Ремизов. Избранное. М., «Художественная литература», 1978. С. 449.
Здесь не скрыта и другая сторона испредметного – ее промежуточность между неясным образом и той речью, которая образ рисуемой вещи пытается наделить в повествовании живой реальной плотью. При знакомстве с архивом А. Ремизова видно, насколько он был искусен как каллиграф, как мастер фантастической игры тончайшей вязи буквенных комплексов. И самое поразительное, что он рассказывает, опираясь на эту промежуточную форму, соединяющую рисунок со смысловым содержанием слова: рисуночное, каллиграфическое и литературное (смыслообразное), почти сливаются в одной испредметной сущности вещи. Каждая буква, слово или фраза имеет свой рисунок, который меняется в зависимости от того, что он отражает (или должен в себе отразить): буква М во фразе «страшен Медведь-шатун» будет иметь иной каллиграфический стиль, нежели М в слове «кипящее Море». Буква становится реальным персонажем: несколько букв образуют слово, а несколько слов – фразу, визуально активную, но не произносимую или произносимую, но с другим акцентным и ритмическим обликом. Мне кажется, что в термин письмена Ремизов вкладывал подобное троякое значение. Буква в качестве каллиграфически представленного образа предмета и есть испредметность. В таком случае каждая прибавленная к букве буква не должна исказить первоначальный смысл. И даже полное слово всего лишь каллиграфически развитая форма буквы. Над каждой фразой витает «душа», каллиграф лишь угадывает ее отдельные черты, и претворяет. Это, вероятно, помогает Ремизову довольствоваться малой формой письма, ценить ее превосходство над длинной и неопределенной синтаксически фразой литературы Толстого или Достоевского.
(См. например: «Азбука эта – печь, покрытая узорными изразцами. К ней-то русской матушке, жались малые дети, обводили пальчиками голубые узоры, смотрели на диковинных зверей – пальчиками обводили: надписи по складам складывали». (А. Ремизов. Россия в письменах. Том 1. Москва, Берлин, «Геликон», 1922. С. 23.)
[Закрыть] Каждый предмет обладает своей испредметностью, можно сказать, телесно-кожной избыточностью. Когда полуслепой рисовальщик, каким был Ремизов, начинает извлекать образы предмета, то он извлекает их не рисовальным приемом – нанесением линий предмета на бумагу, – а пальцами, втиранием собственного телесно-кожного чувства в колеблющийся на бумаге, неустойчивый образ. Ведь видит он не как зрячий, а как слепые – собственной кожей[101]101
Вот, например, отрывок из знаменитого текста Дени Дидро «Письмо о слепых в назидание зрячим». В нем много идей еще не устаревших и сегодня: «Таким образом, Саундерсон видел при помощи кожи. Эта оболочка обладала у него такой исключительной чувствительностью, что можно утверждать, что при некотором упражнении он способен был бы научиться узнавать того из своих друзей, портрет которого художник нарисовал бы нам его руке, и что на основании последовательности вызванных карандашом ощущений он способен был бы сказать: это – господин такой-то. Значит существует особый род живописи для слепых, именно тот, где полотном служит их собственная кожа». (Д. Дидро. Собрание сочинений в десяти томах. Том 1 («Философия»), Academia,1935. С. 251.) Если обратиться к известному трактату П. Флоренского «Иконостас», то там легко заметить многосторонне развитую тему открытия/ вскрытия изображения, его явяенность, не насильственная, искусственная проективность, характерная для перспективной композиции эпохи Возрождения, а подручная, ближайшая, через руку иконописца приходящая…
[Закрыть]. Втирание, которое обнаруживает рисунок: сначала прояляется что-то похожее на акварельное пятно, изображение расплывается, проявляя первые контуры и потом только переплетение линий. В касаниях опознается кожа предмета, не фактурность, сопротивляющаяся касанию, а текстура, которая ждет, чтобы коснулись ее, оставили отпечаток, след, знак, чтобы в предмете открылось то, что на нем было запечатлено благодаря кожной чувствительности, – ради того, чтобы он ожил. Достаточно, подобно Ремизову, провести такой опыт самим, чтобы заметить, как наше рисующее тело проникает в предмет, придавая ему испредметные свойства. Предмет начинает быть испредметным, как только мы вовлекаем его в те линии бега линий рисунка, куда устремляемся сами, где хотим быть… Раз коснуться… и предмет начинает движение, начинает говорить, его «речь» – активация оставленных ранее следов. Касанием обнаруживается испредметное начало любого предмета, так он становится вещью. Пространство комнаты (или кабинета), в котором мы проводим значительную часть жизни, а это ближайшее пространство, переполнено тактильными событиями (и меньше зрительными); все предметы переведены в ранг вещей. Вещь имеет в себе что-то личное, предмет безличен. Доминирующую витальную функцию исполняют пре дистальные ощущения (обоняние, осязание, вкус). Повсюду активна поверхность контакта. Моя комната – продолжение моего телесного мира и от него неотделима, я всегда в центре, а комнатная предметность, включая мое собственное тело, вокруг (легко меняю позиции взгляда: то «перед», то «над» или «сбоку»). Вещь, или предмет ближайший, наделенный особыми значениями бытия (если вспомнить Р.-М. Рильке), часть повседневной магии[102]102
О значении тишины, в которой «покоятся вещи»: Р.-М. Рильке. Флорентийский дневник. М.: С. 137–148.
[Закрыть]. Граница между позицией «я» и предметами вокруг является хрупкой, почти неуловимой, прозрачной; предметы через свое испредметное включены в наши переживания. Ближайшее – и здесь мы «живем» – является испредметным; дальнее, которого мы пытаемся достигнуть, абстрактно и беспредметно. И подобно кромке бытия, испредметное соприкасает внутренние измерения существования с внешними. Человеческие жесты оберегательно-охранительны, они указывают на границы между индивидуальными телами, подчеркивают их непроницаемость. Все разом изменяется, как только они исчезают, а вместе с ними история жизни персонажа, привычки, особенности быта, походка, жесты, улыбка или знакомый прищур глаз. Телесный контур отдельного персонажа становится лабильным, он предполагается, но, фактически, отсутствует.
Кожа, кожная поверхность – вот самое ближайшее к границам мира, последний рубеж, который мы пытаемся сохранить во что бы то ни стало[103]103
D.Anzieu. Le Moi-peau. P., Dunod. P. 34–42.
[Закрыть]. Можно говорить о коже-поверхности как физической границе, которая отделяет внешнее от внутреннего, и отделяет так, что часть внешнего (раздражение) становится внутренним (ощущение), а часть внутреннего – внешним (восприятие). Однако следует заметить, что реальная граница индивидуального бытия не сводится ни к физической, ни к биоанатомической или средовой. Граница – не объект, равный физическому образу черты, оставленной на гладкой поверхности, не межа или порог, а прежде всего экзистенциально ценностное измерение, опоясывающее живой организм наподобие витальной ауры (все другие измерения дополнительны). Вот почему она то блуждает, размывается, то вдруг пружинит, становится тверже кристалла, то оказывается вроде мембраны, которая что-то пропускает, а что-то отражает, отбрасывает. Границу сингулярной, живой формы трудно обнаружить среди ей подобных
Нельзя утверждать, что в литературе Достоевского отсутствует гаптический слой чувственности, скорее он «снят» (в гегелевском смысле понятия «Aufheben»), т. е. ограничен по составу и активности чувственных элементов. Все гаптическое в прозе Достоевского кажется неустойчивым. Разве не очевидно, что перед нами мир тусклых и невзрачных декораций, безличных и трафаретных? Да видим ли мы их? Да и нужно ли это литературе Достоевского – видеть? Пустые знаки реального: раскрашенный задник, два-три цвета, детали без ясной физиогномической выраженности, театральная условность описываемого. Нет перспективности, глубины, благодаря которым фигура героя смогла бы проявить телесный объем, а вещь – получить место. Под «трафаретным» я понимаю набор готовых литературных клише, одни и те же приемы в описании пейзажа, человеческого лица или фигуры, вещей, их деталей и т. п. Когда слепорожденный с поразительной точностью научается ориентироваться в ближайшем пространстве, то это происходит потому, что на кончиках его пальцев содержится вся доступная мировая информация и соответствующая интенсивность чувственно-телесного переживания. Решающую роль играет рука как активное, поисковое орудие, она отыскивает, ощупывает, захватывает, присваивает, гладит, слегка касается… Декарт считал зрение производным от осязания/ощупывания: прежде трогаем, потом видим; видеть – это мочь ощупывать видимое. В пространственной ориентации слепых главную роль играет именно ощупывание (видит рука слепого, переходящая в посох, которой касаются предметов…). Если же рука устранена и рядом нет «подручного» мира, вещного, и чувство покоящегося, обособленного тела отсутствует, то не может ли слух взять на себя восстановительно-компенсирующую функцию ориентации в мире? Известно, что слушающее тело – ближайшее к тому, что есть, что в «наличии»; но то, что есть, движется, не пребывает в одном месте, тем не менее мы никогда не теряем связь с его изменяющейся локализацией. В каждое мгновение слушаемое тождественно слушаемому, все можно слышать: рев прибоя, удары далекого колокола, оглушающую силу взрыва, спирали восходящих и падающих тонов, чужую речь, переходящую от шепота к молчанию, удары сердца и т. п.
Попробуйте выслушать то, что еще не имеет четкого телесного контура, должной непроницаемости и свободы. Слух синтезирует во времени подвижные звуковые образы, следит за их траекториями, давая возможность чуткому уху почувствовать ту степень их интенсивности, которая необходима, чтобы их различать (от мертвой тишины и еле слышимых бормотаний до пугающей внезапности крика).
Читая Достоевского сегодня, не следует спешить с пониманием; сначала надо учиться слушать, вслушиваться в движение тел, их игру, установить границы мировой сонорной среды его великих романов! Не видеть, не касаться, не воображать себе, что и здесь, как и повсюду, возможен традиционный обмен телами и чувственностью между читателем и героем, способствующий реалистическому отображению мира!
(2) Толстой и Аостоевский. Некогда Д. Мережковский ввел тему плоти и плотского для описания границ литературного мимезиса. Так, он приписывает Достоевскому ясновидение духа, а Толстому – ясновидение плоти[104]104
Д. С. Мережковский. «Толстой и Достоевский». Часть 1–3. – Д. С. Мережковский. ПСС. Том 7. СПб. М., 1912. С. 155.
[Закрыть]. Плоть и дух, плотское и духовное. Якобы Толстой видит за внешним (телесно-физическим, данным в реальном облике персонажа) внутреннее – душевное состояние, склонности и характер, привычки, судьбу; он «с неподражаемым искусством пользуется этою обратною связью внешнего и внутреннего. По тому закону всеобщего, даже механического сочувствия, который заставляет неподвижную, напряженную струну дрожать в ответ соседней звенящей струне, по закону бессознательного подражания, который при виде плачущего или смеющегося возбуждает и в нас желание плакать или смеяться, мы испытываем, при чтении подобных описаний, в нервах и мускулах, управляющих выразительными движениями нашего собственного тела, начало тех движений, которые описывает художник в наружности своих действующих лиц; и, посредством этого сочувственного опыта, невольно совершающегося в нашем собственном теле, то есть по самому верному, прямому и краткому пути, входим в их внутренний мир, начинаем жить с ними, жить в них»[105]105
Там же. С. 156–158.
[Закрыть]. Однако будем внимательны: не перепутаны ли здесь полюса психомиметического эффекта? Во-первых, вовсе не очевидно предположение, что Толстой переходит от внешнего к внутреннему, а Достоевский – от внутреннего к внешнему… Это было бы не только слишком простой формулой мима, но к тому же неверной, ибо когнитивные условия для сравнительного анализа литератур Достоевского и Толстого не были объяснены. Толстой как раз видит внешнее, не переходя к внутреннему: все, что есть в его герое, дано на поверхности – видимо, чувствуемо, буквально, касаемо и ощупываемо. Внешнее и создает эффект внутреннего. Не случайно же у Толстого велико число «ошибок» и «неточностей» при психологической оценке героев: часто внешнее представление персонажа так и не объясняет внутреннего. Толстой – художник-реалист, так можно было сказать о психологе бихевиористского направления, ставящем эксперимент по модели стимул/реакция. Миметическая реакция у него всегда завершена, ее психологическое содержание точно передано. Пластическое явно доминирует над психомоторными образами (движением, жестикуляцией и мимикой). Можно сказать, что внутреннее упразднено, в нем изощренный глаз наблюдателя-психолога не нуждается. Телесность, к которой обращен взгляд Толстого-психолога, вполне определена в индивидуально-родовом, придворном образце и имеет соответствующие его становлению места пребывания: дворянская усадьба, элитарные гимназии, армейская служба (пажеский корпус), война, охота, «жизнь при дворе», балы, дуэли, приемы и церемонии. В этих пространствах «господское» тело проходит индивидуацию, обретает все свои особенные качества: манеры, честь, верность традиции, послушание, достоинство, память и пр. Это и есть истинный образ мужского тела, пластически близкий военному образцу («идеалу»). Образ женского выглядит более упрощенным, ближе к объекту вспомогательного интереса, если так можно сказать. Юность со своей порывистостью, быстротой и неизменной грацией, зрелая медленная красота, уродливость и «некрасивость» оцепеневшей старости – все этапы женского становления, в конечном итоге, являются материалом, на котором основывается для Толстого идея гендерного жертвоприношения. Женщина интересна как личность, если она объявлена жертвой, причем ее жертвенность – это отражение ее глубинной вины, «гнездящегося в ней порока», ведь ей приходится быть женщиной. И, тем не менее, толстовский мир остается миром мужским, т. е. миром тел завершенных, тел-канонов, как «простых», так и «благородных, аристократических»; и надо внимательно следить за тем, чтобы их пластически отлаженная телесная форма не теряла свое значение в понимании хода повествования. Рассказчик легко подминает под себя любого персонажа, не давая ему даже малой возможности быть неосмотрительным или ускользающим от авторского контроля, т. е не быть самим собой. Вот почему в центре этого вездесущего авторского присутствия мы найдем его двойника (героя повествования), того, кто убежден, что обладает извечным правом на собственное тело, на все женское, на детей и слуг, на землю, свое дело, на свободу мысли и поступка.
Во-вторых, Толстой, пытаясь подробным описанием выявить наиболее тонкие элементы человеческой пластики, физиогномики, заставляет язык служить реальному. Историческое правдоподобие – как высшая ценность эпического повествования (и это уже ошибка Мережковского-философа, который находился под обаянием старой метафизики сущности-явления). Но у Толстого, этого, казалось, пантеиста, безбожника и язычника, нет плоти, а только психологически выверенные типы – правдоподобие образов трехмерных физических тел, которые язык стремится описать в их физически достоверной чувственности. Избыток реализма в изображении чувственных реакций замедляет повествование. Плоть лишь названа, но миметически не освоена[106]106
Не следует путать мировоззренческие и идеологические шаблоны с романной техникой письма (например, какая разновидность мимесиса представлена и как используется?).
[Закрыть]. Достоевский, конечно, видит, но его взгляд не толстовский, не пристальный, исследующий взгляд, а как мы уже говорили, подслеповатый, если не слепой[107]107
Не ослепший глаз, как у слепца, а слепой – в том смысле, что не видит то, что должен видеть, и предпочитает в эти моменты поддерживать контакт с реальностью благодаря напряжению слуха.
[Закрыть]. Телесное в литературе Толстого конкретно, видимо в ясных движениях и жестах каждого персонажа (знаки интереса, внимания, движения или сексуальности). В то время как для Достоевского-эротика плоть всегда больше одного тела, или их должно быть по крайней мере два, причем настолько активно взаимодействующих, что и без нее они не существуют как образы. За языком, описывающим реальное, нет еще, собственно, ни тела, ни души, одна иллюзия, что перед нами действительно человеческая плоть, до которой можно дотронуться. И другое дело – толстовские желающие тела: они – собственники своих желаний, каждое из них желает и довольствуется желанием, их желания четко распределены, их не перепутать. Доминируют психологически упорядоченные отношения, а не желание, представляемое в своей непредсказуемой фатальности, трансгрессии, как у Достоевского.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?