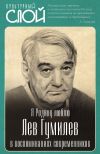Текст книги "Зодчий. Жизнь Николая Гумилева"

Автор книги: Валерий Шубинский
Жанр: Документальная литература, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 26 (всего у книги 53 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]

Осип Мандельштам, 1910-е
У Гумилева (как рассказывала Ахматова Лукницкому) “каждый человек к чему-то предназначался”. Мандельштам должен был написать “поэтику”, а Ахматовой, зорко уловив генезис ее стихов, Гумилев советовал писать прозу. Но после первого же прозаического опыта Ахматовой он взял свой совет назад, а Мандельштам так и не написал учебника поэтики. Как и сам Гумилев.
Любопытно, что Мандельштам не сказал в печати о стихах Гумилева ни слова – до конца жизни. Правда, он включил его в 1923 году в свой список “поэтов не на вчера, не на сегодня, а навсегда”. Но в 1935-м в Воронеже, в разговорах с Сергеем Рудаковым, он “не похвалил ни одного стихотворения Гумилева, кроме “У цыган” (условно)”. Неудачами казались ему “Дракон”, “Костер”. Даже “Заблудившийся трамвай” вызывал у него скептическую усмешку: “Все время помнишь, что действие в Петрограде, путешествие за гривенник… А стихи он понимал лучше всех на свете, но ценил в себе не это, а свои стихи…”
Мандельштам не отрекался “ни от живых, ни от мертвых” (эти слова тоже сказаны в воронежский период), но он был “виртуозом противочувствия” (по прекрасному выражению С. С. Аверинцева), он отталкивался в 30-е годы от Гумилева, как от себя раннего, как от акмеизма в целом.
Сказал “Я лежу”, сказал “в земле” – развивай тему “лежу”, “земля”. Только в этом поэзия. Сказал реальное, перекрой еще более реальным, его – реальнейшим, потом – сверхреальным. Каждый зародыш должен обрастать своим словарем, обзаводиться своим запасом… Все недостаточно, если нет этого. Получается канцелярская переписка, а не стихи… Этого правила не понимали некоторые акмеисты, их последыши, вся петербургская поэзия, вся советская поэзия…
Хотя – добавляет он чуть дальше: “Гумилев соответствовал этому правилу”.
Такой была поэтика Мандельштама в дни его “акме”. Она была далека и от того, что провозглашали акмеисты в 1912 году, и от их практики. Но и сам Гумилев, утверждая свое “я”, незадолго до смерти готов был, кажется, пересмотреть свой взгляд на Анненского. Мандельштаму 30-х был ближе Хлебников (с которым он в 1913 году собирался драться на дуэли); Надежда Яковлевна во “Второй книге”, споря с литературоведами, задним числом полупринудительно возвращала его в компанию Ахматовой и Гумилева – в лоно акмеизма.
Возможно, она была права. Разве не больше, чем зафиксированные Рудаковым, вырванные из контекста реплики, говорит письмо, которое Мандельштам в 1928 году написал Ахматовой: “Знайте, что я обладаю способностью вести воображаемую беседу только с двумя людьми – с Николаем Степановичем и с Вами… Разговор с Колей не прервется никогда”.
Мандельштам, при всем “пафосе ласковости”, не был сентиментальным человеком, особенно в зрелые годы, и подобными признаниями не разбрасывался. Говоря о его отношениях с Гумилевым (некоторых эпизодов мы еще коснемся ниже), нельзя ни на минуту забывать эти слова.
Третьим был Владимир Нарбут, незаурядный поэт и незаурядный человек, не только стихами, но самой личностью своей оставивший след в русской литературе XX века. В двух одинаково известных и одинаково недостоверных мемуарных книгах, относящихся к разным эпохам русской литературы, – “Петербургских зимах” Г. Иванова и романе Валентина Катаева “Алмазный мой венец” – созданы совершенно разные образы этого человека. У Иванова – грубоватый украинский барич, проживающий в Петербурге урожай, карабкающийся в пьяном виде на одного из Клодтовых коней[102]102
Этот “подвиг” в 1920 г. повторил сам Гумилев.
[Закрыть], мечтающий стать “Хабриэлем Д’Аннунцио”; у Катаева – демонический Колченогий… Кроме того, как уже точно можно сказать, Нарбут послужил прототипом трагического русского Штольца XX столетия – Андрея Бабичева в “Зависти” Юрия Олеши.
Нарбут родился в 1888 году в Черниговской губернии на хуторе Нарбутовка в семье его хозяина – захудалого помещика с университетским дипломом. Его старший брат Георгий (Егор) был известным художником, мастером силуэта и геральдистом. Предки Нарбута служили при Мазепе, а уездный город Глухов, близ которого находился хутор, в те дни был столицей Левобережной Украины. Как поэт Нарбут был рожден гоголевской стихией, “Вечерами на хуторе…” и “Миргородом”: жутковатой физиологичностью малороссийской жизни и речи, мрачными поверьями про “нежить” и колдовство. Если в северной деревне Клюева, среди таких объемных и достоверных горшков, ухватов и посевов “овсеня”, тайно жили благовествующие ангелы, то такие же осязаемые и пахучие южные хутора Нарбута густо населяла нечистая сила. После пристойной, но скучноватой книги “Стихотворения” (1910) он, уже в качестве акмеиста и члена Цеха поэтов, выпустил в 1912 году подряд два сборника – “Аллилуйя” и “Любовь и любовь”, бросавших символистскому (и “общедекадентскому”) вкусу вызов более очевидный и дерзкий, чем тогдашние стихи Ахматовой, Мандельштама и самого Гумилева.
Из вычурных кувшинов труб щуры и пращуры
в упругий воздух дым выталкивают густо
и в гари прожилках, разбухший, как от ящура,
язык быка, он – словно кочаны капусты.
А вот стихи, посвященные Гумилеву и как бы вступающие в диалог с ним, с его стилистикой:
Луна, как голова, с которой
кровавый скальп содрал закат,
вохрой окрасила просторы
и замутила окна хат.
Потом, расталкивая тучи,
стирая кровь об их бока,
задула и фонарь летучий —
свечу над ростбифом быка…
“Аллилуйя” была конфискована цензурой (случай по тем временам редкий): по желанию автора книгу, далекую от благочестия, набрали “церковным” (кириллическим) шрифтом. Это сочли кощунством. Тем не менее сборник был прочтен, замечен и оценен. Гумилев в 1913 году писал Ахматовой: “Я совершенно убежден, что из всей послесимволической поэзии ты да, пожалуй, (по-своему) Нарбут окажетесь самыми значительными”.

Владимир Нарбут, 1910-е
К тому же году относится история, которую описал (на сей раз почти не соврав) Г. Иванов: Нарбут стал на некоторое время редактором “Нового журнала для всех”, непритязательного марксистского издания, и начал обильно заполнять его стихами и прозой своих друзей и знакомых (среди которых, однако, в данном случае не оказалось ни Гумилева, ни Ахматовой, ни Мандельштама). Три месяца спустя он, обанкротившись, продал журнал первому, кто пожелал его купить. Скандал разразился, когда оказалось, что новый редактор, А. Гарязин, – активный член Союза русского народа[103]103
Позже, когда журнал снова сменил редактора (1914), тон в нем стали задавать эпигоны акмеизма (М. Моравская, Н. Бруни). Ахматова и Гумилев, однако, периодически там печатались.
[Закрыть]. Впоследствии, надо сказать, издательская деятельность Нарбута была не в пример более успешной. Но это было уже после 1917 года.
Еще накануне Октябрьского переворота Нарбут, живший на своем хуторе, вступил в партию большевиков и вскоре стал (в масштабах Глуховского уезда) видной политической фигурой. В начале 1918 года на него было совершено покушение; погиб младший брат Нарбута, сам поэт потерял кисть левой руки и охромел, навсегда став “колченогим”. В последующие два года он объехал чуть не весь русский Юг; в Воронеже издавал журнал “Сирена”, где печатал Блока, Ахматову, Мандельштама, Пастернака, Есенина; в Екатеринославе попал к белым и под угрозой расстрела подписал обязательство отказаться от большевистской деятельности, сыгравшее в его судьбе роковую роль; в Одессе возглавлял РОСТА, сблизился с молодыми писателями “Юго-Западной школы”, стал их учителем и покровителем; у одного из них, Юрия Олеши, увел молодую жену, красавицу Серафиму Суок… Среди всей этой бурной жизни Нарбут выпустил еще три книги стихов, среди которых, “Плоть”, – лучшее из написанного им.
Но, переехав в 1922 году в Москву (и постепенно перетащив туда всех своих одесских друзей – Бабеля, Багрицкого, Олешу, Катаева…), Нарбут писать стихи перестал. Не до того было: он создал и в течение шести лет возглавлял крупнейшее издательство страны “Земля и фабрика”. Администратором он оказался блестящим, но закончилась его деятельность скверно: конкурент, директор издательства “Круг” Воронский, раздобыл документ, подписанный Нарбутом в Екатеринославе, и в результате директора “Земли и фабрики” исключили из партии и сняли с должности (вскоре такая же судьба постигла самого Воронского – за участие в троцкистской оппозиции). Нарбут снова занялся литературой и занимался ею (с неохотой, тоскуя по настоящему делу) до 1936 года, когда его арестовали и отправили на Колыму. Там, в лагере, он был счетоводом, ночным сторожем, ассенизатором. Весной 1938 года его не то утопили в Охотском море вместе с целой баржей непригодных к работе заключенных, не то расстреляли. Его письма жене из лагеря поразительны сочетанием деловой практичности и обстоятельности (перечень продуктов, которые он просит выслать, – на пол-листа: лимонная кислота, сухие кисели, бульонные кубики “Маги” и т. д.) и несгибаемой убежденности в праве партии послать его, своего солдата-штрафника, в любую точку пространства. “Как мне хочется, дорогая, показать себя на работе, быть стахановцем, всегда первым…”
Такие люди были среди акмеистов, среди людей “нового искусства”. Или такими заново рождала их революция, чтобы, как и полагается, пожрать своих детей.
“Левый фланг” акмеистов наряду с Нарбутом включал Михаила Зенкевича. Уроженец Саратовской губернии (тоже южанин), студент-юрист, он был ровесником Гумилева[104]104
Позднее он стал убавлять себе годы.
[Закрыть] и прожил дольше всех акмеистов – умер он восьмидесяти семи лет. Творчески он был близок к Нарбуту, лично совсем на него не похож: тихий человек, литератор до мозга костей. После первой книги “Дикая порфира” (1912), вышедшей, как и “Аллилуйя”, в издательстве Цеха поэтов, на него возлагали большие надежды, но ничего ни лучшего, ни равного он больше не создал. Зенкевич черпал темы для поэзии в палеонтологии; он первым и едва ли не единственным попытался лирически осмыслить те образы диковинных, почти сказочных животных, которые рисовали естественные науки. Гумилев писал о драконах – Зенкевич писал о динозаврах:
Истлело семя, скрытое в скорлупы
Чудовищных, таинственных яиц,
Набальзамированы ваши трупы
Под жирным илом царственных
гробниц.
И ваших тел мне святы
превращенья:
Они меня на гребень возвели,
И мне владеть, как первенцу
творенья,
Просторами и силами земли.
“Левые” держались несколько особняком и под “акмеизмом” понимали что-то свое. 7 апреля 1913 года Нарбут писал Зенкевичу: “Знаешь, я думаю, что акмеистов всего двое: я да ты. Ей Богу!.. Какая же Анна Андреевна акмеистка, а Мандель? Сергей еще туда-сюда, а о Гумилеве и говорить не приходится”.

Михаил Зенкевич, 1910-е
Потом Зенкевич пытался писать в “футуристическом” духе, подражая то Маяковскому, то Пастернаку, а с известного момента стал тихим соцреалистом второго ряда. Хранил “небольшой архив с автографами”, много переводил английских поэтов, между прочим, одним из первых – Элиота. В 1991-м был посмертно опубликован его роман “Мужицкий сфинкс”, написанный в конце 20-х, гротескное и игровое произведение, среди героев которого – названные собственными именами, но лишь отчасти похожие на себя настоящих Гумилев и Ахматова. К этой книге мы еще в свое время обратимся.
Гумилев, Городецкий, Ахматова, Мандельштам, Нарбут, Зенкевич – таков был к середине 1912 года внутренний круг поэтов-акмеистов, который был частью более широкого кружка, сформировавшегося внутри Цеха поэтов[105]105
См.: Лекманов О. Книга об акмеизме и другие работы. Томск, 2000.
[Закрыть]. Гумилев с Городецким и Нарбут с Зенкевичем были на “ты”, остальные обращались друг к другу тоже на “ты”, но по имени-отчеству. (Речь о мужчинах, к лицу противоположного пола на “ты” можно было обращаться лишь при близком родстве… На “вы” часто были даже любовники – по крайней мере, в богемной среде.) Только Мандельштама, как самого молодого, Гумилев позволял себе называть Осип – тот же, во всяком случае в первые годы их дружбы, звал Гумилева Николаем Степановичем.

Здание, где помещалась “Бродячая собака”. Фотография М. А. Захаренковой, 2007 год
Сблизившись с Лозинским, Мандельштамом, Нарбутом, Гумилев отошел от своего прежнего кружка, от таких своих друзей, как Ауслендер, А. Н. Толстой, Зноско-Боровский. По свидетельству Ахматовой, в новом кругу нравы были подемократичнее: без непременных обедов у Альбера или в “Вене”. Вероятно, у акмеистов было просто меньше денег. Впрочем, Мандельштам (судя по процитированным выше воспоминаниям Лурье) не прочь был пообедать в дорогом ресторане, если кормили в кредит.
5
1912 год был богат событиями – и в жизни Гумилева, и в непосредственно окружавшем его мире.
1 января 1912 года на Михайловской площади, во втором (а не третьем, как пишет Г. Иванов) дворе дома Жаке (ныне д. 5) открылось знаменитое кабаре “Бродячая собака” (официально “Кафе художественного общества Интимного театра”), просуществовавшее всего три с половиной года, но оставившее по себе в русской культуре богатую память. Два зала и буфетная, расписанные Судейкиным, Кульбиным и Белкиным, повидали в своих стенах многих.
В числе членов-учредителей “Бродячей собаки” были А. Н. Толстой, художники-мирискусники Мстислав Добужинский и Николай Сапунов (в том же году утонувший в Финском заливе), Николай Евреинов, архитектор Иван Фомин. Образцом для Пронина, основателя кабаре, служили парижские артистические кафе, прежде всего Closerie des Lilas, но петербургская реальность наложила на проект свой отпечаток.
Описаний “Бродячей собаки” в русской мемуаристике более чем достаточно.

Проект герба “Бродячей собаки”. Рисунок М. В. Добужинского, 1912 год. Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме
На открытие “Бродячей собаки” были написаны куплеты – как предполагается, поэтом Всеволодом Гаврииловичем Князевым, вольноопределяющимся 16-го гусарского полка, служившим в Риге и лишь наездами бывавшим в Петербурге, а в “Собаке” появлявшимся в обществе своего сердечного друга Михаила Кузмина. (Год спустя Князев застрелится, по слухам, из-за несчастной любви к актрисе Ольге Глебовой-Судейкиной, жене художника Сергея Судейкина, и это самоубийство ляжет в основу сюжета ахматовской “Поэмы без героя”.)
Во втором дворе подвал,
В нем – приют собачий.
Каждый, кто туда попал, —
Просто пес бродячий.
Но в том гордость, но в том честь,
Чтобы в тот подвал залезть!
Гав!

Борис Пронин. Рисунок Н. И. Кульбина, 1914 год
“Пролезть в подвал” и впрямь считалось честью и гордостью. С “фармацевтов”, то есть людей, непричастных к искусству, “от флигель-адъютанта до ветеринарного врача” (Г. Иванов), брали за вход по три рубля; кроме того, им требовались письменные рекомендации. Но модернистское искусство входило в моду. И флигель-адъютанты, и мирные буржуа, и депутаты Государственной думы охотно платили за возможность приобщиться к богемным ужасам и извращениям и на одну ночь превратиться в “бродячего пса”.
Чтобы попасть в “Собаку”, надо было разбудить сонного дворника, пройти два засыпанных снегом двора, в третьем завернуть налево, пройти вниз ступенек десять и толкнуть обитую клеенкой дверь. Там же вас ошеломляли музыка, духота, пестрота стен, шум электрического вентилятора… Сияющий и вместе с тем озабоченный Пронин носится по “Собаке”, что-то переставляя, шумя…
Сводчатые комнаты “Собаки”, заволоченные табачным дымом, становились к утру чуть волшебными, чуть “из Гофмана”. На эстраде кто-то читает стихи, его перебивает музыка… Кто-то ссорится, кто-то объясняется в любви… Ражий Маяковский обыгрывает кого-то в орлянку… Князь С. М. Волконский, не стесняясь временем и местом, с жаром излагает принципы Жака Далькроза. Барон Н. Н. Врангель, то вкидывая в глаз, то роняя (с поразительной ловкостью) свой монокль, явно не слушает птичьей болтовни своей спутницы, знаменитой Паллады Богдановой-Бельской, закутанной в фантастические шелка и перья” (Г. Иванов. “Бродячая собака”).
Примерно так же выглядит “Собака” и в описании Бенедикта Лившица. Ахматова в 60-е годы возражала им, доказывая, что “Бродячая собака” была “вполне приличным кафе поэтов” – в отличие от “Привала комедиантов”, открытого Прониным же позднее, в 1916 году.
Но поэзия была для “Собаки” лишь одним из искусств – и далеко не важнейшим. Выступление балерины Карсавиной или вечер исполнительницы романсов Зои Лодий привлекали больше публики, чем поэтические чтения, на которых, по свидетельству самого Пронина, “арбитрами были Кузмин и Гумилев”. Тем не менее такие чтения бывали довольно часто, и Гумилев, Ахматова и их новые друзья вскоре стали завсегдатаями “Собаки”. “Собачьи” бдения акмеистов отражены в гимне, написанном Кузминым к первой годовщине кабаре:
Наши девы, наши дамы,
Что за прелесть глаз и губ!
Цех поэтов – все “Адамы”,
Всяк приятен и не груб.
Не боясь собачьей ямы,
Наши шумы, наши гамы
Посещает, посещает, посещает Сологуб.
Из символистов, кроме Сологуба, в “Собаке” мелькал, наездом из Москвы, “едва держащийся на ногах” Бальмонт. Для Иванова cabaret poétique было местом слишком уж вульгарным, а Блок, презирая праздную богему, предпочитал “Собаке” самые злачные кабаки Петербургской стороны и Загородного проспекта, дававшие доподлинное ощущение “бездны”. Да и сам Кузмин с середины 1913-го бывал в “Собаке” редко.
Гумилев и Ахматова, появляясь в “Собаке”, обычно оставались до утра – до первого поезда на Царское Село (к одиннадцати, официальному часу открытия, в кабаре приходили лишь “фармацевты”: “настоящая” публика собиралась за полночь). Б. Лившиц так описывает их появление:
Затянутая в черный шелк, с крупным овалом камеи у пояса, вплывала Ахматова, задерживаясь у входа, чтобы по настоянию кинувшегося ей навстречу Пронина вписать в “свиную” книгу свои последние стихи, по которым простодушные “фармацевты” строили догадки, щекотавшие только их любопытство.
В длинном сюртуке и черном регате, не оставлявший без внимания ни одной красивой женщины, отступал, пятясь между столиков, Гумилев, не то соблюдая таким образом придворный этикет, не то опасаясь “кинжального” взора в спину.
Это описание относится к началу 1914 года, но то же, вероятно, было и в 1912-м, и в 1913 году (за исключением августа – декабря 1912-го, когда Ахматова бывать в “Собаке” не могла из-за беременности).
Ночи в ожидании поезда коротали, играя в стихотворные игры. Не слишком надежная память Георгия Иванова сохранила плоды одной из них:
Каждый должен сочинить стихотворение, в каждой строке которого должно быть сочетание слогов “жора”. Скрипят карандаши, хмурятся лбы. Наконец время иссякло, и все по очереди читают свои шедевры.
Обжора вор арбуз украл
Из сундука тамбур-мажора.
“Обжора! – закричал капрал,
Ужо расправа будет скоро”.
Или:
Свежо рано утром. Проснулся я наг,
Уж орангутанг завозился в передней…
Что касается “красивых женщин”, то их и впрямь было немало. Именно в “Собаке” 12 января 1912 года на заочном чествовании Бальмонта в связи с 25-летием литературной деятельности, Гумилев познакомился с 27-летней Ольгой Николаевной Высотской, актрисой студии Мейерхольда (и бывшей любовницей великого режиссера). О романе Гумилева с этой женщиной нам известно гораздо меньше, чем о последующих его связях. Во время абиссинского путешествия 1913 года Ахматова нашла в бумагах мужа письма какой-то дамы и по возвращении “с торжеством показала их ему”. Возможно, Высотская и была этой дамой. Высотской посвящено по меньшей мере одно стихотворение – сонет “Ислам”, отразивший “левантийские” впечатления 1910-го или 1913 года. Достоверно известно одно: 13 октября 1913 года у Высотской родился сын Орест, носивший отчество Николаевич. В 30-е годы Высотская пришла к Ахматовой и рассказала ей, что отец ее сына – Гумилев. “Анна Андреевна сразу признала его сыном Гумилева. “У него руки как у Коли”, – утверждала она. Лева был счастлив. Ночевал с Ориком вместе и, просыпаясь, бормотал, Brother” (Э. Герштейн). Мать и сын Высотские жили в провинции, она работала режиссером любительского театра и преподавателем в музыкальной школе, вершиной его карьеры стала должность директора мебельной фабрики. Как ни странно, именно этот сын Гумилева, о существовании которого сам поэт, видимо, так и не узнал никогда, сделал больше других для увековечения его памяти: составил генеалогическое древо Гумилевых, опубликовал “Африканский дневник”.
Осенью 1913 года, когда родился Орест, Гумилев здесь же, в “Бродячей собаке”, безуспешно оказывал знаки внимания некой Мариэтте (по всей вероятности, Шагинян), звал ее в “Гиперборей” – и однажды прочитал с эстрады адресованное ей лирическое стихотворение (вызвавшее стихотворный же ответ ее кавалера, А. А. Книге).
В числе других “собачьих” увлечений была и “какая-то лесбийская дама” – адресат стихотворения “Жестокой”; по предположению Ахматовой, это могла быть сама Паллада Богданова-Бельская – посредственная поэтесса и знаменитая петербургская “вамп”. В “Собаке” же, в ожидании поезда, Гумилев ухаживал за А. Губер[106]106
Возможно, сестрой или женой Петра Константиновича Губера, автора книги “Донжуанский список Пушкина” (1923).
[Закрыть]. “Я поджимала губки и разливала чай… А Николай Степанович усиленно флиртовал…” (Ахматова). Наконец, именно в “Собаке” произошло в начале 1914 года знакомство с Татьяной Адамович, привязанность к которой оказалась одной из самых долгих и серьезных в жизни Гумилева.
В “Бродячей собаке” Гумилев и Ахматова провожали 1912 год и встречали следующий – последний мирный, относительно свободный и сытый, ставший на многие десятилетия недостижимым сном, золотой мечтой России. Современники видели его иным. Акме, цветение, вершина – и предсмертный маскарад на финском гноище: два лица петербургской культуры столетней давности.
Вернувшись домой, Ахматова встретила этот год стихами, вошедшими в хрестоматии:
Все мы бражники здесь, блудницы,
Как невесело вместе нам!
На стенах цветы и птицы
Томятся по облакам.
Это роспись “Собаки”. Стихи, как все помнят, заканчиваются строчками:
А та, что сейчас танцует,
Непременно будет в аду.
Что это – пророчество или высокое поэтическое кокетство? На свете много грехов посерьезней, чем легкая жизнь околохудожественных мотыльков, которых в “Собаке”, наряду с настоящими мастерами, было немало. А настоящие мастера, “каменщики всех времен и стран”, – “достойны рая”, как ответил Гумилев своему “вольному товарищу” два года спустя.
В “Собаке” акмеисты встречались со своими сверстниками, участниками конкурирующего и куда более многочисленного литературного течения – футуристами. 1912 год стал годом рождения русского футуризма как явления не только литературно-художественного, но и общественного, взахлеб обсуждаемого прессой.
Слово “футуризм”, как известно, возникло в Италии, в Милане. Филиппо Маринетти и его сподвижники напечатали свой манифест в “Фигаро” 2 февраля 1909 года. В России об этом течении ходили слухи смутные и противоречивые. Гумилев в одной из рецензий 1909 года с похвалой упоминает о художниках новой школы, которые на несколько лет уговорились не писать обнаженную женскую натуру, чтобы избежать банальности. Но новации молодых футуристов были посерьезнее: предполагалось разрушить синтаксис, убить лунный свет, построить на развалинах венецианских музеев макаронные фабрики.
Вероятно, первый в России человек, взявший слово “футуризм” на вооружение, Игорь Васильевич Лотарев, он же Игорь Северянин, узнал его из газет. Семь лет, с 17-летнего возраста, влачил он долю провинциального графомана (если полупригородную Гатчину, где он жил, можно считать провинцией), издавая за свой счет тоненькие книжечки стихов и рассылая их по редакциям и “знаменитостям”. Константин Фофанов, тоже гатчинец, небольшой, но, что называется, “задушевный” лирик, импрессионист 80-х годов, сверстник Надсона, до известной степени предшественник символистов, тяжелый алкоголик, страдавший приступами безумия, был первым, кто отнесся к нему с лаской. Став всероссийской знаменитостью, “гений Игорь Северянин” объявил Фофанова предтечей своей поэтической школы.
Впрочем, уже в 1911–1912 годы, когда Северянин основал и возглавил эту новую школу – эгофутуризм, его стихи снискали благосклонное внимание символистских мэтров. Брюсов снисходительно благословил его, Сологуб написал предисловие к “Громокипящему кубку” – собранию “поэз”, вышедшему в 1913-м и вскоре ставшему всероссийским бестселлером наравне с надсоновским томиком 1885 года (аккуратно переиздававшимся каждый год чуть не до самой революции). Сегодня признание Северянина символистами кажется гораздо более необъяснимым, чем успех у широкого читателя. Как раз читатели-то таких стихов заждались – курсистки-медички и студенты-политехники, “телеграфисты” и “фармацевты”, декадентствующие светские львицы и начитанные приказчики… Но почему строгий Брюсов, почему аскетичный и сдержанный в собственных стихах Сологуб так влюбились в эти аляповатые образы и наивные словообразования, почему сам Блок сдержанно, но внятно приветствовал “поэта с открытой душой”? Усталость от хорошего вкуса? Или налет “всемирной пошлости людской” жил и в их сердцах?
Гумилев тоже поначалу с живым интересом отнесся к гатчинскому стихотворцу. В 1911 году он отзывался о Северянине так:
Там, где он хочет быть элегантным, он напоминает пародии на романы Вербицкой, он неуклюж, когда хочет быть изящным, его дерзость не всегда далека от нахальства… Но зато его стих свободен и крылат, его образы подлинно, а иногда и радующе, неожиданны, у него есть уже свой поэтический облик…
Спустя два с половиной года, рецензируя “Громокипящий кубок”, Гумилев рассматривает его в принципиально другом аспекте. На сей раз он подходит к Северянину так, как, вероятно, и должно было – социологически:
Уже давно русское общество разбилось на людей книги и людей газеты, не имевших между собой почти никаких точек соприкосновения. Первые жили в мире тысячелетних образов и идей, говорили мало, зная, какую ответственность приходится нести за каждое слово, проверяли свои чувства, боясь предать идею, любили как Данте, умирали как Сократы, и, по мнению вторых, наверное, были похожи на барсуков… Вторые, юркие и хлопотливые, врезались в самую гущу современной жизни, читали вечерние газеты, говорили о любви со своим парикмахером, о бриллиантине со своей возлюбленной, пользовались только готовыми фразами или какими-то интимными словечками, слушая которые каждый непосвященный испытывал определенное чувство неловкости. Первые брились у вторых, заказывали им сапоги, обращались с официальными бумагами или выдавали им векселя, но никогда о них не думали и никак их не называли. Словом, отношения были те же, как между римлянами и германцами накануне великого переселения народов.
И вдруг – о, это “вдруг” здесь действительно необходимо – новые римляне, люди книги, услышали юношески-звонкий и могучий голос настоящего поэта, на волапюке людей газеты говорящего доселе неведомые “основы” их странного бытия (Аполлон. 1914. № 1–2).
Наступление массовой культуры и массового человека – вот что увидел “формалист” Гумилев там, где другие видели лишь эффектные, свежие, хотя и несколько безвкусные образы и ритмы. Но Северянин был даровит, а этому Гумилев придавал большое значение.
Два члена Цеха поэтов первоначально входили в группу Ego – в свиту молодого Короля поэтов: Георгий Иванов и Грааль Арельский. Однако осенью 1912 года и сам Северянин фактически распускает свою группу и на короткий момент, по-видимому, сближается с Цехом. Во втором номере “Гиперборея” напечатано два письма. Первое подписано самим Северянином и сообщает о его выходе из кружка Ego (что по сути означало его ликвидацию) и отказе от сотрудничества с газетой “Петербургский глашатай” – органом эгофутуристов. Второе, принадлежащее Иванову и Граалю Арельскому, гласит: “Кружок Ego продолжает рассылать листки манифеста Ego-футуристов, где в списке членов “ректориата” стоят наши имена. Настоящим доводим до общего сведения, что мы из настоящего кружка вышли и никакого отношения к нему, а равно и к газете “Петербургский глашатай” не имеем”.
18 октября 1912 года вождь эгофутуристов навещает Гумилева вместе с Александром Тиняковым – молодым поэтом, на чьей репутации уже в то время лежал легкий отблеск мрачной скандалезности. Тиняков бывал в Цехе поэтов, общался с Гумилевым и в “Бродячей собаке”, но все же о нем мы подробнее скажем позднее – когда задатки этого человека, достойного пера Достоевского, смогут реализоваться вполне.
Этой встрече посвящен сонет Северянина, начинающийся словами: “Я Гумилеву отдавал визит, когда он жил с Ахматовою в Царском”. Отдавал визит” – значит, Гумилев навещал Северянина прежде. Личные отношения продолжались еще некоторое время. Так, 20 декабря Северянин пишет Гумилеву: “Дорогой Николай Степанович, я только третьего дня встал с постели, перенеся инфлюенцу, осложнившуюся в ветроспу… Я сожалею, что не смог принять Вас, когда Вы – это так любезно с Вашей стороны – посетили меня: болезнь из передающихся, и полусознание”.
Вскоре, однако, контакты Северянина с акмеистами прекратились. Слишком далеки были творческие принципы и взгляды на искусство. К тому же автора “Громокипящего кубка” ждала великая всероссийская слава. Прежние сподвижники по кружку Ego (Шершеневич, Ивнев, Иван Игнатьев и др.) опять составили его окружение. Георгий Иванов остался с Гумилевым. Этого Северянин ему не простил[107]107
Легенда о посещении Северяниным Цеха и об обстоятельствах его ссоры с акмеистами, изложенная Одоевцевой в “На берегах Сены” со слов Иванова, очень смешна, но едва ли достоверна. Будто бы Гумилев вместо обсуждения стихов Северянина начал заинтересованно расспрашивать эгофутуриста о содержащемся в одной из строчек кулинарном рецепте. Взбешенный “гений” покинул собрание.
[Закрыть].
В 1926 году он посвятил бывшему сподвижнику сонет:
Во дни военно-школьничьих погон
Уже он был двуликим и двуличным:
Большим льстецом и другом невеличным,
Коварный паж и верный эпигон.
Заканчивается сонет так: “Он выглядит “вполне под Гумилева”, что попадает в глаз, минуя бровь…”
Жоржик 1912 года, недавний кадет (отсюда “военно-школьничьи погоны”), и в самом деле во многом соответствовал этой характеристике. Ученик сперва Северянина, потом Гумилева, мальчик из свиты Кузмина, знакомый и собеседник Блока, завсегдатай чуть не всех литературных сборищ и салонов, сплетник (“Модистка с картонкой, разносящая сплетни” – так говорил о нем Кузмин, который и сам в этом отношении был далеко не безгрешен), врун, щеголь и бонвиван без определенных занятий, бисексуал, “своеобразным способом достававший деньги на легкую жизнь и кукольные костюмчики” (Ахматова, со ссылкой на Зенкевича), Иванов вызывал чувства в диапазоне от легкой иронии до отвращения. Писал он для своего возраста на редкость бойко (а было ему всего восемнадцать), но в том, что он писал, не было своего лица. Спустя десять лет Иванов был почти таким же; спустя двадцать – может быть, остался сплетником и интриганом, но оказался большим, тонким и умным поэтом. И с учетом его поэзии, в отраженном свете его поэзии жизнь и молодость Иванова выглядят уже иначе… Гумилев прозорливо видел в Жоржике, “модистке с картонкой”, то, чего не видел никто[108]108
Одно время с Жоржиком был нераздельно дружен Мандельштам – они даже, по утверждению Иванова, завели общие визитные карточки. По свидетельству поэта-эгофутуриста, а позднее имажиниста Р. Ивнева, “и тому, и другому, очевидно, нравилось “вызывать толки”. Они всюду показывались вместе. В этом было что-то смешное, вернее, смешным было их всегдашнее совместное появление в обществе и их манера подчеркивать, что они неразлучны… Но вскоре им, очевидно, надоела эта комедия. Осип Мандельштам “остепенился”, а Георгий Иванов начал появляться с Георгием Адамовичем”. Прекращению “вызывающей толки дружбы” способствовал Гумилев, объяснивший своему молодому другу: “Осип, это – не твое”.
[Закрыть].
Любопытно, что о самом Гумилеве Северянин всегда продолжал отзываться с пиететом – и посвятил его памяти, кроме уже процитированного, еще один сонет (приводим только терцеты):
Кто из поэтов спел бы живописней
Того, кто в жизнь одну десятки жизней
Умел вместить? Любовник, Зверобой,
Солдат – все было в рыцарской манере.
…Он о Земле тоскует на Венере,
Вооружась подзорною трубой.
Поначалу более или менее корректно складывались и отношения акмеистов с футуристами (или, точнее, будетлянами) группы “Гилея”, чья история началась со сборников “Садок судей” (1910). В самом конце 1912 года появился второй сборник – “Пощечина общественному вкусу”, принесший гилейцам, или кубофутуристам, широкую известность.