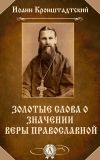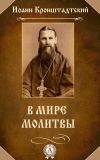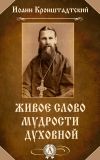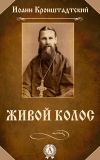Текст книги "Невечерний свет: Рассказы о Божьих людях и святых местах"

Автор книги: Валерия Алфеева
Жанр: Религиоведение, Религия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
«Что есть истина?»

Однажды мы с Митей и Арчилом ходили в Тбилиси. Арчила игумен послал учиться печь просфоры: до сих пор за ними посылали каждый раз под воскресенье, перед литургией, а теперь решили, что проще печь самим. А мы хотели принести свои вещи от родственников Давида.
Уходили впятером – впереди бежали Мурия и Бринька, провожающие всех из монастыря. Мы поднимались по ложам пересохших ручьев, по которым несколько дней назад спускались. Собаки взбегали метров на десять выше и ждали нас, свесив языки, недоумевая, почему мы идем так медленно, если можно бежать быстро.
– Вы их попросите, пусть завтра нас встретят, чтобы мы не заблудились, – предлагал Митя Арчилу.
– Надо идти с Иисусовой молитвой, и не заблудитесь, – отвечал Арчил.
Остановились отдохнуть на знакомой седловине, распугав серых ящериц. Змеи тоже заползают сюда греться на солнце, и я решила, что лучше тут не задерживаться. Но Арчил сказал, что и змей не надо бояться, если ты вышел из монастыря по благословению игумена и перекрестил перед собой дорогу.
Без подрясника, в черной шерстяной рубашке, несмотря на жару, и черных брюках, Арчил – невысокий, узкоплечий, большеголовый, – казался бы незащищенным, если бы не эта ясность его веры, как будто делавшая его выше и сильней.
Все нам с ним удавалось, идти было легко. И на шоссе сразу догнала машина. А собаки долго бежали за нами – не затем, чтобы догнать, но до последних сил проявляя ревность.
Потом нас обдавало ревом машин на мосту, выхлопными газами, говором толпы, жаром расплавленного асфальта: после Джвари город казался непереносимым для обитания.
Тетя Додо раздвигала стол на балконе, расставляла бутылки с зеленой мятной водой, лобио, салаты и зелень. Я видела ее через раскрытую на балкон дверь.
Мы сидели с Тамарой, женой Давида, и говорили на интересную для обеих тему – о нем. Не без тайной гордости она рассказывала, что он окончил геологический институт, был ведущим специалистом, прожигателем жизни и светским львом. И вдруг, представьте себе, ушел чернорабочим на ремонт собора, потом вообще в монастырь. Тогда она считала, что ее жизнь загубил какой-то игумен, мечтала вырвать ему бороду.
Невысокая, с легкой фигурой, светловолосая и кареглазая эстонка с милым лицом, наполовину прикрытым модными очками с голубоватыми стеклами, она выглядела слишком молодой для матери троих детей, слегка аффектировала свои кровожадные намерения, но и смягчала их юмором. Она равно гордилась тем, что Давид был светским львом, и тем, что он едва не стал монахом.
А я знала, что с молодости он глубоко переживал мысль о смерти. Чаще всего люди стараются не помнить о ней, и для них тень вечной ночи не обесцвечивает временные земные радости, хотя мне трудно представить себе радости, которыми можно так беспробудно насыщаться. Но Давид относился к меньшинству, для которого бытие требует оправдания высшим смыслом, и его встреча с игуменом Михаилом не была случайной.

Монастырь Джвари
Здесь, на нейтральной полосе, у тети Додо, Тамара впервые увидела игумена: он с Давидом приехал из Джвари, а она прибежала, как разъяренная львица.
– Мне раньше по глупости казалось, что верующими становятся от какой-нибудь недостаточности. Смотрю, отец Михаил ходит прямо, рослый, сильный. Умный… Вижу, что он все про меня знает. Я даже злилась, что он меня насквозь видит. И говорит спокойно, мягко: «Давид будет хорошим монахом. Но сможете ли вы одна вырастить хороших детей? Может быть, вы оба погорячились?..» Он мог бы его постричь – и конец, был бы ему хороший монах. А я сижу робко, из львицы превратилась в завороженного мышонка… Еще не могу поверить, что это он мне мужа обратно привел.
– Ну, скажем, я сам пришел, – вмешивается отец Давид и предлагает перейти к столу.
Вернулся с работы младший брат Давида, Георгий, и наше застолье затянулось до вечера.
Удивительный мир окружал нас в этой семье. Георгий – родной брат Давида, но сын тети Додо, что оказалось возможным благодаря необычайной любви, связывающей родственников. Двадцать восемь лет назад мать Давида ждала третьего ребенка. А ее кроткая сестра Додо с мужем были бездетны, и Додо пролила много слез, прося у Бога сына. Отец и мать Давида решили возместить жестокость природы своим милосердием и предназначили новорожденного в подарок сестре. Так наполнилась чаша семейной жизни тети Додо. А когда Георгий подрос и узнал о своем происхождении, он тоже не был им опечален – он считал, что ему особенно повезло: у каждого его приятеля по одной матери, а у него – две, и обе его очень любят. Одна потому, что получила его в нечаянный и поздний дар; другая потому, что оторвала от себя в жертве любви.
И Давид приходит к тете и брату как домой, приводит друзей обедать. Так он и нас привел в первый наш день в Грузии.
Мы познакомились в кафедральном соборе: здесь он начал чернорабочим, здесь его рукоположили и оставили служить. А мы только слышали его имя от знакомых. Сидели с ним на скамейке у собора и говорили о Боге.
Потом началась и кончилась вечерня. Отслужив, отец Давид, вышел в подряснике и с крестом: «Ну, пойдемте». Так мы пришли к тете Додо, а потом приходили каждый день, пока не отбыли в Джвари.
Грузия началась для нас как чудо и праздник, и он еще длился.
Тетя Додо показала нам, что такое аджапсан-дали. Мы ели это пряное блюдо и постные пирожки и после знойного перехода выпили по шесть чашек чая с вишневым вареньем. А тетя Додо только улыбалась, приносила, уносила, наливала и с тихой радостью предлагала налить еще.
Нам было хорошо вместе в этот день, как и раньше. И мы говорили о вере, о священстве. Отец Давид рассказывал, что он и представить не мог, как это даже физически тяжело – в неделю дежурства по храму весь день крестить, венчать, отпевать, какой полной отдачи сил требует эта работа, но и какой мир нисходит после нее.
А Георгий, киновед и кинокритик, спрашивал, как я считаю, можно ли служить добру средствами мирского искусства. Я отвечала, что кино вообще чаще всего несерьезное дело, а ведать тем, как им занимаются другие, еще менее серьезно. И если бы я была мужчиной, я бросила бы всякое искусство, ни на минуту не задумавшись: любое наше занятие имеет сомнительную ценность, а священник соединяет небо и землю, Бога и человека в таинстве Евхаристии. И от человека до священника – как от земли до неба.
– От человека – до настоящего христианина, – поправил отец Давид. – Это подвиг и жертва.
А рано утром мы с Митей вдвоем шли по зеленому туннелю из старых вязов, и влажный настил прошлогодних листьев делал бесшумными наши шаги. Изредка вскрикивали, переговаривались птицы, солнце бросало сквозь листву дрожащие пятна света. Мы вышли по благословению отца Давида и перекрестили дорогу. Нам было хорошо идти, и мы пропустили поворот, потерялись и оказались на другой от монастыря стороне ущелья. Но мы верили, что Бог выведет, и Он нас вывел.
Мы вернулись в Джвари как в родной дом, по которому успели соскучиться. Все было на своих местах, только скошенную во дворе траву успели убрать в стожок, и пахло сухим сеном.
К нашему приходу игумен сам нажарил большую сковородку картошки. А Венедикт намекнул еще раз, что к другой трапезе я могла бы что-нибудь приготовить.
Я отправилась к реставраторам за советами и специями. На втором этаже застала Нонну, с тяжеловатым и будто слегка припухшим лицом, с темными глазами под припухшими веками, с сигаретой.

Храм в селении Цаленджиха. Фреска XIV в.
На другой день я сварила огромную кастрюлю борща.
Во время еды Венедикт впервые за последние несколько дней мне широко улыбнулся:
– Сознайтесь, вы просто не хотели готовить нам?
Я не созналась, я сказала, что не умела, но научилась.
Тогда игумен сказал, что человек может гордиться чем угодно; даже тем, что не умеет готовить, – странное дело. А еда как еда, обыкновенная монастырская.
После трапезы он исполнил свою давнюю угрозу, принес мне башмаки и фланелевый халат, старый, выгоревший, как подрясник Венедикта, с пятнами краски на спине и предложил в него облачиться.
– Отлично, это то, что надо, – посмеивался отец Михаил, – вы выглядите в нем безобразно. И башмаки не подклеивайте, перевяжите веревкой.
А перед началом службы он подошел ко мне в храме и молча протянул черную косынку.
И в это мгновение, когда он остановился передо мной с застывшей улыбкой и протянутой рукой, – я ощутила смысл происходящего. Этой черной косынкой с тусклыми цветами, грубым халатом, так же как иронией своей и усмешкой, игумен от меня защищался.
Мы вышли после вечерни. Теплая густая тьма обволакивала сладковатыми, дурманящими запахами трав и леса. Над черной землей, над контурами деревьев и гор сияло звездное небо. Светящееся созвездие Дракона, изогнув в половину небесного свода хвост, повисло над нами треугольником головы.
Низко упала звезда, мерцая, как зажженная и брошенная сверху бенгальская свеча.
Арчил зажег в трапезной лампу, и все потянулись на огонек.
Зашел и реставратор Гурам – он в первый раз отстоял вечерню, крестился, когда все крестились, и теперь продолжал начатый разговор с игуменом.
– Но как, как хлеб и вино становятся Телом и Кровью Христа? Этого я не могу понять, а потому и принять…
Из-за решетки окна и в проем раскрытой двери вливалась тьма, и в комнате было полутемно. Венедикт, Арчил и Митя сидели на затененном конце стола, я – на топчане в углу. Гурам стоял, прислонившись к дверному косяку. Только отец Михаил сидел в круге света от керосиновой лампы, тяжело положив на стол руки и опустив глаза. Свет падал слева и сверху, и в глазницах его залегли тени. Мотыльки бились в стекло лампы, их летучие тени метались по потолку.
– Да потому это и таинство, что умом не постижимо… – выговорил игумен, как будто с усилием преодолевая молчание.
Гурам ждал, и остальные молчали.
Тогда игумен продолжил:
– Помните, в Евангелии от Луки Дева Мария тоже спрашивает Архангела: Как будет это? – то есть, как родит Она Сына Божиего? А он отвечает: Дух Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя. Вот и все, что можно сказать. Дух Святой нисходит, чтобы создать плоть Христа во чреве Марии, и Он же во время литургии прелагает хлеб и вино в Чаше – в Тело и Кровь Христовы. А как – и тут, и там тайна…
Я слушала его глуховатый спокойный голос и ощущала тайну, разлитую вокруг нас в этой ночи с ее мраком и светом и в нас самих, в нашей способности видеть, мыслить, дышать, страдать, тосковать о любви и не утоляться на земле никаким обладанием.
Тайна в сотворении мира, в рождении человека, в прорастании макового семени и созревании колоса ржи. Поверхностному сознанию мир кажется объяснимым, потому что оно способно проследить действие тайны, назвать ее словами, набросить на нее сеть определений. Как писал один старец: так ловят в сеть птицу, но сеть остается сетью, птица – птицей, они никогда не станут тождественными, а в остатке и есть живая жизнь.
Человечество, как Пилат, вечно задает вопрос: что есть истина? И отворачивается от Истины Живой, стоящей перед ним, осужденной им на распятие. На этот вопрос Христос и ответил на Тайной Вечери своим ученикам, как никто никогда до Него не был вправе ответить: Я есть Путь, и Истина, и Жизнь. И это сердцевина тайны, из которой и соткан мир.
Поверить в Бога, принять эту Истину, говорил отец Михаил, можно только всем существом без остатка: сердцем, волей, разумом, образом жизни. Что может один разум? Только устранить препятствие к вере, потому что малое самодовольное знание уводит от веры, большое – к ней возвращает.

Архангелы. Кафедральный собор Святой Живоначальной Троицы. Тбилиси
Я раньше не видела такого лица у игумена, разве что когда он выходил из Царских врат. Он поднял глаза, в них почудилось мне тихое полыхание духа, сосредоточенного и углубленного:
– Мы спрашиваем: как? что? Но всякое рассудочное знание, даже богословское – только мертвая формула Живой Истины, только средство. А цель, начало и конец, альфа и омега – Сам Бог, созерцание Его, общение с Ним, уподобление Ему, приобщение к божественной вечной жизни.
Человек – не самобытная жизнь, он только причастен жизни. Бог есть Жизнь Вечная, Источник Жизни, питающий человека, Древо Жизни, растущее посреди рая. Мы – ветки на этом Древе, и если ветвь отсекается, она засыхает.
Все мы без Бога были отсеченными ветвями, как Адам, переставший есть плоды от Древа Жизни, мы медленно умирали. Привиться опять к стволу, чтобы пошли через нас живые соки, можно не разумом, а так же целостно – телом, душой, духом. Так и бывает в таинствах: в простых и зримых формах они подают нам незримую благодать, Я – лоза, вы же – ветви… – и это не символ, для того мы и молимся, и причащаемся, чтобы получить эту реальную силу.
Только в богослужении, в Церкви богословское сознание становится благодатным и животворным. А если Дух Святой найдет на тебя и сила Всевышнего осенит тебя, тогда ты сам узнаешь, как это происходит. И это будет опытом твоей жизни в Боге, а не чужими словами о Нем.
Потом у себя в келье, когда Митя уснул, я сидела за столом со свечой и Евангелием, перечитывала ту главу от Иоанна, где Христос говорит о Себе как о вечном Хлебе Жизни:
Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни.
Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день.
Сколько раз я читала эти слова, но принимала их отвлеченно. И вот теперь они завершились для моего сознания в Тайной Вечери.
И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздав ученикам, сказал: сие есть Тело Мое.
И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов.
И эти же слова произносит священник во время Евхаристии после благодарения Бога и тайных молитв:
Приимите, ядите, сие есть Тело Мое, еже за вы ломимое, во оставление грехов.
Пийте от нея ecu, сия есть Кровь Моя Новаго Завета, яже за вы и за многия изливаемая во оставление грехов.
Диакон, крестообразно сложив руки, возносит над престолом Святые Дары как жертву любви и благодарности Богу. Священник в тайных молитвах просит ниспослать на них Духа Святого.
Те же произносятся слова, и те же самые Дары, которые приняли ученики Христа из Его рук, мы принимаем сегодня из Святой Чаши. Потому что не священник, а Тот же, Кто освятил их два тысячелетия назад, присутствуя на Тайной Вечери – Евхаристии, Сам освящает и благословляет Святые Дары. Нисходит Дух Святой, причастники принимают Тело и Кровь Его Нового Завета.
И этот момент соединения человека, восходящего в покаянии и любви к Богу, и Бога, в прощении и милосердии нисходящего к человеку, – точка пересечения времени и Вечности, центральная точка бытия.
Негромко из-за двери позвал Арчил. Он сказал, что увидел в моем окне свет, а у реставраторов одной женщине плохо, другая просит меня прийти.
Имен женщин Арчил не знал. Мне невольно вспомнился рассказ из жития старца. Приходит к нему монах за советом: женщина который раз предлагает помощь, что ей ответить? «Ты что отвечаешь?» – спрашивает старец. – «Отвечаю: “Спаси, Господи”». – «А она?» – «Уходит и опять приходит». – «И давно она так?» – «Да года три». – «А женщина молодая или старая?» – «Не знаю, я на нее не смотрел».
Эли стояла в темноте у перил террасы, куталась в шаль. Вечером к ним приезжали гости, Нонна выпила вина. Потом вдруг упала, начался приступ, и уже часа два она без сознания. Эли не знала, что с ней, и боялась, что Нонна умрет.
Нонна с закрытыми глазами металась по матрацу, расстеленному на полу, и сквозь сжатые зубы стонала.
Это было страшно. Эли ждала помощи, а я испытывала только ужас перед темной силой, ломающей тело Нонны.

Причащение апостолов. Св. апостол Андрей. Грузия
В трапезной горел свет, и я спустилась к Арчилу. Из медицинских средств в монастыре оказались только градусник и аспирин. Я попросила Арчила посмотреть, спит ли игумен.
Игумен пришел сразу. Опустился на корточки у стены рядом с Нонной, поговорил с Эли по-грузински.
– Можно разбудить наших мужчин и послать их за машиной… – Голос Эли звучал робко.
– Не надо. Нужно только ждать. – Он был совершенно спокоен. – Это пройдет.
– А что с ней?
– Не знаю. Но здесь такое место, где ничего плохого случиться не может.
Вместе с игуменом я дошла до развилки тропинок: одна вела к моей келье, другая – к его. На минуту мы остановились у бассейна.
Все так же мерцало небо над нами россыпями чистых звезд. Густая тьма вокруг шумела кронами деревьев. В бассейне разливались трелями лягушки, и в неподвижной воде плавал светящийся желтый серпик месяца. Лица игумена мне не было видно, только шапочка чернела на звездном фоне. Он растирал в пальцах листок, и я чувствовала слабый березовый запах.
– Это наказание… – выговорил он негромко. – Его надо принять и пережить.
– Наказание за что?
– Она ведь пила вино?
– Немного.
– Не важно, много человек украл или мало. Можно согрешить помыслом – этого вполне достаточно.
Он пошарил рукой в гравии у бассейна, бросил камешек и разбил отражение месяца.
Мне показался чрезмерным его аскетизм – когда-то Христос Сам превратил воду в вино.
Но, может быть, отец Михаил говорил о другом?
Я вернулась к Эли.
Нонна затихла.
Мы стояли у перил, смотрели на небо, на монастырский двор. Лунный луч падал на купол храма. И черная крона сосны за ним бесшумно покачивалась, заслоняя и открывая звезды.
– Вам нравится отец Михаил?
– Очень… – помолчав, ответила она. – Мы ведь жили здесь все прошлое лето. Даже с тех пор они очень изменились: Венедикт стал более духовным, отец Михаил – хотя бы внешне – менее закрытым. Тогда они с нами вообще не разговаривали.

Сошествие Св. Духа на апостолов.
Перегородчатая эмаль. XII в.
– А в церковь вы не ходите?
– Нет…
– Вы не верите в Бога?
– Верю… Но мне пятьдесят два года, поздно менять жизнь.
– Куда мы можем опоздать? Помните притчу о работниках одиннадцатого часа? Хозяин виноградника всем воздаст поровну – тем, кто работал с утра, и тем, кто пришел на закате.
– Я никогда не могла этого понять, улыбнулась Эли. – Разве это справедливо?
– Это гораздо больше, чем справедливость, – это милосердие. Справедливость воздает мерой за меру, как в Ветхом завете: око за око, зуб за зуб. А в милосердии Божием все наше зло утопает, как горсть песка в океане.
– А добро?
– Добро тоже. Поэтому мы ничего не можем заработать, с утра мы приходим или к ночи. Не в воздаяние все дастся, а даром, в дар… как Святые Дары, как сама жизнь.
– Но вы-то пришли к вере давно?
– Совсем нет. И раньше очень сожалела, что пришла поздно, было жаль прежних сорока лет. А теперь я знаю, что их ценой и обрела веру. Без такой долгой жажды не было бы и утоления ее.
– Вы считаете, что уже не сможете потерять веру?
– Я предпочла бы потерять жизнь. Что бы я делала с ней – без Бога?

Черноризцы

Мы стали мало видеться с Митей, только на службе и поздно вечером. Почти весь день я занята в трапезной – чищу, режу, жарю, варю, потом мою у родника посуду. Арчил очень рад, что ко мне перешли его обязанности: все что угодно, только не женская работа. Я от души его поздравила, а он от души принес мне соболезнования.
Правда, мне не на чем раскрыться, продуктов с каждым днем меньше: сетка мелкой картошки в подвале рядом с кельей князя Орбелиани, там же кучками на земле свекла и лук, которые я выбираю на ощупь, в шкафу – чай, вермишель, крупы и варенье. Иногда реставраторы приносят то банки с болгарскими салатами или перцем, то синий тазик с желтыми персиками, то два-три круга свежего хлеба – раз в неделю к ним приходит машина.
А Митя весь день с братией. Каждый раз на службе он читает наизусть «Царю Небесный», «Трисвятое» по «Отче наш» и пятидесятый псалом по-грузински, разжигает кадило.
Ему нравится быть в алтаре. Алтарь совсем маленький, отделен от нас полотняным иконостасом. Присутствие игумена там совершенно бесшумно, а каждый Митин шепот и шорох слышны.
Когда Митя задерживался в алтаре, Венедикт ревниво усмехался и как-то вдруг недовольно сказал: «Димитрий, не шуми!»
Тогда игумен оставил нас с Митей в храме и рассказал притчу о том, как к одному отшельнику пришел царь. Отшельник беседовал с ним, и царь задержался в горах, чтобы прийти на следующий день. Но утром он уже никого не нашел в келье: отшельник покинул ее навсегда. Так надо бояться привилегий и избегать их. Больше Митя в алтарь не входил.
Иногда они устраивают спевки под фисгармонию. Митя играет, а братия поет – игумен, положив локти на фисгармонию, нависая над ней и слегка улыбаясь даже во время пения; Венедикт, прислонившись к стене и заложив за спину руки, с равнодушным видом; Арчил, не сводя напряженного и несколько испуганного взгляда с Венедикта, которому подпевает.
Игумен настаивает, чтобы Митя говорил, кто и где фальшивит. Фальшивит то Венедикт, то Арчил, потому что оба до монастыря никогда не пели и не знают нот, но Венедикт требует поощрения за храбрость. Хотели было выучить к литургии древнюю трехголосную грузинскую «Херувимскую», но никто не справился.
Мы с Митей всегда делились впечатлениями дня, и от него я узнаю некоторые подробности монастырского быта, которые не вижу сама.
Например, игумен часто садится за стол первым, долго ест. А Митя сидит рядом и замечает, что отец Михаил наливает себе в миску половину разливной ложки супа, кладет туда же ложку второго и запивает все чаем. Для рослого мужчины это вообще не еда, а он, выходя, еще скажет: «Ну вот, пришел первый, ушел последний и опять объелся. Так Лествичник и говорит про ненасытное чрево: само уже расседается от избытка, а все кричит: алчу!»
Такие хитрости в стиле монастырской жизни. Когда-то монаха могли поставить на год у ворот, чтобы он всем кланялся и говорил: «Простите меня, я вор и разбойник». Но говорить о себе, что ты обжора и лентяй, или что ты месяц не мылся, – это тоже лекарство от гордости. А чем должен заниматься монах? Молиться, бороться с помыслами и с гордостью. Пока ты заполнен сознанием собственного достоинства, по-фарисейски помнишь о своих добродетелях, талантах, уме, красоте – к тебе закрыт доступ Богу; на уровне жалких человеческих достоинств нет места божественному.
А вот когда ты ощутишь всем нутром, что ничего не можешь без Бога, ни росту себе прибавить хоть на один локоть и ни от одного греха избавиться, тогда ты и воззовешь из глубины. И Он придет и всякий твой недостаток восполнит от Своего избытка и по Своей любви.

Высеченные в скале кельи.
Давидо-Гареджийский монастырский комплекс. VI–IX вв.
И еще одну тайну игумена нечаянно раскрыл Митя.
– Когда я захожу в алтарь с кадилом, отец Михаил всегда сидит. А как-то я карандашик уронил, наклонился… И вижу через щель под царскими вратами – большие подошвы пятками вверх. Через час я опять уронил карандашик, заглянул в щель: опять подошвы от сапог вижу! Значит, он там всю службу простаивает на коленях…
Один раз Митя был в келье игумена. Она оказалась чуть больше нашей, с окном в зелень на склоне. Стол под окном, кровать – широкая доска на ящиках от ульев. К стене тоже прибит ящик от улья – книжная полка. Шкаф с книгами завешен погребальным покрывалом – в постоянное напоминание. В красном углу над аналоем икона Богоматери хорошего письма, зажженная перед ней лампада. Проще и строже не может быть.
– А эта келья мне дороже мира и всего, что в мире… – сказал игумен. – Вот еще построю веранду вокруг, отгорожусь совсем. А гостям пусть отвечают, что игумен спит.
Митя сидел на краю жесткой койки, отец Михаил на низкой скамье у стены. При его росте трудно не смотреть на собеседника сверху вниз, и он старается по возможности встать или сесть ниже, часто садится на корточки, прислонившись к стене, – и смотрит снизу.
Он говорил о монашестве. О том, что это совершенно особое призвание.
– Если у человека есть вкус к монашеской жизни, значит, Бог его призывает. Но даже архиереями могут стать многие. А настоящими монахами – единицы. «Сиди в келье, и она тебя всему научит», – говорили святые. Нужно полюбить это уединение, тишину, глубинную молитвенную жизнь – она и есть жизнь духовная, а не то, что теперь называется этим словом…
А когда они вышли, отец Михаил оглянулся с тропинки на дощатый домик на сваях:
– Но если бы у меня было крепкое здоровье, как у прежних монахов, и я мог вынести зной, холод, питаться травами, я вообще ушел бы далеко-далеко в горы и там жил один.
Об отце Михаиле Митя рассказывает с сияющими глазами:
– Он говорит: если у тебя есть добродетель, но о ней узнал хоть один человек, она обесценена для Бога: ты уже вознагражден за нее на земле. И если ты сделал доброе дело, но рассказал об этом – ты сделал его напрасно.
Еще мы часто вспоминаем, как бесславно кончилось Митино послушание будильника. Уже на второй день нас разбудил Арчил: наши часы со звоном отстали на сорок минут.
– Если случилось что-нибудь хорошее, лучше отнести это на чужой счет, – сказал игумен, – а если плохое, надо поискать свою вину.
– Как я могу винить себя, если часы отстали? – засмеялся Митя.
– А может, ты забыл их завести?
На следующее утро часы опять отстали на сорок минут, и Митя с торжеством понес их к игумену.
– Оправдываешься? Доказываешь свою правоту? – покивал отец Михаил. – Уже поэтому ты не прав.
Будильником опять стал Арчил, он просыпался без часов.
А игумен рассказал, как опасно обвинять другого. Был он на послушании в монастыре. И они с соседом по келье вырезали отличные войлочные стельки. У соседа сапоги пропускали воду, стал он иногда брать их у отца Михаила. А как-то раз он сам надевает сапоги и видит: стелька там гораздо меньше. «Ты что это, – спрашивает он, – наши стельки поменял?» – «Да нет, – говорит сосед, – не менял я их». – «Как же не менял? Смотри сам, была стелька большая, стала маленькая. Или ты ее под свой размер обрезал?» – «Ничего я не обрезал», – отвечает.
Отец Михаил совсем возмутился: год живут бок о бок, и из-за такой глупости обманывать? Выбросил стельки, вырезал другие. Шли дожди, сапоги промокали. Через неделю кладет он на батарею стельки сушить, смотрит – и эти маленькие. Тут до него и дошло, что они сыреют и усыхают, а он из-за них с братом поссорился.
– Кто виноват? – спрашивает он, посмеиваясь. – Стельки?
– Стельки, – весело соглашается Митя.
В мистическом смысле, говорит игумен, все мы друг перед другом виноваты, даже если не знаем за собой вины. А если заглянуть глубоко, то и вина найдется. Поэтому в Церкви есть Прощеное воскресенье, когда все просят друг у друга прощения, есть покаяние, исповедь, смывающая вину. А в мире эта вина разрастается, накапливается, как электричество в тучах, и разряжается на коммунальном уровне – ссорой, на глобальном – войной…
Над Митиной душой отец Михаил имеет все большую власть, и я иногда ревную к нему сына. Может быть, и игумен немножко ревнует Митю ко мне. Потому что мы с сыном вдвоем, а каждый из них одинок.
Однажды я была у родника, а Митя позвал меня к началу службы. Потом вышел навстречу с очень смущенным лицом.

Джвари. Вознесение Креста. Барельеф над центральным входом
– Ты что не идешь? Давай сама следи за временем. А то я зову тебя, выглядывает отец Михаил из храма и дразнит: «Вы посмотрите, стоит на монастырском дворе послушник в скуфье, в подряснике… И кричит: «Ма-а-а-ма!»
Я привыкла считать своего сына мальчиком. А он стал юношей, на днях ему исполнялось шестнадцать лет. Под траурным куполком скуфьи он казался выше; нежные, чистые черты лица определились, почернели брови… На посторонний взгляд он вполне мог сойти за молодого монаха, когда собирал с Арчилом сено на лугу за храмом или вел нашу лошадь.
Игумен и мне как-то сказал полушутя:
– Пора уже вашему сыну идти своим путем. Оставляйте его у нас. А сами идите в женский монастырь, здесь есть недалеко от Мцхеты.
– Сын пока нуждается во мне.
– Сын всегда нуждается в матери. Но рано или поздно он от нее уходит.
– Пусть лучше это будет поздно… И знаете, один писатель мне говорил, что у него было много женщин, но самой близкой духовно всегда оставалась мать.
– Наверно, мать может быть ближе, чем жена. Но не должна быть ближе Бога. И сын для матери – тоже. Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня. А вы, мне кажется, пока Митю любите больше, чем Бога.
– Я просто не разделяю эти две любви.
– Вот я и говорю, что пора разделить…
Венедикта мы больше не видели пьяным, но в последние дни вообще мало видели, только на службах и трапезах. Если мы встречаемся на тропинке, он делает шаг в сторону и молча пропускает меня. Или смотрит сквозными холодными глазами. Мне показалось, что между ним и игуменом тоже легла тень отчуждения.
Однажды Митя зашел к Венедикту в келью: тот обещал научить его вырезать кресты. Посидели, поговорили. Дьякон вырезал панагию из дерева ко дню ангела Патриарха, слушал с рассеянным видом, потом сказал: «Прости, Димитрий, я сейчас в благодати Пресвятой Богородицы, ты мне мешаешь…» Митя пошел к двери, и Венедикт проговорил ему вслед: «А вдруг Она обидится, что я обещал тебе и не сделал?»
Кресты он тоже режет из можжевельника, яблони, липы, груши. Если грушевую пластинку выварить в растительном масле, она приобретает благородный темно-коричневый цвет. Параманные монашеские кресты из грушевого дерева похожи на старинные, и вскоре после нашего приезда Венедикт пообещал нам с Митей вырезать такие. Он показывал и кресты довольно больших размеров, украшенные только округлыми грузинскими буквами. А иногда распятие из светлого дерева он обрамляет темным, так что один крест вписан в другой.
Дня через два Венедикт все-таки принес несколько пилок, укрепил тиски на ящике от улья рядом с нашей кельей. И с отчужденным видом вырезал при нас крестик в несколько минут. Попробовали и мы с Митей. У меня пилка шла вкривь и вкось.
– Это не женское дело… – неодобрительно сказал Венедикт.
Так мне говорили о любом моем занятии, от шахмат в отрочестве до богословия теперь.
– Вы слишком любознательны, – продолжал дьякон тем же тоном. – Все вам надо понять, всему научиться… Для духовной жизни это не полезно: из любознательности Ева съела запретный плод.
Наверное, здесь была своя правда.
Но мне казалось, что не этим он недоволен.
А игумен исполнил мое давнее желание и показал, как плетут четки.
Митя сразу отказался учиться: чтобы сплести один шарик, нужно совершить семнадцать операций, обводя нить сутажа вокруг пальцев, крестообразно затягивая ее в петли, проводя одну петлю под другой, – казалось, это невозможно запомнить.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?