Текст книги "Русский лес"
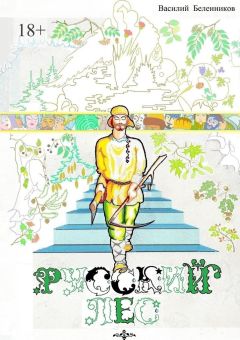
Автор книги: Василий Беленников
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
– … А то идёшь поутру по лесной тропинке. Благодать Божья! – как отец послушным детям, повествовал захмелевший иконник окружившим его боярам, с неподдельным интересом, с переспросами, с шиканьем, боясь пропустить или не понять хоть единое словечко из невнятного, порой, лепета «летуна»: – Солнышко светит, птички божьи поют, ветерок вверху по макушкам ёлок да сосенок гуляет. Цветики разные да разноцветики под ногами дорожку украшают, ковром цветным выстилают.
Так легко вдруг становится пяткам за спиной. И вдруг – глядь, а передо мной по тропинке как будто чурбачок какой катится. Сверху – кочанчик, голова – значит, из стороны в сторону покачивается, ручки-ножки мотыляются. А что ж это такое? Дивуешься. Кто это? А это я, как раз, значит, и есть: по дорожке лесной иду в дальнюю Залесную деревню к божатке. А сам-то на себя смотрю сверху, оказывается. Но не высоко, – лапы сосновые, да дерев ветви высоко подняться не дают.
Бояре опять кто ахает изумлённо, а кто смеётся откровенно. Ну, хорошо, что не плачут и не грозятся, да не дерутся пока.
– А то бывает, узришь цветок какой дивный, прелестный, или зверёнка какого малого – зайчишку, например. Засмотришься да задивуешься… Глядь, а сам-то далеко уже ушёл. Порой, бывает, и из виду уж скрылся. Где теперь искать?.. Тут уж – ноги в руки – скорей догонять! А то неизвестно куда и уйду… В болотину каку забреду ещё, или в яму угожу. Да и людей стыдно: увидят окаянного да неприкаянного что ещё подумают.
Бояре дивуются, недоверчиво раскачивая бородами.
– Тут, брат, врёшь ты что-то, – опять не выдержал, подал голос из-за спины воеводы, Пимен. – Или, уж вправду, блажен есмь, – полез он опять наперёд к летуну, – или лукав чрезмерно. Не понять так-то враз, – начал, оправдываясь, проповедью, помягче, забирать общее внимание окружающих. – Рядом всё это. Где греховность, где святость. Где откровение, где прелесть. Где любовь, где прелюбодеяние. Как разграничить, коль они в обнимку, по одним дорожкам, ходят?!
И закончил, как самому показалось, совсем миролюбиво и благодушно:
– Ну, посиди пока на цепи-то, посиди. Авось Бог вразумит нас, что с тобой делать. Не понять пока. Различить одно от другого трудно. А порой – и невозможно!
Даже самые заинтересованные бояре противоречить святому отцу не решились… Только боярин Дерды-Мороз, слева с «рабочего своего места», вставил, благочинному в продолжение, молвя:
– Вот разве, что на дыбе только и «возможно различить»… А, мабуть, батюшка, на дыбку яго? Дак всю блажь, глядишь, как рукой и снимет. Дыба-матушка. Только она… спаситель наш!
Но отец духовный не лыком шит. Такую молнию метнул в подсказчика, что чуть не испепелил, вернее, чуть не превратил Дерды-Мороза в пар водно-воздушный.
– Не богохульствуй и не кощунствуй, сын мой, ибо жариться тебе на костре горючем, адском! имени своему вопреки! Нет нам иного спасения кроме Сына Божьего – Спасителя!!!
Ну, а дыба… дак это всегда успеется. Не уйдёт… это-то. Праздник сегодня. Вот и давайте праздновать будем.
Гости неохотно стали расходиться по своим местам за праздничным столом.
ПобегУтром стражник на воротах доложил: – Как бочку выхлебали, все постепенно к вечеру разошлись, разбрелись, расползлись. Только эти двое остались – старуха и молодица. И прямо прилипли к решётке воротной. Вперились, прямо, взглядом! Я-то избоку вижу, хоть виду не подаю: иногда только переглянутся между собою. Да всё молча как-то… Будто заговор у них какой… Я-то виду не подаю, а сам приглядываю за ними зорко. Уж не задумали ль чего?! Постояли эдак-то. А тут и этот к ним выходит – третий! Тот, что с воеводою, Иван Борисычем, заходил.
Иван Борисович стоял тут же, внимательно слушал. Так внимательно, что будто не он же сам к побегу богомаза руку и приложил!.. Причём, – в прямом и переносном смысле.
Тогда-то поп очнулся в княжеской светёлке, вынырнул из хмельного забытья от того что его бесцеремонно ворухали с боку на бок, выгребая из карманов его мелкую торговлю – всякую всячину – крестики, свечи, ладанки, мощеницы, иконки, медальонки… Ну, всё кроме серебряной и медной мелочи, которые надёжно уже были спрятаны в потайном кармашке. Батюшка перепугался не на шутку и уж совсем было раскрыл рот, чтобы истошно заорать: «Караул!!! Грабют!!!». Но увидев перед самым носом огромный кулак со знакомым перстнем, блистающим чёрным прямоугольным камнем, тут же осознал, кто его «грабит», зачем его грабят и… почему его грабят! Предпочёл шума не поднимать. А всё прикинув на вдруг прояснившуюся голову, чтоб не добрались до его похоронок с мелкой монетой, миролюбиво смиренно подсказал: «В левом потайном, за полой, ниже нижней застёжки (берули?)». Тем и уберёгся от дальнейших предполагаемых неприятностей. Тем и «спасся».
Наверное, это камень чёрный блескучий так на него благотворно подействовал. Не даром же он так взалкал его заполучить! И потому так настойчиво допреж пытался выторговать его у воеводы. Действовал как-то тот камень на него. Или мог подействовать?.. В общем, ключ перекочевал в карман к воеводе, оставив всё остальное богатство карманное попу. И обоим, и попу и воеводе, стало сразу легче. Можно сказать, камень с души свалился! Далее Ганза, в наступающих сумерках, никем не замеченный, отомкнул богомаза. И, чувствуя всё-таки за собой некоторую вину перед ним, сверх меры пересыпал ему в суму звонкой монеты. И, снимая уже окончательно угрызения совести, проводил до самых ворот: «Не серчай уж, что так вышло…»
Ратник продолжал:
– Сам не свой выходит будто. И, смотрю, прямо с ходу – бух перед старухой на колени! Голову долу склонил и тоже – молчит!
Сильно меня напужал, – не иначе заговор у них!.. Тройной… Но Бог милостив, – дальше догадывался и сам себя убеждал стражник (понимая, что иначе разговор происходил бы совсем в другом тоне), – ничего не нашкодили, кажись. Ни словом, ни делом.
Старуха, опять же, – ни слова! Вот чудно!.. Положила руку ему на головушку, ласково так, – благословила, значит. Молодуха под руки подхватила – помогла с колен подняться. И повели его, как телёнка. Одна как впереди ведёт. А друга, молода котора, – сзади… Вроде как подгоняет. Только молча всё. Ни гу-гу! И увели его с собою. А куда, того не ведаю. На тракт вывели да и были таковы.
– А когда утекли-то?
– А вот как только темнеть стало, так и ушли вовсе, больше и не вернулись. Совсем, должно, ушли, – стражник сам того не замечая, что-то предугадывал и домысливал, додумывая исход чудных обстоятельств дела.
– Ну, теперь их ищи-свищи, пожалуй что. Хотя…
И воевода, для отвода глаз, отправил два конных разъезда по дороге за бугор на развилку.
Который разъезд полем пошёл, к обеду вернулся ни с чем. Который лесом – не вернулся ни к обеду, ни к вечеру. Появился к заутрене. Люди и кони все измученные, в грязи болотной, оборванные. Рассказали, что настигли почти путников разыскиваемых. Да леший попутал: хотели сократить, пошли на конях наперерез, да заблудили в лесу непролазно. В болотину угодили.
Больше в погоню никого не отрядили.
– Чай не каторжане утекли, не душегубцы, – молвил воевода, – скорее, наоборот… – недоговорил всё-таки.
– Ушли и ладно, – присовокупил иерей, – меньше смуты в душах православных!
– Ну, так тому и быть, – согласился и молодой князь. – Однако не добро как-то вышло. Ну да Бог воздаст, коль мы недоглядели.
Беглецов оставили на усмотрение судьбы. В розыски больше не подавали. И, казалось, замолчали их. Но не забыли…
Да и слухи стали доходить. И купцы вездесущие, всё сведущие, подтверждали. Живут мол ваши-то «беглые» на севере где-то, в лесной деревеньке. То ли у мери, то ли у веси. Тихо живут, ни шкодно – ни склочно. Смирно. И по прозванью тоже – Смирновы. И в церковь ближнюю захаживают, почитай, каждое воскресенье, не считая о праздниках. Сомнительно, однако, то ли взаправду, то ли напоказ. Не ретиво ходят, одним словом. Все четверо ходят. От старого до малого.
– Как «все четверо»? Откуда!? О наших ли речь? Откуда четвёртый – довзялся!?
– Дак оттуда, откуда и весь народ. У Игра с Ладою народился. Оладушек… Оладеем назвали.
– Оладей?!.. Оладик, значит… Опять всё не как у людей! Ни лягушка, ни зверушка – оладик, значит. Нате вам! Ешьте его с маслом…
– Дак хорошо, что ещё вареником не прозвали. А то уж совсем некуда было бы… Ни к селу ни к городу! Слепили… Только в печь – да на стол! – кхе-кхекали и крутили бородой другие.
– Сам то, Игр то есть, чудит, небось, всё по-прежнему? – и, «посумлевавышись», но всё-таки не удержавши главного, прорывающегося, интереса. – Что же он-то, по-прежнему?.. всё летает?..
– Не то слово, – не запнувшись, отвечали порой купцы сведущие, – лётает даже! Вроде как только что говорили с ним на припеке у избы на лавочке – глазом ещё не моргнуть – а он уже за выселками… – добавляли с восторженной насмешкой. – Шустрой, аки заяц!
Получалось, вроде как подтверждали… Но говорили явно о другом. Однако уточнять у любопытных духу не хватало. Не прослыть бы самому… сумасшедшим! Не оболваниться бы…
Интерес же всё-таки сохранялся. Помнил народ местный эту странную троицу. Чем-то интерес этот подпитывался. Будто догадывались: не всё это ещё, ещё что-то будет, что-то случится. И вскоре стала доходить молва. Будто Оладей (Оладик), которому лет пять-то от роду всего и было, будто бы чудной, или как назвать по-иному? В Игра, батюшку, видно удался. Нет ему равных даже в старших деревенских ребятишках, ни в салки, ни в прятки, ни в чижа, ни в догонки-перегонки. И прыгает дальше всех, и подпрыгивает выше. Старшим игрокам обидно:
– Поджуливает Оладик. Омманывает.
– Конечно, – поддакивают младшие. – Как прыгнули – все уж повалились, а он летит… А падёт и то, знает, что бабушка у окна за ним смотрит и тут же непременно выскочит то с прутом, то с рушником свитым, то с ухватом или кочергой – что под руку попадётся, то и подхватывает.
И тут уж Оладику никто не позавидует. Так достанется, что ой-ой-ой! Лупит его бабушка чем ни попадя прилюдно и немилосердно. А он только виновато улыбается, да тут же сам и винится. И дальше виновато улыбается, и стоит под побоями сотрясающими, и смотрит на бабушку растерянно-виновато. И сам весь беззащитный, как зайчонок маленький. И… не плачет. А только текут по щёчкам, как яблочки наливные, румяным слёзы чистые, в горошину.
Ну, «Оладик», в общем…
Да потом сам и подойдёт к ней-то, когда та вроде как остынет:
– Прости, бабушка, я нечаянно, я оступился, я больше не буду.
Ну, да видно, бьёт не шибко больно, или не доходит до него боли той от ласковой бабушкиной руки… Ведь не во вред бьёт, на пользу только. Чтоб не поджуливал, не заносился. Чтоб другим не завидно было.
Вот и лупит «Оладика», «как крутое яичко». Пожалуй что ни за что. Тут не позавидуешь – точно! Вот и летит пострел, смышлёныш, после бабушкиной хворостины очертя голову, дороги не разбирая, с глаз досужих долой, перескакивая мимоходом через скатку брёвен у прясла, легко прошмыгивает через собачью дыру в заборе (а мог бы тот забор легко перемахнуть, но только не на виду у бабушки Нестерьи). Мчится со всех ног за бани, в огород, на капустные грядки. К маме… Туда, где мама его и нашла – среди капустных кочанов.
А мама?..
Мама увидит, отбросит мотыгу, тянет руки к «радости своей долгожданной», подхватывает на ходу со всего бега на руки, целует, тискает «свою радость», «своё ясно солнышко» и… подкидывает легко, как пушинку, а потому – высоко, вверх! А потом ждёт… опять на руки.
Ах, эти ласковые мамины руки… Куда от них денешься?! Куда улетишь?!
Мама Лада легко, как мотылька бестелесного, ловит снова, снова тискает-целует:
– Ты моя радость, ты мой Оладушек, ты мой крысёныш сладенький!
Да, «крысёныш»… Хорошо хоть, что не поросёнок. У мамы носик с чуть заметной горбинкой, у Оладека – горбинка заметная. Делающая детское личико похожим на крысиную мордочку. Бабушка радуется:
– Бог милостивый дал Оладушку нашему во спасение этот носик. Чаянием благодати наделил.
Не знает бабушка – не родная она им, – что и у мамы в детстве такой же носик крысиный был. Да выправился папиной любовью. «Папина доця» Ладушка была. К девичеству зацвела красавицей прелестною. И к радости, и к горю. Погубила красота эта да татарский клинок всю её семью: родителей и двух братьев.
ЛадаУж, казалось, далеко в лесах укрылись от степи дикой, хищной, узкоглазой здешние русские поселения. Ан нет, оказывается.
Мужики в деревне, где проживала семья Лады, стали за мирной жизнью забывать дела ратные. Успокоились. Мечи в ножнах позаржавели, луки, стрелы порассохлись, латы, колчаны кожанные в закутах позаплесневели. Безоглядно предались мирному труду. Разнежились. Потеряли острастку, оглядку. Немногочисленная охрана на кордонах крайних деревень, на вышках если не спала, то бражничала, или разбредалась по делам своим. Насущным. Было чем заняться каждому в своём хозяйстве. Добралась весна и до мест здешних, заповедных. Посевная на дворе. Каждый старался, как мог, на своём поле, в своём огороде, на своих делянках. Те же дела, хлопоты и у ближних северных соседей. Не до ссор, не до вражды, не до бранных дел! Весна, посевная всем диктует свои законы. Всех успокаивает, примеряет. Временно, конечно. Время пристало, день – год кормит! Страда, одним словом. О степи, к тому времени знойной уже, пыльной, злой, хищной, кровожадной, никто и не думал. Не было к тому никаких особых причин.
Ну – да. Южнее лилась кровушка русская горячими потоками, но кто ж знал, что докатится эта беда до мест северных, заповедных?! Что достанет лютая степная конница краем чёрного крыла своего мирные лесные деревни. Налетит, истребит, исковеркает, испоганит, предаст огню нажитое тяжёлым крестьянским трудом.
Отец с сыновьями, братьями Лады, сеял рожь на опушке леса на своём поле. День был солнечный с утра, безветренный. Разбороненная под засев земля парила. Рядом, на своей ниве, копошилась немногочисленная родова деревенского старосты. Работалось ладно, споро. Время благодатное упускать нельзя. Тут, как говорится, куй железо, пока горячо! Дело шло к полудню и пора уж было начинать сам, собственно, сев. Вот-вот должна была подъехать на подмогу и женская половина семьи – мать с дочерью. С готовым, наверное, к тому времени обедом. Отец уж несколько раз оборачивался на выбегающую из-за перелеска полевую дорогу, не едут ли… Но телеги с домашними всё не было, а вместо ожидаемого стало подниматься, поначалу беззвучно, жуткое чёрное облако из-за перелеска над сокрытой за ним родной деревней. Потом уж стали доноситься дальние крики, гомон, грохот, гам. Всё вдруг собой перекрыли вопли, свист, гики. Мгновение спустя ударил деревенский набат – истово заколотили битой в подвешенную на цепи железягу. Отец с сыновьями остолбенели. Нет, это не пожар, если бы… беда пришла, похоже, смертная.
Староста уже нёсся с гиканьем на своей телеге от своей делянки. Отец со старшим сыном кинулись наперерез, – свою лошадь ловить, да запрягать было недосуг. Попутно хватали, что под руки придётся. А пришлось – грабли да топор… На ходу попрыгали в притормозившую бричку, и ходу! Младший сын кинулся ловить, взнуздывать своего Карька.
А в родной деревне, открылось с пригорка на спуске, – разор и пламя бушует уже вовсю, из конца в конец! По деревне носятся всадники с чебуками, с копьями, со смоляными факелами. Избы, дворы, хлева полыхают, скот орёт. Девки, бабы, дети, мужики бегут кто куда, к реке, к озеру, в лес. А кто уж валяется у изб родных окровавленный, обезображенный, старики к небу руки простирают, вопиют истошно. Смерть и ужас!.. Конники намётом, нагайками, как скот обезумевший, заворачивают, выгоняют разбегающийся народ на дорогу за деревней. Где их уже ждут-дожидаются другие душегубы с петлями, жердями, кандалами.
Весь ужас происходящего, видно, от возницы передался тяглу. С пригорка кони понесли ошалело. Телегу кидало, швыряло, подбрасывало, грозя расшибить в прах и саму бричку и седоков в ней. Понесло, на вылом глаз, прямо в пламя, прямо в ад этот, в улицу деревенскую, растерзанную, полыхающую, окровавленную. Может и пронесло б их и вынесло, да, почитай, у родного порога, как раз посередине уличного пробега телегу так тряхнуло об вывалившееся на дорогу полыхающее бревно, что передок вырвало и вместе со старостой, вцепившимся мёртвой хваткой в вожжи, унесло в пыль, гарь и хаос. Возок при этом так подкинуло на задних колёсах, что он дважды через корму перевернувшись, рассыпав по дороге своих седаков, ударился в угол догорающего сарая, рассыпаясь на доски, подняв кучу пыли, искр, сажи, пепла. Отец, весь избитый, окровавленный, с повисшей правою рукой, но с уцелевшим за поясом топором, всё-таки поднялся из придорожных бурьянов. Невероятным усилием преодолел боль, слабость, дурноту, головокружение. Дикими глазами озираясь в этом хаосе, наткнулся взглядом на затихшего в неестественной позе сына, старшего своего. С родного подворья донёсся душу раздирающий крик дочери. Калитка, сорванная с петель у прясла, ворота нараспашку перекосом. Во дворе чужие кони, в луже крови в растерзанной позе бездыханная хозяйка. В открытом сарае невнятная возня, рык татарский с придушенно прорывающимися воплями дочери.
Кровь бухнула горячим толчком в голову. Хозяин, повинуясь уже охотничьему инстинкту, рванул из-за армяка здоровой рукой топор. Видел краем глаза, как на полном ходу кубарем с Корька сверзся младший сын, метнулся следом во двор, выдёргивая из кучи свежевыметанного навоза вилы. Отец в мятых лапоточках, по-звериному мягко, быстро, в несколько прыжков, с топором наизготовку впрыгнул в проём сарая… Страшный удар… и распятое обнажённое тело дочери залито кровью, сгустками татарских мозгов. Отец с ходу, запнувшись о жертву, опрокинулся через них. Татарва, человек пять, кинулась клинками кромсать его на куски. И упустили как раз момент, когда сын, появившись следом неслышно, как привидение, нанёс свой страшный удар в спину ближайшему головорезу. Но даже выдернуть вилы для второго удара не успел – тут же был изрублен татарскими саблями.
Как не струсил, подросток, по сути?.. Как не смалодушничал?.. А очень просто – за отцом шёл…
Как зелёный парнишка заколол матёрого, прожжённого головореза?.. Не испугался, не спасовал?..
Дак за отцом же шёл… Отцу на выручку, на помощь… А тут и случай так распорядился, что раздумывать да пугаться не оставалось времени. Момент, вернее, – мгновение никак упустить нельзя было, пока они остервенело рубили отца. Глазом не моргнуть, оборотились бы, и роковой случай был бы безвозвратно утерян окончательно. И самому бы не уцелеть, и дело бы доброе не сделать. Конечно, мыслей этих у него в голове тогда, наверное, не было. Видно, работал от отца же усвоенный охотничий инстинкт. Только то и успел, и то едва-едва, что ударить… Зато не промахнулся: сзади, под рёбра… По рукоять самую! За отца, за сестру!..
Не зря парень пропал… А рёв этот ужасающий, звериный нечаянно насаженного на вилы, как прощальный аккорд короткой, но яркой, как искорка, жизни.
Ничего, будут помнить! кто уцелел…
Вот так получилось. За отцом шёл, за отцом и ушёл. По его горячим следам. Неразрывно вместе: отец впереди, сын за отцом…
Лада очнулась поздно ночью. Чутко прислушиваясь к храпу и сапу упившихся кровью живых. Вспомнив всю жуть произошедшего с ней, лютую смерть родных, полежала так-то, не шевелясь, раздрызганная, растоптанная, приходя в себя несколько. Открыла глаза. В сарае уже не продохнуть от дыма, дальний угол краснел угольями, ещё без открытого пламени зачинаясь, наверное, от сгорающей через двор избы. Осторожно огляделась. Кругом тела и трупы. Тела спящих среди трупов. Сознание отказывалось воспринять произошедшее как реальность. Обрывками одежд стёрла с лица и шеи кровь, чужую и свою. Остатки каких-то сгустков, с груди. Кровь, грязь и татаро-монгольскую гадость в низу живота. Тихонечко перевернулась на живот, поднялась на четвереньки, попыталась отыскать взглядом, в опускающихся заволоках дыма, в подсветке тлеющих в углу сарая углей, по окровавленным лоскутам, остатки тел отца и брата. Но ничего похожего не обнаружила. Простилась мысленно с ними и между тел, задыхаясь от дыма, дрожа всем телом, двинулась пополозки к прикрытой, видно на ночь, двери сарая. С трудом отворила за нижний угол. И, еле поднявшись на ноги, уже снаружи, наверное, под спудом пережитого, услышав, как полыхнуло в углу сарая от притока свежего воздуха, обезумев почти, прижала створки ворот и задвинула в скобы запорную балку.
Кто так всё подгадал? Кто воздал за содеянное? Тот же, кто и попустил? Или кто-то другой?..
В подсветах догорающих пожарищ деревни, покачиваясь, поволоклась по едва угадываемой знакомой тропинке в лес.
Поплелась поруганная, истерзанная. Одна-одинёшенька теперь на всём белом свете, без тепла за душой, без крыши над головой. Пошла из последних сил. В лес пошла. Ни «куда глаза глядят», а именно в лес. С одной-единственной надеждой, что на его помощь теперь только и можно расчитывать. Лес родной и скроет, и спасёт, и обогреет, и очистит от мерзости, и накормит, и укроет. Больше, пока, надеяться не на кого. Лес родной, русский лес, русскому человеку совсем пропасть не даст! Так и случилось.
Лада ненадолго затаилась в лесной чащобе, опасаясь обратного набега орды. Пару дней, наверное, как медведица, обустраивала своё логово. Но с голыми руками прокормиться молодой девице в лесу трудно. А кроме того, ночи в лесу ещё были сырыми и холодными. Надо было чем-то укрыть и наготу телесную. Обрывки, уцелевшие на ней, и не согревали, и не скрывали красоту эту роковую. А к тому же была ещё ничтожная надежда увидеть старшего брата живым. Его судьба ей пока была неизвестна. И, отлежавшись в лесу на мху под еловыми лапами, в день третий, ещё в предутренних сумерках, превозмогая страх, предприняла вылазку – осторожно стала пробираться к родной опушке. На рассвете с предлесного пригорка ей предстала картина родных пепелищ. «Как же такое могло вообще случиться?! Люди, ведь, не звери!.. Как бог мог такое допустить?! Почему Спаситель не спас?! Как могла Заступница не заступиться?! Если не для этого, то зачем они тогда?», – крамольная мысль язвила занозой сознание. От жутких воспоминаний изморозь пробежалась змейкой от затылка по позвоночнику. От этого ли или от холода ночного и страха её стало знобить. Слегка, поначалу, а потом забирая всё сильнее и сильнее. И, вскорости, неотвратимо, уже трясло всю, с ног до головы. Трясло неостановимо, необузданно. Руки, ноги, локти, колени, всё тело, каждая косточка ходили ходуном. Словно бы живую душу вытрясало из испоганенного тела. Сладу с этой трясучкой не было никакого. В бесполезных попытках унять озноб Лада упала наземь, свернулась клубком, по-звериному. Листья, сучки лесной подстилки подлипали, подтыкали будто душу к телу, мох пытался согреть. На грани потери сознания она сжималась в комок, пытаясь удержаться от обморока, унять непонятные сотрясания. Но и в таком положении какая-то неведомая сила всё её тело продолжала колотить немилосердно. В этот момент, на грани небытия, она уловила, скорее – почуяла, какую-то неясную перемену в себе. Что-то случилось с ней невнятное. То ли окончательно сломалось, то ли, наконец-то, совпало… Дрожь стала потихонечку уходить, а волны её приступов редеть. Наконец-то она справилась и с этими остатками. Смогла, наконец-то, удивлённо ощущая какую-то перемену в себе, подняться с земли. И, хоть чутко-осторожно, но уже более решительно-отчаянно, наконец, двинулась по тропинке в деревню. В деревне, вернее, в том, что от неё осталось, не только не было заметно ни живой души, но и даже признаков жизни не обнаруживалось. Но всё равно страшно было до жути! И тело её двигалось как бы само собой, от неё будто независимо, диким лесным зверем, вопреки смятению. В голове, теперь ясной, как морозное утро, будто в красных утренних лучах восходящего солнца оттаивала от морозного инея жёсткая жестокая мысль: «Видно, топор и вилы в добрых родных руках, если не перешагивать через природу человеческую, могущественнее и действеннее и Спасителя, и Заступницы. Ну, и самопожертвование любимых, конечно…».
В деревне ни одной избы не уцелело. Посреди завалов дымящихся головешек голыми изваяниями, закопченными идолами, бесстрастно, трубами в небо, как напоминание о вере родной, отеческой, поруганной, торчали русские печи.
В своём огороде, от лесу, стянула с пугала, натянула на себя рванину непотребную. Какой-то полуистлевший сарафан, плат дыроватый. Вошла с огорода на заваленное обгорелыми головешками подворье. Среди ещё кой-где дымящихся головешек, с краю выгоревшего от дома места, – обгорелые останки. Друг подле друга. Сердце гулко ударилось – родные… Все трое, здесь…
За спиной – хруст угольев под шагами. Обернулась со страхом и надеждой. И с отчаянием – староста, как привидение, страшный. Обнял сзади за плечи, уткнулся лицом в Ладины лопатки, затрясся в рыданиях. Запричитал:
– Держись, дочка, мужайся. Одна ты теперь. Мать с отцом и младший перед тобой, старший – на улице, у дороги в бурьяну. Собирай родные косточки. Я помогу похоронить по-людски.
Ну, а этим, – кивнул в сторону остатков сарайного пожарища, – тут видно и место! Зверьё зверьё и схоронит, коли так…
Через час, наверное, появился снова – выкатил из-за перелеска, со стороны делянок, на отца Лады одноконке, под своей лошадью. На подъезде к подворью общими усилиями погрузили закоченевшее тело старшего брата, у двора – поскребушки останков остальных родных. Прихватили уцелевшую в огороде лопату и, опять же в лес, на кладбище, к своим…
Осталось у Лады от прежней жизни на долгую память о своих родных только и всего, что бугорок на лесном кладбище с четырьмя камушками на нём. Двумя – побольше и двумя – поменьше. А потому уж ничего не оставалось, как надеть суму сиротскую на плечо и идти лесными дорожками по глухим деревням на северную сторону, в леса дремучие. От басурман подальше.
Оставлял её староста. Дочкой называл. Спасибо ему, поклон земной за доброту и отзывчивость. Но когда уже решилась, не могла она остаться на этом месте, ни дня более. Как начать снова там, где такое стряслось?! Да где угодно, только не здесь! Родное место опостылело хуже чужбины. Как теперь можно здесь жить?! Не-е-ет!..
Ничего уж больше не привязывало Ладу к прошлой благополучной жизни. Пошла по-миру. От людей не чуралась, но и сильно чужим не доверялась. Да бог милостив…
Иногда говорят: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Хотя кому такое пожелаешь?! Но так получилось… Однако всё воздала ей судьба, а может как раз и – боги лесные, славянские. Теперь для неё уже без оглядки на христианского и его «окружение»…
И мать вторую – бабушку Нестерью – в наставницы определили, и отцовскую любовь постарались восполнить супружеской любовью и заботой Игра, и, в добавок, – Оладушка – «андела во плоти» послали.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































